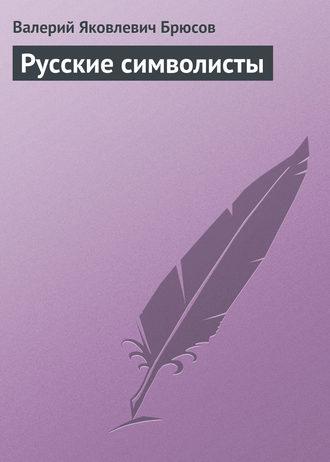
Валерий Брюсов
Русские символисты
«Иван Коневской. Мудрое дитя»[64]
1
Я не знавал Ив. Коневского в детстве. Когда мы встретились первый раз, он был уже студентом (1-го курса). Но, всматриваясь в его духовное существо, в это странное сочетание житейской неопытности с громадным запасом познаний, детского любопытства к жизни с глубиной суждений и речей, я и тогда не мог найти выражения, которое лучше передало бы мое впечатление, как слова: мудрое дитя.
Коневской поражал прежде всего вечной, неутомимой, ожесточенной сознательностью своих поступков. Он был дитя, но сам видел вторым я эту свою детскость, наблюдал себя, изучал на самом себе, как чувствуют в те дни, когда «новы все впечатленья бытия». Он словно не жил, а смотрел на сцену, где главным актером был сам же, словно не действовал под влиянием страстей, а проделывал над своей душой различные опыты. К нему можно применить его стих:
К нам выплыл он пытателем в ладье.
И вся первая поэзия Ив. Коневского, его Juvenilia, которым суждено было остаться единственным образцом его творчества, – есть ожидание, предвкушение, вопрос:
Куда ж несусь, дрожащий, обнаженный,
Кружась как лист под омутом мирским?
Коневской вовсе не был литератором в душе. Для него поэзия была тем самым, чем и должна быть по своей сущности: уяснением для самого поэта его дум и чувствований. Блуждая по тропам жизни, юноша Коневской останавливался на ее распутьях, вечно удивляясь дням и встречам, вечно умиляясь на каждый час, на откровения утренние и вечерние, и силясь понять, что за бездна таится за каждым мигом. Эти усилия у него обращались в стихи. Вот почему у него совсем нет баллад и поэм. Его поэзия – дневник; он не умел писать ни о ком, кроме как о себе – да, в сущности говоря, и ни для кого, как только для самого себя. Коневскому было важно не столько то, чтобы его поняли, сколько, – чтобы понять самого себя. Он сам признается:
И всегда не хотел я людей,
Я любил беспристрастный обзор
Стен, высот и степных областей,
Величавый, игривый узор.
Поэзия Коневского прежде всего – раздумья. Философские вопросы, которыми неотступно занята была его душа, не оставались для него отвлеченными проблемами, по просочились в его «мечты и думы», и его стихи просвечивают ими, как стебельки трав своим жизненным соком. Подобно всем своим сверстникам, провозвестникам «нового искусства», Коневской искал двух вещей: свободы и силы. Но в то время как другие обретали их в «преступлении границ», в разрешении себе всего, что почему-либо считается запретным, будь то в области морали или просто в стихосложении, – Коневской взял вопрос глубже. Он усмотрел рабство и бессилие человека не в условностях общежития, а в тех изначала навязанных нам отношениях к внешнему миру, с которыми мы приходим в бытие: в силе наследственности, в законах восприятия и мышления, в зависимости духа от тела.
В ином отношении можно гордиться наследием веков, которое мы ощущаем в себе. «Еще во мне младенца сердце билось, а был зрелей, чем дед, я во сто крат», говорит Коневской. Он называет свою душу, «насыщенной веками размышлений»; в стихотворении «По праву рождения» он сравнивает себя с безродным селянином и находит себя богаче его, потому что причастен «святому золоту, что нам отцы куют». Но в наследии веков не одно золото: это не только наследие ближайших предков, со всеми их достоинствами и пороками, это и темное наследие отдаленнейших пращуров, может быть, пещерных дикарей, и далее – тех первобытных жизней, которые были ступенями к человеку. Эти темные отголоски былых тысячелетий насилуют волю личности, принуждают ее, делают несвободной. Победить в себе их слепую волю – вот первый шаг к свободе.
В крови моей великое боренье,
О, кто мне скажет, что в моей крови!
Там собрались былые поколенья
И хором ропщут на меня: живи!
Ужель не сжалитесь, слепые тени?
За что попал я в гибельный ваш круг?
Зачем причастен я мечте растений,
Зачем же птица, зверь и скот мне друг!
Естественное, кровное родство человека со всеми жизнями земли делает его «другом» не только птицы, зверя, скота, но и всей природы. Коневской хорошо знал чувство восторга перед всеми проявлениями мировой жизни, перед пышностью и лучезарностью волшебного покрывала Майи. Коневской сплетал дождю песнь «из серебристых нитей», писал гимны ветру («Сон борьбы») и лесу («Дебри»). Он славил само пространство и время: «Вы совершенней изваяний, – простор и время, беги числ!» Его любовь к природе разрешалась в страстных строфах:
А все мила земля дебелая!
Как дивен бедный вешний цвет,
И в сладкой страсти нива спелая,
И щёкот славий – дерзкий бред!
…………………………..
Ах, личность жаждет целомудрия.
Средь пышных рощ, холмов, лугов,
Молюсь на облачные кудри я,
На сонмы вечные богов.
(Слово «целомудрие» употреблено здесь в смысле «целостность», «неделимость».) И в своем последнем стихотворении, написанном всего за три дня до смерти, на палубе парохода, везшего его в Ригу, Коневской опять признал своими вождями – солнце и ветер:
Ветер, выспренный трубач ты,
Зычный голос бурь,
Солнце на вершине мачты –
Вождь наш сквозь лазурь!
Но тут же, рядом с этим умилением пред тайнами земной красоты и из этого умиления – возникало и сознание, что все окружающее нас, все внешнее, – такое прекрасное, такое увлекающее – тоже оковы, теснящие нашу личность. Может быть, и мир, как мы его знаем, мир явлений, лир феноменов, создан человеком, но ведь не мною. Для меня он нечто данное, неизбежное. Не по моей воле знойность лета сменяется осенней сыростью, мразью, не по моей воле синева неба ласкает мне глаза, а холодный ветер леденит меня, я не властен остановить время, не в силах преодолеть мираж пространственности. Если мой дух свободен или может быть свободен, зачем он в этом мире, где скука, где страдания, где зло? «Зачем ты здесь, мой дух, в краю глухих страданий, о, ты, что веровал в блаженство горячо?» – спрашивал Коневской. И у него сложился такой «Припев» ко всем его славословиям Жизни-Царице:
Тут зима, а там вся роскошь лета.
Здесь иссякло все, там – сочный плод.
Как собрать в одно все части света?
Как свершить, чтоб не дробился год?
Не хочу я дольше ждать зимою,
Ждать с тоской, чтоб родилась весна,
Летом жить лишь с той мольбой немою,
Чтоб была и осень суждена!
…………………………..
Плачь, а втайне тешься, человек!
2
Борьба с внешней природой, с ее «прелестью», с ее искушениями, с ее призрачностью, – вот второе, что казалось Коневскому неизбежным па пути к свободе. В себе самом человек ощущает это внешнее бытие, как свое тело. Коневскому были сродны крайние идеалистические взгляды. Он говорил духу – «сущий ты один». В шутливых «Набросках» изображая противоречия нашего бытия, Коневской говорил насмешливо: «Есть пред нами немощное тело, и зачем-то к нам оно пришито». Он завидовал птицам, находя, что их стихия, воздух, менее косна, чем земля, хотя и возражал себе: «слишком легка та свобода».
Но рядом Коневской сознавал и ту истину, что дух вне плоти даже невообразим для нас, это нечто для нас вполне несуществующее. Чтобы была жизнь, необходимо, чтобы плоть, как змея, колола в пяту личность; образы, краски, звуки, вся толща вещественного бытия – необходимы; без них мы, может быть, и свободны, но безжизненны, безрадостны. И к одному из самых задушевных своих стихотворений Коневской поставил эпиграфом шопенгауэровскую формулу Kein Subjekt ohne Objekt.[65]
Долго ль эту призрачную плоть
Из пустынь воздушных выдвигать?
Долго ль ею душу облагать,
Воздвигать ее, чтоб вновь бороть?
Без тебя безжизненно волен,
Без тебя торжественно уныл,
Я влекуся в плен твоих пелен
И тобой я – уж не то, что был.
………………………
О творец мой и борец мой, плоть!
Но, признав свою неразрывную связь с плотью, человек все же вправе мечтать о возможности иных форм бытия. Коневской начинает одно свое стихотворение порывистым восклицанием: «Не хочу небывалого, нового существования!» Но, кажется, именно его-то он всего более и «хотел», об нем-то всего более и тосковал в этой жизни. Все предания о иных сознательных, нечеловеческих жизнях привлекали его внимание. Он любил «бредить о житьях иных», о тех заветных существах, населявших реки, воздух, огонь, недра гор, глуби деревьев, – «кому смешон был человек». В прозаической статье он пытается научно обосновать возможность существования «сил, издревле получивших название демонических».
С таким же непобедимым любопытством подступал Коневской ко всему, где чуялся ему исход из узкочеловеческого мировосприятия и миропонимания. И ему казалось даже, что такие исходы – везде, что стоит чуть-чуть подальше, поглубже вникнуть в привычнейшие, повседневнейшие зрелища, как за ними открываются тайные ходы и неведомые глубины, и всю жизнь человеческую он готов был назвать, в этом смысле, «предательской храминой». Ему казалось еще, что властным сезамом, открывающим эти потаенные двери, служит не что иное, как знание их, и он искал этого знания, не «истины, истукана людей», т. е. не истины, найденной рассудком, логическим мышлением, а некоего откровения, которое Коневской и надеялся найти в искусстве, в красоте.
Солгали все великие ответы,
Вернее, не солгали – правы все.
Но не хочу их. Издавна воспеты
Они. Меня влечет к иной красе.
Пойми, что и тебя я отвергаю,
О, истина, о, истукан людей,
Когда с тобой я с бытия слагаю,
Хоть часть из всех явлений, всех страстей…
Так – только если Красота откроет
Мне славу всех явлений и страстей,
Все истины зараз и врозь построит,
Тогда лишь буду в Истине я всей.
Ощущение, что наша жизнь, наше бытие только одно из множества возможных, и сознание, что основа нашего земного, телесного бытия – дух, несовместимы с мыслью о смерти, как исчезновении, небытии. «Кто мы? – неведомой породы переходы», – говорил Коневской. Он верил, что дух – «стойкая твердыня», что он не подвластен уничтожению. Смерть не полное изнеможение, не хладное оцепенение, а только обморок, в котором даже должна быть своя нега. Пусть смерть даже оторвет нас от земли, наш дух обретет новую жизнь, вновь отдастся отрадным играм бытия где-нибудь на иной планете. И эта смена жизней и умираний продолжится, как чреда приливов и отливов:
Ужели же оцепененьем хладным
Упьешься ты, о резвый сын забав?
Нет, обмороков негу восприяв,
Рванешься снова к играм, нам отрадным.
Прильнув столь кровно к роднику движенья,
Ты не познаешь ввек изнеможенья,
Пребудешь ты ожесточенно-жив.
От наших светов призван оторваться,
Под новым солнцем будет наливаться
Дух, вечно обновммый, как прилив.
Эти стихи мы вправе отнести к самому юноше-поэту, которому так неожиданно пришлось вкусить эту негу смертного обморока. Нам хочется верить, что его дух, «под новым солнцем» – жив, деятелен, снова ищет, судит и творит, что и там он, мудрое дитя, в условиях безвестного ему бытия, остается верен тому пожеланию, с каким он среди нас, семнадцатилетним юношей, начинал свою творческую деятельность:
Я с жаждой ширины, с полнообразья жаждой
Умом обнять весь мир желал бы в миг один.
1901
P. S. Поэзия Ив. Коневского не оказала того влияния на русскую литературу, какое должна была бы оказать по праву. Частью объясняется это судьбой поэта, который (применяя его собственные слова, сказанные о Ж. Лафорге) «промелькнул в самый роковой час», был среди нас «залетным гостем». Но, с другой стороны, знакомство с творчеством Ив. Коневского затруднялось для многих своеобразием его языка и его просодии.
Всем своим существом чуждаясь поверхностного, «разговорного» языка, он не хотел да и не умел говорить просто: в стихах и в прозе, в дружеских беседах и в частных письмах, он неизменно употреблял один и тот же язык, в котором точности и остроте выражений решительно приносились в жертву легкодоступность и плавность речи. Чтобы отчетливо понять мысль Ив. Коневского, часто бывает нужно распутать хитрый синтаксис его фраз, где слова расставлены не в обычном порядке, где так непривычно много приложений, обманывающих слух своим падежом, где, ради краткости, местоимение «который» заменено через «кто» или «что», где иногда один творительный или дательный падеж употреблены там, где все ждали бы объясняющего предлога, и т. д. Но в этой запутанности никогда не бывает произвола, все вольности могут быть оправданы логикой, – и для того, кто дает себе труд дешифрировать текст Ив. Коневского, открывается смелость его мысли и меткость ее выражения – «смутные шорохи дум, властно замкнутые в жемчужины слова».
Подобное же своеобразие представляет и стих Ив. Коневского, тоже лишенный той дешевой «гладкости», которую так легко приобретают даже самые заурядные стихотворцы. «Мне нравится, чтобы стих был немного корявым», помню я, говорил сам Ив. Коневской. Эта корявость прежде всего возникала из желания поэта вложить в стих слишком многое. Его речи все было тесно в пределах определенного числа стоп, и он охотно ставил слова значащие там, где по законам метрики требовались слоги неударяемые. Помимо того, он любил прямые нарушения ритма в отдельных стихах, находя, что через то восстановление певучести в следующем стихе дает какое-то особое очарование… Впрочем, все это не мешало Ив. Коневскому относиться с крайней заботливостью к звуковой стороне речи. Очень обдуманы у него все сочетания гласных и согласных в стихе, и у немногих поэтов найдется столько, как у него, игры звуками, – только игры не грубой, не бросающейся в глаза, а сокровенной, которую надо разыскивать, чтобы на нее указать, но которую чуткое ухо улавливает бессознательно.
«Язык» поэта и его «стих» ни в каком случае не могут быть мерилами его значения. Мировая литература знает великих поэтов, произведения которых чрезвычайно трудны для понимания именно в силу своеобразия их речи. В таком случае на эти трудности надо смотреть как на такую же преграду, какую представляет чужой (иностранный) язык. Ради того, чтобы читать в подлиннике Эдгара По, стоит и должно изучить английский язык. Подобно этому для того, чтобы узнать поэзию Ив. Коневского, стоит и должно взять на себя гораздо меньший труд: ознакомиться с своеобразием его языка и примириться с своеобразием его метрики.
1910







