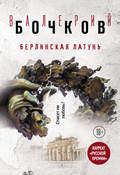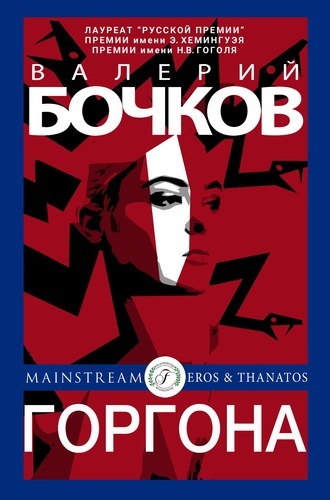
Валерий Бочков
Горгона
4
Майора звали Сергей Коршунов. Он никогда в жизни не встречался с моей матерью. Он ошибся подъездом и вместо третьего попал в наш четвёртый. Дело в том, что первый подъезд выходит на Баррикадную, а все остальные во двор. По сей день благодарю бога, что грохот воды заглушил удар тела об асфальт. А вот бабий визг, раздавшийся снизу чуть позже, шум воды перекрыть не смог, и этот вопль до сих пор гуляет по закоулкам моей памяти, словно заблудившееся эхо.
Когда приехала милиция, я так и стояла у раковины. Вода хлестала через край, растекалась лужей по линолеуму. Тонкий ручеёк уже отправился через коридор к входной двери. Бесконечной трелью дребезжал звонок. Примчалась из больницы мать. Она и открыла дверь. Меня отвели в комнату и усадили на диван, сама я не могла двинуться с места. Милиционер, а после какой-то следователь в синем костюме, расспрашивали меня и что-то записывали.
Своих ответов я не помню совершенно. Помню меня дико знобило. Когда я пыталась говорить, зубы клацали, а слова прыгали и выходили слишком длинными и не всегда понятными. Я сжимала ладонями лицо, точно оно могло развалиться на куски. Это напоминало тряску, точно мы гнали по нашей брусчатке, которая осталась на спуске у высотки, что у нового метро.
На меня натянули мамину кофту, ту – из малиновой шерсти, с клоунскими рукавами – мать периодически распускает её и вяжет снова, но каждый раз получается очередное недоразумение. У матери определённый дар в производстве шерстяных уродцев: даже элементарный шарф у неё получается кривобоким и напоминает не человеческий прямоугольник, а карту какой-нибудь Италии.
Потом мне дали две таблетки димедрола. Потом ещё одну.
Когда я проснулась был уже вечер какого-то дня. Обычно сон сглаживает предыдущие события. Отодвигает их в прошлое, делая не столь значительными и драматичными, как накануне. Сейчас так не произошло. Я проснулась в той же агонии. Скрюченная и на том же диване. Клетчатая диванная обивка воняла собачьей шерстью. Собаки у нас в жизни не было. Натёртая щека горела, как ожог. По замызганному паласу цвета охры от окна через всю комнату вытянулась полоска закатного пыльного солнца.
Я очнулась с тем же чувством ужаса и абсолютной растерянности. Нет, даже не растерянности – потерянности. Я не знала, как жить дальше: как встать с дивана, как пойти на кухню, как выйти во двор. А главное – зачем.
Было чувство, что я провалилась в какой-то зазор. В некую невидимую щель. Недаром меня с детства так пугали эти грохочущие межвагонные переходы, эти сцепки между тамбурами, с гремящим адом колёс, мельканием шпал и сиянием рельсов под самыми ногами.
Солнечная полоска доползла до стены и, сломавшись, высветила дверь буфета и полку с хрустальной посудой, которую мать выставляла лишь на праздники – четыре бокала для шампанского, водочный графин, стеклянная корзинка «баккара» и салатница, похожая на корыто. Выше стояли книги – макулатурный трёхтомник Пушкина в переплёте цвета запёкшейся крови, сборник Зощенко, некто Сомерсет Моэм (которого я отродясь не читала), растрепанный том рассказов О’Генри – этого я знала наизусть. Разумеется, «Дары волхвов», в конце рассказа мне всегда хотелось плакать. Я закрыла глаза, пытаясь вспомнить последнюю строчку, но вместо этого тут же увидела распахнутое настежь окно и пустой подоконник.
Звякнул входной замок. Хлопнула дверь. Мать прошла по коридору, тяжело бухнула что-то на пол. Сумку с продуктами, наверное. Весь архив привычных кухонных звуков – стеклянных, оловянных и прочих: блюдце и чашка, вода из крана. Мать, напевая что-то себе под нос, открыла холодильник, нервно задребезжали бутылки. Вот зашуршало-зашелестело, должно быть бумага. Холодильник проснулся и натужно затарахтел, мать захлопнула дверь.
Она беззвучно вошла. Кружка в руке, босая поступь по ковру. Остановилась надо мной, наклонно и укоризненно. Раньше я не замечала какие у неё толстые колени. Скучные крестьянские колени – мягкие и сытые.
Экзамены через две недели – сообщила мать равнодушно, без особой укоризны. Она всегда так начинает – кротко. Предложила чаю. Мне смертельно хотелось в туалет, я думала, что прямо сейчас обоссусь. Или у меня лопнет мочевой пузырь. Но я неподвижно лежала на боку, подсунув ладонь под щёку, и смотрела на толстые коленки матери.
– Ты уже передумала поступать? – спросила она безразлично.
И отхлебнула из кружки.
– Только учти, – тут в голосе появилась жёсткая нота, – денег от меня – больше ни рубля.
Я зажмурилась. У меня перед глазами стояло распахнутое настежь кухонное окно.
– И вообще я считаю, – настойчиво продолжила мать, – тебе нужно работать. И не только из-за денег. Хотя и это тоже. Поработаешь год или два. Жизнь понюхаешь, а потом и решишь куда поступать. И зачем. Да и нужно ли. Вот я в твои годы…
Она начала что-то врать, я уже не слушала. Я не могла понять, как она может вот так спокойно рассуждать, и не просто говорить, а болтать о ерунде – о каком-то институте, о работе. О деньгах. Ведь, там, на кухне, на проклятой кухне, там – распахнутое настежь окно. Там пустой подоконник, совершенно, абсолютно пустой… Как?
– Как? Как! – перебила её я. – Мама, как ты можешь? Ведь человек… человек…
До неё не сразу дошло, о чём я. Она удивилась, а после недовольным, почти рассерженным голосом, оборвала меня:
– Александра! Что ты несёшь? Какая трагедия, о чём ты! Ты знаешь, сколько у нас умирает в больнице людей? И каких! Знаешь? Вон в ту среду – Герой социалистического труда, учёный! А сейчас в реанимации у нас артист Коровин – да-да, тот самый! – и его шансы не очень велики… А тут – пьянчуга вывалился!
– Мама! Пожалуйста…
– Что – мама? Мне в милиции сообщили, капитан – конфиденциально, от него и жена ушла, и дочку забрала. Да-да, вот так!
– Мама!
– И вообще он чуть ли не дезертировать собирался. Приехал на медкомиссию…
– Мама! – я зажала ладонями уши. – Прошу тебя… не надо… прошу…
У меня не было ни слов, ни сил что-то объяснить ей. Как растолковать самому близкому человеку на свете вещи элементарные и очевидные? Если этот человек сам не видит и не понимает – не чувствует – как?
– Он вполне мог что-нибудь украсть… – мать понюхала кончики своих пальцев, сморщилась, понюхала снова. – Украсть. Или поджечь квартиру. Или тебя изнасиловать. Знаешь, сколько придурков там ходит!
Я уже не возражала. Я впала в какой-то транс – во мне росло ощущение, что меня кто-то загипнотизировал. И теперь этот кто-то показывают абсурдные сцены. На моих глазах происходит превращение: самый родной человек трансформируется в чужака. Не просто в незнакомца, а чуть ли не во врага. Мне даже показалось, что кожа на её лице стала другой – бледной и какой-то гладкой. Как пластмасса. И даже тошнотворный запах её «Мажи Нуар» не убеждал, что это моя мать.
Возможно, когда-нибудь ужас случившегося сгладится, но сейчас он был внутри – огромный, шершавый, чёрный. И то самое чувство тотальной беспомощности и абсолютной необратимости, как тогда на кухне. Полный паралич, словно я была набита под завязку мокрым песком. Не могла же я в самом деле признаться матери, что приняла его за отца. И какая-то упрямая часть меня продолжает так считать.
К тому времени комната погрузилась в рыжие сумерки. Солнечный треугольник на потолке из золотого стал серым и почти погас. Мать стояла по самое горло в вязком ржавом сумраке. Она была в метре от меня, на расстоянии вытянутой руки. Я запросто могла дотронуться до неё, но вместо этого я закрыла лицо ладонями и беззвучно заскулила. Мне хотелось выть в голос, хотелось рыдать – отчаянно, по-детски, размазывая слёзы по лицу. Но присутствие посторонней женщины сдерживало.
Слёзы, вопли и стоны, распиравшие меня, я выдавливала без единого писка. До того мне казалось, что беззвучный плач это просто фигура речи. Облегчение, чуть ли не благость, накрыло меня – я вдруг почувствовала как что-то тёплое течёт по моей ляжке, щекотно сбегает струйками вниз по бедру и растекается подо мной тёплой лужей.
5
Если вы женщина среднего возраста и вам вдруг понадобится кого-нибудь убить, нет лучшего инструмента, чем обычный молоток. Любая хозяйка время от времени забивает гвоздь. Или отбивает свинину для шницеля. Значит, определённая сноровка уже есть. К тому же стукнуть молотком в темечко гораздо проще, чем воткнуть нож в живую спину или в мягкий живот. Мнение личное, на котором я не настаиваю.
Мы выехали из Москвы. Удивительно, но Иду ни разу не остановили. Позади остался Лосиный остров и Мытищи, у Пушкино мы чуть не застряли в пробке. Ида в последний момент, сразу после Тарасовки, нырнула на Староярославское шоссе, после свернула ещё раз налево. Минут сорок плутали по убитым деревенским просёлкам. Ида сердилась. Зло крутила баранкой, объезжая ямы. Мы гнали мимо кривых заборов, над которыми нависали бесстыже румяные яблоки, на лавках сидели мрачные старухи советского разлива, тут же в пыли возились дети и дремали лохматые собаки. Иногда, словно муляж, над макушками деревьев показывалась новенькая колокольня с только что позолоченной маковкой. Вокруг купола, как силы зла, кружили неизбежные вороны.
Снова на Ярославку мы вырулили у деревни с кокетливым названием Кощейково. Ида сунула сигарету в рот, прикусила фильтр зубами и вдавила педаль газа. Дорога вытянулась и перестала вилять. Вдоль шоссе поплыли неопрятные подмосковные леса с блёклыми березовыми рощами, изредка к обочине подступали скорбные деревни, чахлые огороды и пыльные низкорослые сады. Иногда вдали вспыхивала речка или пруд с куском отражённого неба, тоже бледного и, будто полинявшего за три летних месяца. У придорожных шалманов, похожих на ярко раскрашенные сараи, толпились заляпанные глиной грузовики с большими грязными колёсами. Тут же деревенские бабы торговали чем-то из белых эмалированных вёдер.
По обочинам попадались легковушки грибников. От греха подальше шофёры загоняли машины в самую траву, почти в кювет. Мимо, как гигантские болиды, проносились мощные фуры. Ида съехала на обочину, затормозила. Вышла, обошла машину. Вытащила из багажника новенький молоток. Захлопнула крышку и, помахивая молотком, пошла в лес.
Шум шоссе стал тише. Наверху в деревьях свистели неугомонные птицы. Ида подняла голову – нет, не видать птиц. Такие крошечные, а шуму на всю округу. Лес был смешанным: дохлые осины и берёзы, сосны да кривые ёлки. Из травы там и сям торчали сомнительные шляпки неизвестных грибов, блеклые и наверняка ядовитые.
Ида вышла на поляну, в центре росла большая сосна. Мощное красивое дерево с мускулистыми ветками и высокой кроной, будто с картины какого-нибудь Шишкина – и как оно оказалось тут, среди худосочного мелколесья? Ида подошла, ладонью провела по шершавому рыжему стволу.
Солнце выскользнуло из-под облака, трава вспыхнула и ожила. Рваный край облака загорелся расплавленной ртутью. Озарились и ожили макушки берёз, по ним пробежала мелкая золотистая дрожь. Тени загустели, стали тёмно-синими.
Ида отогнала мошку от лица, прищурилась. Поигрывая молотком, она отошла на шаг от сосны, после, плавным движением, занесла молоток над головой и с силой ударила в центр ствола. Звук вышел глухой, утробный. Дерево точно проглотило звук. На коре остался едва заметный кружок.
Ида размахнулась и ударила снова.
Она старалась попасть в то же место. Не получилось – второй удар пришёлся чуть ниже. Ида стукнула ещё раз. И ещё.
– Сильней! – не сдержалась я. – Бей сильней!
Она сделала шаг назад и стукнула снова.
– Бей! – крикнула я. – Бей! Бей!
– Заткнись! – Ида рявкнула и ударила опять.
И ещё раз. Солнечные очки мешали, она сорвала их и бросила в траву. Она била молча и ожесточённо. Старательно вкладывая в каждый удар всю силу. Сила, как выяснилось, ещё была. Струйка пота стекла по виску, Ида сорвала платок, скомкав, вытерла лицо и бритую голову. В этот момент она спиной ощутила чей-то взгляд. Медленно опустив молоток, повернулась.
На краю опушки, среди солнечных пятен, стояла девчушка лет восьми с огромной плетёной корзиной. На ногах у девочки были высокие сапоги из ярко-жёлтой резины.
– А зачем вы в дерево стучите? – спросила девочка. – Ему же больно.
Ида растерялась, она шумно дышала ртом и думала лишь о том, насколько омерзительным может быть жёлтый цвет. Тогда заговорила я:
– Ты кедровые орешки любишь?
Она неуверенно кивнула.
– Вот! Их так собирают. Стучат молотком в ствол, а шишки падают.
Девочка посмотрела вверх, после на меня.
– Это же сосна, – и добавила. – Вы, наверное, меня обманываете.
– Вот ещё засранка… – проворчала Ида. Я, перебив её, быстро вставила, – ты права, дело не в шишках.
Девочка подумала и сказала серьёзно:
– Вы ведь сигнал подавали?
Тут я растерялась.
– Кому?
– Им… – она головой показала наверх.
Небо вдруг потухло. Солнце ещё мгновенье пыталось прорваться сквозь дыру, зажигая рваный край облака, но воздух быстро густел и желтел, пока всё вокруг не стало плоским и скучным, будто пыльным. По верхушкам берёз пробежал ветер. И это было точно какой-то тайный знак нам обеим – девчонке в сапогах и мне. Ну и Иде, конечно.
6
Ида уже один раз спасла меня. Давно, ещё в прошлом веке. Без неё, думаю, я бы до сих пор куковала в психушке. Или стала наркоманкой, как Танька Федотова, которая начала с «Интуриста» и «Метрополя», а закончила с таксистами и дальнобойщиками. Феде было тридцать два, когда её нашли в районе Южного порта в мусорном контейнере с перерезанным от уха до уха горлом. Должно быть Танька напомнила кому-то из клиентов его маму. Или бывшую жену.
Тем давним летом, в тот страшный июнь, когда за одни сутки я потеряла придуманного отца, а мать оказалась злой и на редкость чужой женщиной, это не вертолётчик Коршунов, это я разбилась вдребезги. Вроде новогоднего шара, упавшего на пол с макушки ёлки. Тем летом я представляла из себя даже не набор фрагментов, а мусор, не подлежащий ремонту.
Вот тогда и появилась Ида. Она проснулась и попросила меня не вмешиваться. Прагматичная и дерзкая до грубости, эгоцентричная до мизантропии, бездушная и капризная стерва. Думаю, она возникла как защитная реакция моего заклинившего мозга. Стала чем-то вроде предохранителя в электроприборе.
Кстати, доктор Хетагуров, любезный мой Роман Ильич из больницы на улице Восьмого марта, куда я всё-таки загремела (но чуть позже и по другому поводу), отчасти согласился с моей электрической теорией. Успокоив, что мой диагноз, вопреки расхожему заблуждению, никакого отношения не имеет к шизофрении, он определил моё состояние, как диссоциативное расстройство идентичности – психическое расстройство, при котором механизм психической защиты включается в результате эмоциональной травмы. Не в силах справиться с эмоциями, жертва травмы как бы уходит за кулисы, а на сцене появляется дублёр. Кто-то вроде каскадёра, который играючи прыгает с моста, бесстрашно лезет в горящий дом, скачет беззаботным козлом по крышам летящих в пропасть вагонов. А ты сам наблюдаешь за происходящим вроде как со стороны. В бедствиях и катастрофах участвуешь уже не ты, а кто-то другой. Весьма удобно, если не принимать во внимание вариант, когда каскадёр настолько входит в кураж, что убрать его со сцены можно лишь при помощи медикаментозной терапии с использованием мощных антидепрессантов вроде дофамина или серотонина.
Но тем летом Ида явилась в качестве ангела-спасителя. Точнее, спасателя. Если бы в ангелы набирали из пресненской шпаны или хулиганья с Тишинки. Ни на какой истфак пединститута имени Ленина она, разумеется, поступать не собиралась. Никакая античная мифология её не интересовала в принципе. В отличие от меня, Ида матери не дерзила, она просто перестала её замечать.
7
Главной достопримечательностью нашей округи, безусловно, считается зоопарк. Второе место я бы отдала высотке, готической башне с золотым шпилем и рубиновой, почти кремлёвской, звездой. Дом одновременно похож на замок и на торт. К слову, там, в восточном крыле, на двенадцатом этаже живёт Лялька Дубровская, её папаша играет в каком-то симфоническом оркестре и постоянно мотается по гастролям. Лялька по-утиному губаста, у неё тонкие волосы цвета пыли, она плоская, как доска, но зато её шкаф забит под завязку фирменным тряпьём. И когда она появляется в своём голубом джинсовом костюме «левис», все мальчишки пялятся на неё, явно не придавая значения её утиности и абсолютному отсутствию сисек.
Пару раз я бывала у них дома. Это напоминало телепортацию в другой мир: вот ты шлёпаешь по Красной Пресне, – вот метро, тут же пирожки с капустой за пятак, эскимо на палочке и другие скромные пионерские радости, но вот открывается дверь, ты делаешь шаг и оказываешься в дивных интерьерах с бронзовыми люстрами под потолком и таинственными натюрмортами в музейных рамах на стенах. Бесшумно шагаешь по мягким коврам в турецких узорах цвета горького шоколада; в углу важно тикают часы в дубовом футляре – золотые гири висят на цепях, мерно раскачивается маятник – тик-так, тик-так, – ты проходишь высокими комнатами, там вся мебель морёного дуба и на резных львиных лапах, а на окнах версальские портьеры в бахроме и золотых рыцарских гербах. И за окнами не жухлый тополь и стена соседнего дома с бельём на балконных верёвках, а образцовое небо с безупречными облаками.
Там, у Дубровских, даже пахло по-особенному – так пахнет тёплая сливочная тянучка (если вы когда-нибудь варили сгущёнку в банке, то вы в курсе). Никакую сгущёнку Дубровские конечно же не варили, там по всем комнатам благоухало настоящим английским трубочным табаком. Негромко играла музыка, все говорили ласково и улыбались, словно именно тебя ждали весь день. От всего этого становилось на душе тихо и радостно, но и грустно до боли, потому что было ясно как божий день, что никогда в жизни я так жить не буду. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Что пиком моего бытового успеха будет красный чайник со свистком из магазина «Балатон» и коврик из цветной соломки производства дружественной республики Вьетнам.
У Дубровских даже болонку выгуливала домработница Галя. Я никогда так и не узнала, сколько у них комнат в квартире. У Ляльки была своя комната, был кабинет отца, родительская спальня, была ещё большая комната, которую называли то столовая, то гостиная. В той комнате, помимо обеденного стола на восемь человек, в одном углу стоял рояль, а в другом – арфа. Вы когда-нибудь бывали в квартире, где в углу стоит настоящая арфа?
Но вернёмся к достопримечательностям. Третьей я бы назвала планетарий. Он напоминает гигантский стальной шар, сияющий купол которого выглядывает из лохматых лип небольшого сквера, разбитого вокруг. Пару раз наш класс водили туда на урок астрономии. Внутри планетарий похож на круглый кинотеатр, только без экрана. В центре зала стоит будка из которой торчит труба большого диаметра, что-то вроде пушки.
Свет погасили и из этой трубы полился свет. Случилось чудо – потолок исчез, вместо него над нами повисло бездонное звёздное небо. Некто невидимый важным голосом начал объяснять как найти созвездие Орион, где располагается Кассиопея и что делать, если у вас отказал компас ночью в открытом море.
Сначала звёзды и планеты действительно походили на настоящее небо. Но уже через минуту, когда глаза привыкли к темноте, стали видны швы на тряпке, обтягивающей купол. Кое-где сквозь холст проступала арматура, в районе Большой медведицы темнело пятно от протечки на крыше. Пафос лектора, его поучительный тон, вкупе с откровенной фальшью и дряхлостью небесной сферы делали происходящее глупыми и даже стыдным. Что-то похожее я испытала, когда у нашей математички разошлась молния на юбке и она ещё пол урока писала свои уравнения на доске и пугала нас предстоящей городской контрольной, не подозревая, что теперь всему десятому «Б» доподлинно известно, что сегодня на ней розовые трусы в мелкий белый горошек. Ни математику, ни математичку я особо не любила, но тогда, сама не знаю почему, я сидела опустив голову, точно это моё нижнее бельё выставили на потеху всему классу.
Рядом с планетарием, на Садовом кольце, находится комиссионный магазин. Или попросту «комок». Он расположен на первом этаже сталинского жилого дома и состоит из двух секций – одежда и аппаратура. Всем известно, что лучший товар до прилавка не доходит – ни одежда, ни аппаратура. К двери с табличкой «приём товаров на комиссию» тянется очередь с коробками и пузатыми сумками. В глубине комнаты за прилавком сидит лысый человек с брезгливым лицом – оценщик.
Это он решает взять у вас товар или нет. И сколько денег вам за него дать.
Некоторые, услышав цену, отказываются. Некоторым кажется, что их японский двухкассетный магнитофон или финские сапоги на «манке» должны стоить гораздо больше. Именно так показалось и тёте Свете – матери моей подружки Ленки Дудник.
Она, не Ленка, а тётя Света, пошла в комиссионку сдавать магнитолу «Грюндиг». Совсем новую, в коробке. Не знаю, сколько ей предложил тот лысый за прилавком, но цена Ленкиной матери не понравилась. К тому же, на подходе к комиссионному, к ней подкатил вкрадчивый человек, молодой, но интеллигентного вида, в замшевом пиджаке и модных дымчатых очках. Он предложил купить магнитолу. Прямо тут – и даже показал толстую пачку червонцев. Добавив, между прочим, что настоящую цену в магазине не дадут, а припрячут для своих под прилавком. Да ещё и в очереди придётся потолкаться.
Всё так и вышло. Сорок минут в очереди и всё впустую. Огорчённая тётя Света вышла из магазина, её немного смутило объявление на дверях: «Торговля с рук является спекуляцией и карается по закону». И слегка насторожил сонный милиционер, прохаживающийся по тротуару между остановкой троллейбуса маршрута «Б» и столбом светофора у пешеходного перехода через Садовое кольцо. А тот интеллигентный парень в дымчатых очках словно поджидал её, он сочувственно улыбнулся – мол, я же предупреждал. Сколько, кстати, давали? – спросил вежливо, но без особого интереса. Тётя Света ответила. Парень засмеялся и предложил в два раза больше.
Они отошли к углу здания. Парень вытащил из кармана ту самую пачку червонцев, отсчитал нужную сумму. Всё правильно? – спросил. У тёти Светы вспотели ладошки, она быстро закивала как китайский болванчик и передала ему коробку. В этот момент милиционер проснулся и неожиданно направился к ним. Парень торопливо сунул пачку купюр тёте Свете, подхватил коробку с магнитолой и рванул в сквер. Тот, что перед планетарием. Тётя Света спрятала деньги в сумку и припустила в сторону Маяковки.
Шла не оглядываясь. Мимо овощного, мимо бакалеи, мимо посольства Пакистана. На углу Садовой и Красина была булочная. Она заскочила туда, перевела дыхание, поглядывая сквозь стекло витрины на улицу. После открыла сумку, достала деньги. Настоящими червонцами оказались всего лишь две купюры – сверху и снизу. Между ними была пачка аккуратно нарезанной бумаги.
Тётя Света провела в булочной минут двадцать. Она разглядывала бумажки, щупала их. Они были плотными и маслянистыми, как настоящие новенькие деньги, но совершенно пустыми. В конце концов она сунула всю пачку в сумку и направилась обратно к комиссионному.
Разумеется, парня в дымчатых очках там не было. Тогда она подошла к милиционеру. Тот строго взял под козырёк.
Нет, он её не помнит. И парня в очках не помнит.
Тётя Света возмущённо сунула под нос милиционеру пачку липовых червонцев. Милиционер долго разглядывал бумажки, цокал языком и хмурился. Это называется «кукла» – сказал он наконец. Вас обманули. Вы стали жертвой мошенника, статья такая-то, срок от трёх до пяти.
– Вы можете его поймать и вернуть мой «Грюндиг»? – обрадовалась тётя Света.
Милиционер тоже чему-то обрадовался. Конечно – поймаем и вернём! Вам только нужно написать заявление. Кстати, и отделение милиции буквально в десяти минутах, в Первом Садово-Кудринском переулке. Единственная закавыка, нам придётся одновременно возбудить дело против вас. По факту торговли с рук. Что является спекуляцией и проходит по статье такой-то и карается сроком от двух до шести лет в колонии общего режима.
– Вы там на дверях объявление видели? – спросил милиционер лукаво.