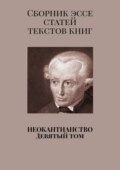Валерий Алексеевич Антонов
Неокантианство Восьмой том. Сборник эссе, статей, текстов книг
Мы не можем связать никакое понятие с предположением о наличии разумных существ, которые не осознают этого ought. Ведь осознавать должное и быть рациональным – это одно и то же. Следовательно, должное абсолютно для всех разумных существ, и поэтому существует только одно нормативное сознание, но оно абсолютно. В самом деле, даже это вздорное предположение само апеллирует к этому нормативному сознанию. Ведь если это не просто игра слов, то оно утверждает, что эти различные виды нормативного сознания не просто фикция, а вообще возможны. Однако при этом утверждается нечто, претендующее на истинность вообще, а также апеллирующее к нормативному сознанию вообще, что сводит на нет собственное утверждение.
Независимо от того, существуют ли вне нас разумные существа или нет, существует только одно нормативное сознание, обладающее абсолютным объемом, т.е. властью над ними. Ибо оно означает не что иное, как «должен» и «обязан», к которым каждое разумное существо обращается как к высшему авторитету. Разум есть сознание этого долженствования и ничего другого. Практическая норма, поскольку она есть долженствование и долженствование, является поэтому необходимой и абсолютной, и для того, чтобы она была действительной, а не недействительной, необходимо осознание противоположности долженствования и недолженствования, а значит, и осознание тождества и противоположности вообще, короче говоря, осознание логической нормы.
До сих пор мы показали, что мы определяемся, прежде всего, долженствованием, что его сфера действия по отношению к разумным существам неограниченна, что он сам по себе абсолютен. Теперь остается вопрос: как мы подчиняемся этому долженствованию, как оно нас определяет и что означает это определение?
§4.
Содержание долженствования.
Сразу же становится ясно одно: поскольку ought обладает всеобщей силой, необходимо, чтобы наше поведение, чтобы соответствовать ему, было таким, чтобы оно могло заслужить и претендовать на всеобщее признание. Таким образом, в практическом смысле, чтобы быть моральными, наши действия должны быть такими, чтобы каждый человек в нашей ситуации поступал или, скорее, хотел бы поступать так же, как мы, так что, согласно формулировке Зиммеля, поступок может быть «морально правильным и желательным только в том случае, если его абсолютное обобщение таково»22.
Однако это не что иное, как категорический императив Канта, согласно которому мы должны действовать так, «чтобы максиму нашей воли можно было всегда рассматривать как принцип общего закона66.23
Он является полным выражением морального закона.24
Но оно совершенно бессодержательно, пусто и ни в малейшей степени не говорит нам о том, что мы должны делать на самом деле; оно не инструктирует человека относительно конкретного содержания его действия, не указывает ему, какое действие он должен совершить в деталях. Насколько бесконечна ought в отношении разумных существ, настолько же она бедна содержанием в отношении конкретных действий. Более того, она не только бедна содержанием, но и бесконечно бедна, полностью лишена содержания. И это обязательно должно быть так, именно потому, что оно бесконечно по объему, потому что оно всеобщее. Ведь поскольку все поступки измеряются им, ни один из них не может выделиться сам по себе; но если мы однажды оказываемся перед ним, он говорит нам о многом.
Тот, кто требует от универсального морального закона, чтобы он сразу же дал ему содержание для его удобства, не может осознать значение термина «содержание», даже если бы он хорошо представлял себе значение универсального морального закона. Содержание есть не что иное, как материал, в котором выражается форма нравственного закона, в котором сам нравственный закон должен быть реализован. Как сам моральный закон является действительной вещью, так и содержание всегда уже должно быть чем-то действительным, чтобы над ним можно было работать. Поэтому она может быть предоставлена нам только той реальностью, которая абсолютно дана для моральной точки зрения, – реальным бытием. Ибо как только самосозидающий разум мог определить форму и содержание знания, так только он мог одновременно определить форму и содержание морали. Но поскольку действительность должна давать нам содержание для наших поступков, то каждое конкретное, специфическое содержание всегда является лишь уникальным, неповторяющимся моментом реального события, который может стать не реальной, а идеальной вечностью только через свое отношение к нравственному закону. Поэтому даже если действия, которые совершают многие индивиды по отношению к нравственному закону, похожи, они никогда не бывают полностью одинаковыми для всех, поскольку ситуация индивидов никогда не бывает одинаковой. Даже если это сходство повторяется и до определенной степени закрепляется в форме морали, это все же лишь преходящий момент в бесконечном моральном процессе, который сам подчиняется чисто формальному критерию и может быть отменен им в соответствии с его содержанием. Мораль сама может быть или стать аморальной. Тогда нравственный закон с неумолимой строгостью требует их уничтожения. Поэтому сам закон всегда остается высшей инстанцией, от которой мораль получает свою ценность не меньше, чем от индивидуального поступка. Эта ценность – свободный дар закона; закон может дать ее и в любой момент взять обратно.25
Содержание, которое мы придаем формальному принципу, не является абсолютным в силу своей уникальности и неповторяемости; оно никогда не может стать общим, одинаковым для всех индивидов; и поэтому содержание вообще не подходит для обобщенного морального принципа.26.
Таким образом, как бы непосредственно и неопровержимо мы ни подчинялись формальной детерминации морального закона, как бы ни был он общим для всех разумных существ, мы тщетно ищем жесткое содержание для его общей формы. И если бы он включал в себя только жесткое содержание, то его всеобщность была бы аннулирована, поскольку каждое содержание только уникально. Но поскольку никакое содержание не может быть действительным без формального определения – ведь сам факт его действительности есть формальное определение, – оно само, содержание, которому была бы принесена в жертву всеобщность формального определения, утратило бы свою действительность. Моральный закон никогда не может включать в себя обобщенное содержание, а значит, он не действителен.
Именно поэтому критический метод покажется наивному уму весьма абстрактным, даже несмотря на попытку Виндельбанда доказать, что этот метод «способен путем телеологической деривации создать систему этики, совершенно независимую от многообразия конкретных максим в исторически обусловленных формах человеческого общества и при этом далеко не увязшую в пустых абстракциях»27, а именно с помощью понятия культуры. Безусловно, следует признать, что сам критический метод, который также является единственным путем, ведущим к цели в этике, отсылает нас к нашей культурной системе в том смысле, который характеризуется телеологической деривацией Виндельбанда.
Но столь же строго следует подчеркнуть, что именно в силу своей независимости «от множественности конкретных максим в исторически обусловленных формах человеческого общества» даже та система этики, которую, по Виндельбанду, по праву способен установить критический метод, я говорю, что сама культура, стоящая на службе абсолютного долженствования, никогда не сможет дать нам абсолютного содержания для этого долженствования, для нравственного закона.28
Благодаря этой деривации мы получаем более точное указание: тотальность действительности, которая обеспечивает нас содержанием, ограничена. Внутри нее выделяется одна сфера – культура, соответствующая «культурная система»; определенная область в этой великой стране дает нам материал, почву и грунт, на котором мы должны работать. Но она остается реальной и потому, как мы видели, изменяющейся: с каждым новым реальным урожаем она меняет свой характер, хотя и постепенно. Новые плоды, которые извлекает из нее наш нравственный труд, всегда дают новое содержание для нашего нравственного действия.
Поэтому авторитет для их моральной оценки не может лежать в них самих, поскольку они изменяются во времени, а должен стоять над ними, не изменяясь и не преображаясь. Поэтому он никогда не может быть самим содержанием, даже культурным. Поэтому один и тот же поступок, совершенный в разных культурных системах, может иметь совершенно разную ценность как в рамках одного и того же народа, так и у разных народов, быть ценным в одно время и предосудительным в другое.
Но неизменным остается отношение29, которое их породило, и к нему всегда апеллируют, к нему всегда возвращаются, как бы ни отступали от него в угоду теории. Действительно, даже теория иногда не может избежать возврата к этому случаю.30
А завершаем мы эту главу прекрасными словами Лютера: «Не доброе благочестивое дело делает доброго благочестивого человека, а добрый благочестивый человек делает доброе благочестивое дело»31.
Глава 2.
Связь счастья с моралью.
«Быть счастливым – это непременное желание каждого разумного, но конечного существа, а значит, и неизбежный мотив его способности к желанию. Ибо довольство всем своим существованием – это не изначальное обладание и блаженство, которое предполагало бы осознание своей независимой самодостаточности, а проблема, навязанная ему самой его конечной природой.»
Кант.
§5
Актуальность стремления к счастью.
Таким образом, все мы осознаем абсолютное должное как высший закон, который руководит нашими действиями и определяет нашу собственную ценность. Но есть и другая цель, если не над нами, то, по крайней мере, внутри нас. Вечное стремление, оно тоже руководит нашими поступками не меньше, чем нравственный закон, а в реальной жизни даже сильнее. Иногда сознательно и четко, иногда без явного намерения и без ясного осознания, мы являемся слугами этого побуждения, и служим ему с радостью и удовольствием. Это стремление – естественное стремление к блаженству, присущее всем существам. Наше существо связано с ним в корне и заключило с ним нерасторжимый союз. Это проблема, «навязанная человеку его конечной природой». Каждое желание является его выражением. В каждой привычке человека, в обычаях общества, в том, что многие считают высшим, как и в том, что они считают самым обычным: в дружбе и любви, в религиозности толпы, как и во вражде, ненависти и преступлении, – мы можем найти стремление к счастью как определяющий фактор. Да, даже там, где мы считаем себя наиболее бескорыстными, где мы считаем себя наиболее удаленными от земных интересов, в искусстве и науке мы все же чувствуем себя подвластными их силе и власти. Ведь искусство тоже делает нас счастливыми, наука тоже дает нам счастье и удовлетворение. Мы овладеваем ею по склонности, чтобы удовлетворить свою склонность. Когда мы стремимся к пониманию и знанию через мышление и исследования, разве не интеллектуальные потребности побуждают нас к этому и их удовлетворение приносит нам драгоценное счастье, пусть не чувственное, но все же счастье? И разве не свидетельствует об этом «старый, никогда не разрешавшийся спор», как называет его Лотце,32 который существует «между потребностями разума и результатами человеческой науки»? Куда бы мы ни обратили свой взор, всегда бросается в глаза одно и то же стремление, одна и та же сила, только в разных формах, одно и то же стремление, которое движет и побуждает нас во многих отношениях: быть счастливым и удовлетворенным, быть счастливым.
Таким образом, в нас встречаются два стремления. Одно из них направлено на то, чтобы быть нравственным и добродетельным, и его цель – нравственность и добродетель; другое побуждает нас быть довольными и счастливыми, и его цель – блаженство. В связи с этим возникает непреложный вопрос: как соотносятся эти два стремления друг с другом? Являются ли они на самом деле двумя разнонаправленными детерминациями, которым мы ощущаем себя подвластными, или же они в основе своей едины, так что быть счастливым и быть добродетельным – это одно и то же, так что мы добродетельны только потому и постольку, поскольку мы счастливы, и счастливы только потому и постольку, поскольку мы добродетельны? Или, если они отличны друг от друга, то тогда они находятся в вечной борьбе друг с другом, и не можем ли мы быть добродетельными, как только мы счастливы, и несчастливыми, как только мы добродетельны? Или, наконец, если они не едины, то могут ли они сосуществовать и как они могут сосуществовать? Это вопросы, от которых нельзя легко отделаться и которые постоянно ставит перед нами наша собственная природа. Попробуем их разрешить.
§6
Несостоятельность принципа счастья в качестве морального принципа.
Если добродетель и счастье – одно и то же, то эвдаймонизм должен быть способен служить моральным принципом. Стремление к счастью должно стать нашим долгом, безусловной обязанностью. Но это сразу же окажется невозможным. Ведь счастье всегда должно мыслиться как реальное состояние, следовательно, оно было бы моральным содержанием и не могло бы быть принципом. Более того, эвдаймонистический моральный принцип, как мы вскоре увидим, окажется прямой непоследовательностью.
Существует две нестыковки, которые могут быть связаны с заповедью. Первая состоит в том, что она требует того, что все равно произойдет; вторая – в том, что она требует того, что никогда не может произойти. Первое делает заповедь излишней и бесполезной, второе – абсурдной. Обе нестыковки теперь кроются в эвдаймонизме: эвдаймонистический моральный закон, если бы он служил моральным принципом, должен был бы повелевать нам стремиться к счастью. Но мы стремимся к нему сами, и заповедь об этом была бы излишней. Поэтому Кант может сказать: «Заповедь о том, что каждый должен стремиться сделать себя счастливым, была бы глупой, так как никогда нельзя приказать человеку делать то, чего он неизбежно хочет по своей воле» 1).
_____________
1) Критика практического разума, с. 39.
Более того, если бы счастье было нашей целью и судьбой, то наши действия, чтобы быть нравственными, должны были бы быть направлены на его достижение. Но тогда необходимо было бы всегда иметь возможность определить, что именно делает нас счастливыми, а для этого нужно было бы учесть бесконечную череду последствий того или иного действия, произвести расчет in infinitum. Но это противоречие в терминах, не считая того, что мы не можем просчитать даже самое ближайшее будущее. Поэтому, даже если что-то покажется ему счастливым, он никогда не сможет определить, не сделает ли это его счастливым вообще и не сменится ли за сиюминутным удовольствием бесконечным мучением, тогда как истинный моральный принцип никогда не имеет отношения к материальному конечному результату,33 а только к моральной предрасположенности. Это четко выражено и у Канта: «Что такое долг, это самоочевидно для всех; но то, что приносит истинное прочное благо, если его распространить на все существование, всегда окутано непроницаемым мраком и требует большого благоразумия, чтобы практически направленное на него правило хоть сколько-нибудь сносно приспособить к целям жизни»34.
И сразу же после этого Кант говорит: «Справедливость категорического предписания нравственности возможна во всякой силе и во всякое время; справедливость эмпирического условного предписания счастья – лишь в редких случаях и ни в коем случае даже в отношении единого для всех намерения. Причина в том, что в первом случае это зависит только от максимы, которая должна быть подлинной и чистой, а во втором – еще и от сил и физических возможностей сделать желаемый объект реальным».35
Этим мы фактически уже провели проверку достаточности эвдаймонизма как морального принципа, из которой в результате вытекала его недостаточность и из которой должно быть совершенно очевидно, что он не может служить моральным принципом. Мы также сможем показать, что эвдаймонизм вообще не может служить моральным принципом, если только не желать отрицать всякую мораль, что бессмысленно, согласно замечаниям нашей первой главы; что эвдаймонизм как моральный принцип является противоречием, и что поэтому нельзя говорить об эвдаймонистическом моральном принципе вообще.
Для того чтобы показать абсурдность утверждения, полезно вывести его следствия. Аналогичным образом поступим с утверждением, в котором эвдаймонизм выступает в качестве морального принципа. Поскольку эвдаймонизм как моральный принцип может сделать нашим долгом только стремление к счастью, то морально и этически ценным является любое действие, через которое мы выражаем стремление к счастью, т.е. любое действие, удовлетворяющее склонность. Таким образом, всякая склонность является непосредственным выражением стремления к счастью и как таковая обладает моральной ценностью, поскольку она есть не что иное, как само реальное, конкретное стремление к счастью. Поскольку, таким образом, эвдаймонизм не желает апеллировать к высшей норме, стоящей над склонностью, сами склонности остаются единственной детерминантой всех действий; но они-то и являются моральными par excellence, именно как непосредственное выражение стремления к счастью, именно как само это реальное конкретное стремление к счастью. Отсюда следует, что, как не может быть ни одной злой склонности, так не может быть и ни одного злого поступка.
Возражение о том, что вне склонности есть еще один определяющий фактор – отвращение, что, следовательно, можно действовать и из отвращения, и что именно это является аморальным в смысле эвдаймонизма, вряд ли можно назвать возражением, поскольку отвращение само является склонностью, только к объекту, противоположному другой склонности. Поэтому последовательный эвдаймонизм также должен считать отвращение моральным, а не аморальным.
Короче говоря, для эвдаймонизма по-прежнему не может существовать такого понятия, как зло. Зло было бы и остается простой фикцией, а наш мир был бы самым лучшим из всех мыслимых. Мы жили бы в прекрасном, нравственном мире, потому что никто не стремится к несчастью. Каждый человек склонен к счастью, он чист и непорочен.
И как раньше было бессмысленно приказывать нам стремиться к счастью, потому что мы делаем это по собственной воле, так и теперь бессмысленно приказывать добродетели, потому что мы добродетельны с самого начала. Какое отношение имеет моральный закон к совершенным нравственным существам? Зачем нужен моральный принцип, если мы не можем быть ничем иным, кроме как моральными? Эвдаймонизм отменяет сам себя как моральный принцип. Шопенгауэр называет оптимизм вообще гнусным. Если когда-либо оптимизм и был гнусен, то это, безусловно, бессмысленный оптимизм теории счастья, который неизбежно заключается в его последствиях.
Но давайте выведем еще одно следствие, вполне достойное eudaimonis- inus: Все склонности, как мы знаем, не должны быть поставлены в зависимость в своей ценности от какого-либо стоящего над ними авторитета, но должны уже имплицитно нести свою ценность в себе, просто потому, что они – склонности. Поэтому каждый человек имеет право и обязанность одновременно – для него это одно и то же – безжалостно утверждать свои склонности, поскольку учет всегда уже является ограничением склонностей и, возможно, даже был бы противоречиво аморальным, хотя не может быть аморальности, а значит, и вообще никакого учета. Это утверждение также должно требовать всеобщего признания, поскольку эвдаймонизм предполагается как принцип. Однако этим склонностям – нет никаких логических оснований для обратного, и реальность демонстрирует это в тысяче форм – могут быть противопоставлены другие склонности, имеющие такое же право и такую же обязанность принуждения. Поэтому и те и другие должны иметь возможность отменять и уничтожать друг друга, несмотря на их взаимную моральную ценность. Поэтому им также не должно быть позволено утверждать себя, и это утверждение также должно быть способно требовать общей обоснованности. То, что должно быть, не должно быть, а то, что не должно быть, должно быть. Большего абсурда, пожалуй, и быть не может. Эвдаймонизм «вне добра и зла», он также вне истинного и ложного. Эвдаймонизм,36 доведенный до своего логического завершения как моральный принцип, судит сам себя; разум отсекает его под корень, а вместе с ним и все его отдельные отростки, ветви и сучья, которые исходят из одного корня.
Все его конкретные формы основаны на его принципе, который сам по себе несостоятелен, а потому и сам несостоятелен. В этом они равны между собой, отличаясь лишь разнообразием вновь добавляемых следствий.
§7.
Предполагаемая строгость критической этики в целом.
Несчастье – это, по-видимому, удел человека: наша природа побуждает нас стремиться к счастью, но мораль запрещает это делать. Мы всегда нуждаемся в удовольствиях, но никогда не должны их получать. Не является ли это следствием нашей моральной концепции? Не лишает ли это нас самих себя, не является ли это суровостью и жестокостью, а не «ригоризмом» в худшем смысле этого слова? Эта мысль действительно как бы навязывается нам, и для некоторых она действительно кажется необходимым следствием критической этики, категорического, универсально обоснованного долженствования; или, может быть, это только предполагаемое ее следствие?
Критическая этика не исключает из нашего существования всякое удовольствие и радость, ибо есть разница между неспособностью применить принцип морали и полной аморальностью. По правде говоря, критическая этика запрещает стремление к удовольствиям в той же мере, в какой запрещает их. Ведь счастье, как реализация реальных стремлений индивида, всегда должно пониматься как реальное состояние, а значит, по отношению к моральному закону оно само является лишь содержанием. И здесь наше исследование достаточно показало, что мораль никогда не может включать в себя жесткое содержание, что содержание по-разному оценивается в разных обстоятельствах, т.е. в разных отношениях к моральному закону, что оно может быть морально ценным в одно время и предосудительным в другое. Поэтому оно никогда не может служить моральным принципом, но как содержание оно ни в коем случае не исключается из морального закона. Точно так же и со счастьем, именно потому, что оно было бы содержанием морального закона, который как таковой никогда не может служить принципом, да и не может. Таким образом, счастье вовсе не исключается в индивидуальном реальном случае, т.е. в том индивидуальном случае, в котором и только для которого оно может быть реализовано, без учета его последствий и реализации счастья вообще. Как и всякое содержание, оно получает определение своей ценности от абсолютного долженствования, по-разному в зависимости от разнообразия условий и обстоятельств, т.е. по-разному в зависимости от диспозиции, которая руководит нами в этом определении. Поэтому мораль и этика еще не исключают нашего стремления к счастью, не исключают всякого удовольствия и радости как определенного содержания. Критический принцип морали лишь с самого начала оставляет их ценность неопределенной, и только это исключает их возведение в принцип самой морали.
Поэтому критическая этика, которая является единственно возможной этикой, не так жестка и строга, не так жестока и ригористична, тем более что она сама предполагает определенного рода удовольствие. Мы уже объяснили 1) очень сильное и важное соображение для этого размышления, т.е. мы увидели, как в современной философии, в частности, растет понимание того, что даже в умозрении, в «чисто теоретическом», не упускается практический момент, что практическое должно быть признано основой всего теоретического. Одобрение и неодобрение являются определяющими моментами суждения и деятельности суждения, согласно Виндельбанду;37 а Риккерт 38даже видит в познании «процесс, определяемый чувствами, т.е. удовольствием и неудовольствием». Но эта детерминация практического чувствами, которая имеет место в его связи с теоретическим, имеет место тем более в своей собственной области. Ибо она действительна в теоретической области только в силу практической фундаментальной черты познавательной деятельности – спонтанного активного поведения познающего субъекта.
Поэтому мы можем применить то же самое рассуждение к чисто практическому, или лучше: к чисто практическому, из которого оно вытекает, и применить его здесь: Как в сфере теоретического определяющее содержание суждение-решение с признанием содержания несет в себе одобрение, выражающее удовольствие от его обоснованности, так и в сфере практического определяющее содержание суждение-решение с претензией на всеобщее признание несет в себе одобрение, которое точно так же влечет за собой удовольствие от его обоснованности. Оно ценно для нас именно потому, что предполагается действительным, а всякая ценность несет в себе радость и удовольствие как в теоретическом, так и в практическом плане. Поэтому всякий моральный поступок, претендующий на правомерность, на признание, сопровождается осознанием своей ценности, а значит, и удовольствием. Однако это совсем другое «удовольствие», чем то, которое мы привыкли понимать под удовольствием. Это чисто практическое вожделение, вожделение общепризнанной ценности. Но даже если это вожделение – особенное, специфическое, оно все равно остается вожделением. И тогда мы понимаем, что нравственный закон не только не исключает удовольствия с самого начала, но и предполагает очень специфическое, чистое удовольствие.39
Но эта чистота и эта определенность удовольствия опять-таки самым строгим образом отличает его от того удовольствия, которое ставит своей целью эвдаймонизм, ибо его удовольствие – не определенное, а удовольствие вообще. Оно направлено не на конкретное, определенное, а на количественное удовольствие, не на удовольствие практической ценности, а на количественную ценность удовольствия. Разница между ними в том, что эвдаймонизм занимается удовольствием вообще. Для него максима основана на удовольствии, а удовольствие практической ценности – на максиме. Для эвдаймонизма удовольствие – это мотив, цель, назначение и содержание действия, тогда как ценностное удовольствие – лишь следствие морального действия, определения чистого долженствования, но оно никогда само не может быть определяющим фактором морального действия. Оно должно было бы аннулировать себя, если бы не было просто определенным следствием самого морального закона. Ведь поступок, который совершается только для того, чтобы получить это удовольствие, лишается именно этого удовольствия, поскольку именно эта ценность-удовольствие морального одобрения возникает только тогда, когда поступок совершается с учетом морального закона, но не тогда, когда это удовольствие умозрительно.
Кому-то, однако, это может показаться слабым утешением, так как это тонкое удовольствие одобрения кажется ему лишь тенью всех возможных надежных удовольствий; более того, он может осознавать его бесконечно реже, чем последнее. Ведь чисто нравственный поступок сам по себе встречается гораздо реже, чем тот, который ставит своей целью достижение собственного блаженства. Но и здесь, как мы уже подчеркивали, поднимая вопрос о ригоризме, формальная этика на самом деле не настолько строга, чтобы стремиться к уничтожению всякого счастья и удовольствия. Она лишь принципиально отказывается их признавать, и, как мы видели, совершенно справедливо, но при этом не определяет их ценность или недостойность, а ставит их в зависимость от соотношения нашего стремления к счастью и самого морального закона.
Теперь мы можем поставить вопрос о возможных отношениях между ними, между моралью и склонностями, в самом общем виде:
I. Нравственный закон и склонности могут утверждать себя без всякого взаимного отношения, и в этом случае мы определяемся:
1. моральный закон сам по себе, и поступок сам по себе морален.
2. склонность сама по себе, без всякого отношения к нравственному закону, то есть не согласуясь с ним и не противореча ему. В этом случае поступок не является ни заповеданным, ни запрещенным и не подлежит никакому моральному осуждению.
II. Нравственный закон и склонность могут одновременно проявлять себя в одном и том же поступке, причем как в одном, так и в противоположном направлении:
1. Если в одном и том же направлении, т.е. так, что действие одновременно и повелевается моральным законом, и соответствует склонности, то следует опять-таки различать, является ли это направление случайным и в действительности оба не имеют тенденции, или же в действительности оба действуют.
A. Если оно случайное, то:
а) склонность сама по себе может привести к действию, которое, хотя моральный закон также повелевает его, совершается действующим субъектом не в ответ на эту заповедь, а лишь под влиянием его склонности. Этот поступок не является ни моральным, ни аморальным – суждения, имеющие смысл только в отношении морального закона, – а просто законным, согласно описанию Канта. Оно такое же, как и то, которое совершается без всякой ссылки на моральный закон, поскольку его соответствие ему носит лишь случайный характер,
б) может иметь место и прямо противоположное отношение, а именно: когда действие исходит из идеи нравственного закона, не мотивируясь склонностью, но случайно при его совершении связано с чувственным удовольствием как удовлетворением склонности, о которой действующий субъект не знал, а возможно, и не мог знать, когда принимал решение действовать. Такое действие также является моральным как таковым.
Б. Теперь, однако, и склонности, и моральный закон могут одновременно побуждать к действию. Тогда возможно только одно: поступок имеет моральную ценность, хотя и в самых разных степенях: от низшей, выше юридической, до той, которая совершается чисто по долгу службы40. Сюда же можно отнести и случай, когда мы поддаемся склонностям, удовлетворение которых является для нас одновременно и долгом, что, по выражению Канта, «стремление к счастью как средство к добродетели само есть долг».
2. нравственный закон и склонность могут, наконец, иметь противоположное направление, они могут вступать в конфликт друг с другом. Здесь возможны два действия для морального суждения: A. Долг может выйти победителем над склонностью из этого конфликта. Мы поступаем нравственно, несмотря на возникающее при этом неудовольствие.41
B. Мы можем поддаться склонности вопреки положениям нравственного закона, и в этом случае мы действуем безнравственно как таковое.