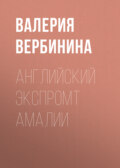Валерия Вербинина
Путешественник из ниоткуда
ГЛАВА ХII
– Bonsoir, messieurs! Bonsoir, monsieur Apollinaire! Je vous ai apporté les livres que vous avez demandés…[34]
Изабель Плесси сияла. Переполох, который произвело ее появление, она приняла на свой счет самым лестным образом и теперь улыбалась мне, улыбалась Былинкину, одновременно протягивала руку для поцелуя Ряжскому, на которого бывшая гувернантка определенно произвела самое положительное впечатление, и успевала стрельнуть глазами в брандмейстера, который смотрел на нее, открыв рот. В левой руке Изабель держала, прижимая к себе, пачку книг, в заглавиях которых были сплошные мистерии и тайны.
– Кто это, Аполлинарий Евграфович? – с недоумением спросил Щукин, обращаясь ко мне.
В двух словах я объяснил ему суть дела.
– А, ваша невеста! – воскликнул Былинкин. – Очень, очень привлекательная особа!
И в свой черед припал к ее руке.
– Вообще-то она мне не невеста, – сердито сказал я. – Мы только сегодня с ней познакомились.
– Толкуйте, толкуйте! – проворчал Щукин. – А то я, признаться, грешным делом уже решил, что господин Корф явился по нашу душу.
От избытка чувств Былинкин, должно быть, слишком стиснул руку богатой наследнице, потому что она пискнула, взмахнула второй рукой, в которой держала книги, да так неловко, что одна из книг угодила в графин на столе исправника и опрокинула его.
– Ах, черт! – воскликнул Ряжский, бросаясь обратно к столу. – Бумаги!
– Ах, какой я неловкий! – простонала Изабель, глядя на учиненный ею разгром.
Мы с Былинкиным бросились спасать бумаги. Француженка поспешила нам на помощь и прежде всего уронила на ковер чернильницу.
– Ах! – пролепетала Изабель, хватаясь за голову.
– Ничего, ничего, – сипел Былинкин, – сейчас мы чернила затрем… осторожненько…
От его движений чернильная лужа на ковре стала еще шире. Ряжский, глядя на его действия, только покачал головой.
– Пропал ковер, – сказал Суконкин. – Был да сплыл.
– Похоже на то, – согласился Щукин. – Ну-с, Григорий Никанорович, как только господин Корф объявится, дайте мне знать. Смерть как любопытно, что же в самом деле им надо.
Он удалился вместе со своим приятелем брандмейстером, а мы попытались привести кабинет в порядок. Подбирая с пола книги, Изабель стала коленом в чернильную лужу.
– Мадемуазель, – простонал Былинкин, – votre robe…[35]
– Ах, ничего, – ответила она по-французски, мельком взглянув на пятно. – Куплю другое!
Затем поправила очки и победно воззрилась на нас. Ряжский перебирал на столе спасенные бумаги.
– Ради бога, простите, Григорий Никанорович, – начал я. – Я и в мыслях не имел, что она может прийти сюда.
– Боже мой, какие пустяки, – отмахнулся он, и тут же морщинка озабоченности прорезала его переносицу. – Телеграмма! Секретная! Где она?
Былинкин нырнул под стол, я стал смотреть под креслами, не обратив внимания на то, что мадемуазель Плесси держит в руках какой-то листок и с любопытством разглядывает его.
– Что тут у вас, мадемуазель? – спросил Ряжский, подходя ближе. – О, пардон! Это мое.
Она с улыбкой отдала ему листок, который держала вверх ногами.
– Нашел, – сообщил Ряжский, поворачиваясь к нам. – Никита Егорыч! Что вы все там елозите по ковру? Бросьте, завтра же я велю постелить другой ковер. По поводу портрета я вам уже сказал. Насчет доклада вы, Аполлинарий Евграфыч, тоже предупреждены. Надеюсь, ваши личные дела вас не слишком отвлекут! – И покосился на Изабель, которая стояла, держа в руках книжки, и переводила взгляд с одного на другого.
– Григорий Никанорович…
– Да ну что вы, голубчик, я совершенно на вас не сержусь. И на вашу мадемуазель – тоже. В конце концов, ковер давно было пора менять. – Ряжский посмотрел на часы и нахмурился. – Ого! Так, господа, пора по домам. Не исключено, что завтра у нас будет важный визитер… вы в курсе, кто. – Он подошел к окну и озабоченно вгляделся в темнеющую улицу. – Так я и знал! Половина фонарей не горит. Безобразие! Надо бы сказать, чтобы с завтрашнего дня была полная иллюминация, а то господин Корф может принять нас за каких-нибудь провинциальных медведей. Со столичными нужно держать ухо востро. До завтра, господа! До свидания, мадемуазель Плесси! Надеюсь, у нас еще будет случай познакомиться поближе. – Исправник приосанился и разгладил усы.
* * *
Мы шли с Изабель по окутанной сумерками улице, и теплый ветер дул нам в лицо.
– Мой экипаж неподалеку, – сказала Изабель по-французски. – Если хотите, мы доедем быстро.
– Нет, благодарю, – довольно сухо ответил я. – Я предпочитаю пройтись.
– Тогда подождите…
Она подошла к кучеру, дремлющему на козлах, и сказала ему несколько фраз. Зевая, Аркадий кивнул и стегнул лошадь, которая мерно затрусила вверх по улице.
– Я пойти вместе с вами, – объявила по-русски Изабель, вернувшись. – Есть хорошо?
В полном молчании мы дошли до площади императора Александра Освободителя.
– Вы так и не взяли книги, – напомнила Изабель, вновь переходя на русский язык, когда молчать стало уже совсем невмоготу.
Досадуя на себя, я забрал из ее рук томики.
– Спасибо.
– Вы не в духе? – тревожно спросила она.
– Нет, что вы!
Фальшь моего тона не обманула бы даже младенца. Но Изабель сделала вид, что верит мне.
– Вы знаете, Аполлинер, я собираюсь здесь задержаться. – Она собралась с духом. – Так что вы можете читать книги сколько захотите.
Похоже, подозрения городка N по поводу моей предполагаемой женитьбы были вовсе не так беспочвенны, как могло показаться на первый взгляд. По крайней мере, Изабель явно вела себя, как персона заинтересованная (выражаясь языком великосветских романов). Однако то, что объектом ее привязанности выступал именно я, меня, признаться, не устраивало. Не то чтобы она мне совсем не нравилась – просто ее напор меня, по правде говоря, отпугивал.
Ну вот, написал последнюю фразу и почувствовал себя дурак дураком. А впрочем, кому какая разница? Все равно никто никогда не прочтет эти записки, так о чем мне беспокоиться…
Я неловко поблагодарил Изабель за книги. Она оживилась и тотчас же сообщила мне, что у нее «очень, очень много книг» и она готова давать их мне, как только я пожелаю. По счастью, вскоре разговор принял иное направление.
– Скажите, а тот высокий мужчина с усами – начальник полиции города?
Я подтвердил, что это так.
– О! Мне всегда так нравились мужчины в мундирах! – воскликнула она простодушно.
Мысленно я попытался представить себе, какой мадемуазель Плесси будет женой, и поневоле был вынужден прийти к выводу, что ее муж, кем бы он ни был, вскоре оказался бы у нас по обвинению в женоубийстве. Конечно, она была добра, великодушна и по-своему очень мила, но вместе с тем совершенно невыносима.
Я проводил мадемуазель Плесси до «Уголка для проезжающих», где она остановилась, и отправился к себе, благо мой дом располагался по соседству. Мне еще надо было писать для Ряжского отчет, чтобы столичный ревизор, неведомый господин Корф, мог увидеть, что дела в N ведутся в образцовом порядке, и чтобы Григорий Никанорович имел повод лишний раз похвастаться расторопностью своих служащих.
Уже перед самым отходом ко сну, раздеваясь, я вынул из кармана кошелек, желая убедиться, что оставшейся в нем мелочи мне хватит на хлеб до конца недели. Однако при этом движении какая-то радужная бумажка выпорхнула из кармана и плавно приземлилась на пол. В некотором удивлении я поднял ее.
То была сторублевая ассигнация.
* * *
– Говорю вам, она уже легла!
– Но, Марья Петровна, мне необходимо с ней поговорить!
– Ах, какие вы нынче нетерпеливые, право! – Владелица «Уголка для проезжающих» наконец впустила меня внутрь.
Не дожидаясь ее, я взбежал по лестнице и постучал в номер. Через минуту за дверью послышалось движение.
– Qui est là?[36] – спросил заспанный голос, несомненно, принадлежавший мадемуазель Плесси.
– Police[37], – сухо ответил я.
– Ah, mon Dieu![38]
Однако дверь тотчас распахнулась, и передо мной предстала мадемуазель Плесси с папильотками в волосах, зевающая во весь рот и кое-как прилаживающая на нос очки.
– Ах, это вы, месье Аполлинер! – тотчас же расплылась она в улыбке. – Что-нибудь случилось? Вам не понравились мои книги?
– Сударыня, – кипя от бешенства, начал я, – должен сказать, что я не привык, когда со мной обращаются таким образом! Вот ваши деньги, возьмите их, мне ничего не надо.
– Какие деньги? – изумилась мадемуазель Плесси, вытаращившись на меня. – О чем вы, месье?
Ее изумление было так искренно, что я заколебался.
– Разве не вы положили мне их в карман?
– Я?
Уже более спокойным тоном я объяснил, что случилось, ловя в лице Изабель хоть какие-то признаки того, что купюру положила мне в карман она. Однако реакция француженки поразила меня. Едва узнав, в чем я ее обвиняю, она разинула рот, отшатнулась и надменно выпрямилась. Если бы не папильотки на голове, она бы выглядела почти устрашающе.
– Это возмутительно, месье! – заверещала она так, что ее было слышно не только во всех номерах «Уголка», но и, наверное, возле полицейского управления. – Вы обвиняете меня в… в… бог весть чем! К вашему сведению, я никогда не платила мужчинам и не собираюсь и впредь! Вот так!
И, разгневанно выпятив подбородок, мадемуазель Плесси холодно кивнула мне и с грохотом захлопнула дверь перед моим носом.
ГЛАВА ХIII
Поразительное дело: когда я на следующее утро явился на службу, секретарь Былинкин был уже там.
Он смотрел на меня преданным взором сообщника, который совсем недавно помогал матерому злодею – то есть мне – прятать труп очередной загубленной мною жертвы. В его восторженном лице, в суетливых манерах проглядывалось нечто вроде намека на тайну, которая связывала нас обоих. Я упомянул о намеке, но, по правде говоря, мимика и движения его были настолько красноречивы, что даже самый неискушенный человек, глядя на нас, заподозрил бы неладное.
Былинкин сообщил, что Григорий Никанорович с самого утра приводит в порядок дела, чтобы предстать перед заезжей столичной особой во всеоружии. Кроме того, я даже не сразу заметил, пол в управлении сверкал чистотой и на дверях кое-где были приделаны новые ручки.
– Да, вы же знаете, – сказал Былинкин (он такой фразой обыкновенно предварял каждую городскую сплетню, до которых был большой охотник), – Старикова-то отпустили!
Известие поразило меня до глубины души.
– Отпустили? Как? Почему? Анна Львовна забрала свою жалобу?
– Ничуть нет, – ужасно гордясь собой, отозвался Былинкин. – Только сегодня пришла телеграмма от губернатора, что мы тут занимаемся попустительством беззаконию, коего он-де не потерпит. Ну-с, Григорий Никанорович и струхнул маленько.
– От губернатора?
– Да-с, да-с, – самодовольно отвечал секретарь. – Все-таки, как ни крути, помещик, да еще дворянский предводитель, хоть и бывший – не мелкая сошка. Конечно, у Старикова остались друзья, есть кому за него заступиться.
– Должно быть, Веневитиновы будут жутко недовольны, – пробормотал я.
– Вне всяких сомнений, Аполлинарий Евграфович. Кстати, собираетесь завтра быть на торжестве?
– На каком торжестве? – машинально ответил я.
Былинкин изумился так, что его брови чуть не воссоединились с нафиксатуаренными прядями на макушке.
– Как на каком? На свадьбе Елены Веневитиновой и Максима Иваныча Аверинцева. Гостей, говорят, съехалось – человек сто, не меньше.
– Нет, меня не пригласили, – сухо ответил я. – Да я все равно бы и не пошел.
– Понимаем-с, понимаем-с, – вздохнул Былинкин и голову набок склонил, как ученый попугай. – Говорят, вы с невестой своей поссорились. Правда?
Тут, признаться, я вскипел.
– Мадемуазель Плесси мне не невеста и никогда ею не была, – раздраженно отчеканил я. – А теперь простите, мне надо работать.
Былинкин повздыхал еще для приличия, потомился в дверях и вышел, растворясь в золотом свете – уже второй день стояла ясная, солнечная погода. Я снял очки и стал протирать их.
«Провинция, черт бы ее подрал… Только и развлечений, что сводничать да следить за соседями, что они делают да как живут. Надо будет вернуть мадемуазель Плесси ее книги и прекратить двусмысленное общение. Некоторым действительно деньги ударяют в голову… Сначала она купила экипаж вместе с кучером, а потом, пожалуй, захочет и мужа купить. – Я поморщился. – Наверняка все же именно она подсунула мне сторублевку – увидела, когда я расплачивался, что в кошельке у меня ничего не осталось. Хотя она так искренне удивилась… А впрочем, вздор. Разве можно верить женщине?»
Мои размышления прервал стук в дверь.
– Войдите! – крикнул я и хотел надеть очки, но чуть не уронил их на стол. Потому что в кабинет вплыло темно-красное шуршащее пятно и остановилось у порога.
– Я баронесса Амалия Корф. Вас должны были известить о моем прибытии. Меня прислали сюда по делу Петровского.
И, услышав голос, я едва не уронил очки вторично.
* * *
Государь император, очищенный от паутины, с любопытством поглядывает на нас с портрета. В окна ломится летний день и доносятся крики мальчишек, продающих газеты. На лице Ряжского написано смущение, и если бы я был беллетристом, то непременно отметил бы, что написано оно там большими буквами.
– Гхм… Амалия… простите, не знаю вашего отчества…
– Просто баронесса Корф, – отозвалась она, снимая перчатки. – Итак?
Всего несколько слов, и Ряжский повержен. В такое трудно поверить, но непотопляемый исправник прострелен от борта до борта и медленно идет ко дну. И виною тому – красивая спокойная блондинка с глазами цвета ржавчины, источающая нескрываемое высокомерие. А голос, боже мой! Металлический, леденящий…
Нет, не нравится мне баронесса Корф. Совсем не нравится.
– Мы только вчера получили телеграмму о вашем прибытии… – пытается выиграть время исправник.
– Разумеется, – спокойно соглашается она, – вы должны были ее получить… я так думаю. Однако к делу, господа. Должна признаться, у меня не очень много времени, так что дорога каждая минута. Итак, кто из ваших людей нашел тело?
Ряжский засуетился, представил меня госпоже баронессе и упомянул о моей роли во всей истории. Ржавые глаза обратились на меня.
– Значит, Аполлинарий Марсильяк – это вы?
– Аполлинарий Евграфович, – зачем-то уточняю я.
– Хотелось бы поподробнее услышать обо всем.
– У меня тут есть отчет… – пытается некстати встрять Ряжский.
Легкий жест рукой. И Григорий Никанорович сдувается, как проколотый воздушный шарик. Однако стоит признать, что неведомый генерал Багратионов умеет подбирать себе людей…
– Все отчеты потом. Сейчас я хотела бы послушать месье Марсильяка.
Я рассказываю о том, как заблудился в лесу и случайно вышел к железной дороге. Баронесса задумчиво щурится.
– Так, так… Любопытно. Позволительно ли мне будет спросить, что именно вы делали в лесу?
Григорий Никанорович бросает на меня умоляющий взгляд. Но что толку слушать того, кто уже коснулся дна? И я рассказываю нашей великолепно одетой гостье о злодейском умерщвлении собаки Жужу.
– Ах вот оно что… – протягивает Амалия. – Стало быть, у вас есть время и на подобную чепуху? Занятно. Продолжайте, прошу вас.
Я рассказываю о Петровском. Исправник сидит нахохлившись. Вряд ли, конечно, он простит мне, что я вывел его перед столичной персоной в таком комическом виде, но мне все равно, что именно он обо мне думает.
– Откуда вы узнали, что погибший – именно Петровский? – хмуро спрашивает баронесса.
– При нем был паспорт. – И прежде, чем она протягивает руку, я уже лезу в карман.
Амалия Корф бегло просмотрела докумепт, и непонятная улыбка тронула углы ее губ.
– Что ж, замечательно… Великолепно. Что еще вы обнаружили на трупе?
Я перечисляю. Программка цирка… Записка от какой-то Китти… Зубочистки… Кольцо на мизинце… Баронесса задумчиво смотрит на меня, и ее взгляд нравится мне еще меньше, чем она сама.
– Скажите, – раздумчиво спрашивает она, – вы не обнаружили больше никаких бумаг?
– Например? – удивленно спрашиваю я.
– Каких-нибудь, – загадочно отвечает она. – Вспомните, это очень важно.
Ряжский бросает на меня огненный взгляд, торопя с ответом. Я смотрю в свою записную книжку, куда занес детали происшествия, роюсь в памяти…
– Нет, ничего такого при нем не было.
– Вы уверены?
– Абсолютно уверен.
– А что, при Петровском должно было находиться что-то важное? – подает голос изнывающий от желания помочь Григорий Никанорович.
– Как вам сказать… – неопределенно отвечает Амалия и, внезапно сорвавшись с места, бросается к двери. Рывком распахнув ее, обнаруживает за ней секретаря Былинкина. Исправник, побагровев, срывается с места.
– Никита Егорыч! – рычит он. – Вон!
– Я… я т-только б-бумаги н-нес… – лепечет секретарь, заикаясь на каждом слове.
– Вон, я сказал! – генеральским голосом гремит Ряжский. – И чтоб духу вашего здесь не было!
Былинкин в ужасе уносится прочь. Амалия выглядывает в коридор и, поплотнее затворив дверь, возвращается к нам.
– Любопытные у вас сотрудники, – холодно замечает она. – Значит, чертежей вы не нашли?
Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы осмыслить ее вопрос.
– Чертежей? У Петровского были при себе чертежи?
– Мы так предполагаем, – спокойно ответила баронесса. – Восемь чертежей на голубой бумаге, с надписью «Направлено на утверждение» в правом верхнем углу. Нет? Не припоминаете?
Я качаю головой.
– Уверяю вас, баронесса, если бы что-то такое было, я бы ни за что не пропустил… Но у Петровского никаких чертежей не имелось.
– Жаль, – вздохнула баронесса Корф, глядя на меня непроницаемыми ржавыми глазами. – Потому что от них зависит спокойствие Российской империи. – Она поморщилась. – Конечно, вы ни в чем не виноваты. В конце концов, Петровский был не настолько глуп, чтобы носить при себе подобные документы… – Она поднялась с места. – А теперь, господа, с вашего позволения я хотела бы осмотреть тело. Паспорт – это, конечно, прекрасно, но в данный момент он совершенно меня не интересует.
Исправник в ужасе посмотрел на меня, ища поддержки. В глазах его плескалась паника.
– В чем дело, господа? – осведомилась Амалия, учуяв неладное.
– Баронесса, простите нас, – срывающимся голосом начал Ряжский. – Дело в том, что… – Он собрался с духом. – Дело в том, что тела нет. Оно исчезло! Верите ли, мы бьемся над загадкой его исчезновения уже третий день. Не так ли, Аполлинарий Евграфович?
ГЛАВА ХIV
Буду откровенен. Почти все мы, смертные, за малым исключением, – люди суетные, злопамятные и мстительные. Едва ли найдется такой человек, который не мечтал бы присутствовать при позоре или унижении своего врага, и в то же время – хвала милосердному богу – немногие из нас могут похвастаться тем, что воочию увидели осуществление своей мечты. Выше, помнится, я уже упоминал, что не питаю симпатии к исправнику, и, по логике вещей, меня должно было обрадовать то поношение, которому он подвергся после своего злосчастного признания. О нет, баронесса Корф не произнесла вслух ни единого бранного слова – она была слишком хорошо воспитана, а потому не стала распекать провинившегося Григория Никаноровича. По крайней мере, столь рьяно, чтобы с потолка посыпались куски штукатурки и в рамах задрожали стекла. Однако каждое слово, ею произнесенное, было так напитано ядом, она так жалила, язвила и колола бедного Ряжского, что он краснел, бледнел, синел, лиловел, рассыпался в извинениях, клялся немедленно исправиться. Зрелище было настолько жалким, настолько унизительным, слова моего начальника казались таким детским лепетом, что я, случайно оказавшийся свидетелем сей словесной экзекуции, не знал, куда деться от стыда. Может быть, Ряжский и нечист на руку, может быть, слишком неумен при всех своих претензиях на ум, но он явно не заслуживал того, чтобы с ним обошлись подобным образом. Его вина заключалась разве что в излишнем легкомыслии, а между тем его прямо-таки приставили к позорному столбу. Послушать приезжую баронессу, так казалось, что в своей жизни (судя по всему, богатой событиями) она положительно не встречала никого хуже Григория Никаноровича.
– Поразительно, просто поразительно! В то время как все лучшие силы империи брошены на поиски чертежей, от которых, может быть, зависит даже спокойствие царствующего Дома, – при этих словах баронессы Ряжский позеленел и, вытянувшись в струнку, метнул умоляющий взгляд на портрет, словно призывая его в свидетели своей лояльности, – когда все мы сбились с ног, пытаясь отыскать хоть какой-то след, господа в благословенном городе N занимаются тем, что решают невероятно сложную головоломку. Скажите, пожалуйста! Убита собака, что, оказывается, важнее спокойствия империи! – На Ряжского было страшно глядеть. – Ах, господа, господа, – промолвила баронесса с укоризной, – как же вы меня разочаровали!
Исправник произнес множество бессвязных слов о том, что он всегда… готов искупить кровью… и жизнь свою принести на алтарь отечества… Но баронесса Корф только покачала головой.
– Довольно вздора, – сухо сказала она, и ее ржавые глаза угрожающе сузились. – Итак! Мне нужно тело. Я разумею, тело человека, который вам известен как Петровский. В вашу задачу, коль скоро именно вы упустили его, входит отыскать труп как можно скорее. Мобилизуйте все силы, зовите на подмогу кого хотите, но чтобы самое большее к завтрашнему дню Петровский – был – найден! – В такт своим словам она отстукивала по столу тонкой рукой. – Кто бы ни прятал тело, далеко его все равно увезти не могли. Обыщите лес, дома, обшарьте все вокруг, объявите награду тому, кто укажет хоть какую-то зацепку. – Исправник стоял перед нею, вытянув руки по швам, и глядел на баронессу с суеверным ужасом. – Действуйте! И помните, что на карту поставлено слишком многое. Если вы поможете мне отыскать пропавшие чертежи, ваше имя, возможно, будет упомянуто в докладе на высочайшее имя, а если не справитесь, тогда… Тогда оно все равно будет упомянуто, но в совершенно ином контексте. Сейчас реже ссылают в Сибирь, но все-таки ссылают, господин Ряжский. О чем и рекомендую вам не забывать.
То ли упоминание о Сибири так подействовало на бедного Григория Никаноровича, то ли он уже не чаял убраться живым из своего кабинета, но исправник поспешно бросился к двери, впопыхах стукнулся о створку, крикнул на прощание, что сделает все как надо, и выскочил за дверь как ошпаренный. Баронесса Корф только покачала головой.
– А вы? – холодно спросила она. – Чего вы ждете?
Чем дальше, тем больше мне не нравилась эта особа, и я решил во что бы то ни стало поставить ее на место.
– Сударыня, – не менее холодно ответил я, – попросил бы вас не забывать, что я нахожусь на государственной службе и вовсе не заслужил того, чтобы со мной обращались, как с лакеем.
– К вашему сведению, сударь, я тоже нахожусь на государственной службе, – парировала неприятная особа. – И моя служба будет поважнее вашей!
У меня на языке вертелся резкий ответ – мол, петербургские дамы, прежде считавшиеся самыми воспитанными, должно быть, изрядно деградировали, – но тут дверь отворилась, и на пороге показалась улыбающаяся во весь рот мадемуазель Плесси. Сегодня на ней было новое платье, сиреневого оттенка, а в руке мадемуазель держала веер и кокетливо обмахивалась им.
– О, я так и зналь, что найти вас здесь! – объявила она. Тут взгляд Изабель упал на столичную визитершу, и француженка слегка нахмурилась: – Я вам помешать? Это ваш невеста?
Чем дальше, тем больше у меня становилось невест. Но, по правде говоря, я бы сто раз предпочел Изабель с ее смешными ужимками столичной гостье с ее стальными интонациями и неприятными глазами. Тем не менее я представил дам друг другу. От меня не укрылось, что бывшая гувернантка так и впилась в Амалию Корф неприязненным взором. Даже веер чаще обычного заколебался в ее руке. Свободной рукой она вцепилась в мой локоть, и, в то время как Изабель произносила требуемые приличиями банальные любезности, рука ее потихоньку отодвигала меня все дальше и дальше от баронессы. Невольно я поразился: неужели мадемуазель Плесси ревнует меня?
– Вы надолго в N? – спросила Изабель.
– Как придется, – уклончиво ответила госпожа Корф. Само собою, о ее миссии я не сказал Изабель ни слова.
– Трудно быть далеко от дом, – вздохнула мадемуазель Плесси, и ее взор затуманился.
– О, да, – вежливо откликнулась баронесса.
Вернулся Ряжский и с сияющим видом сообщил, что все готово. Городовые, полицейские и пожарные – все отправлены прочесывать местность.
– Пожалуй, я поеду с вами, – сказала баронесса Корф. – Вы будете руководить поисками, а я прослежу, чтобы ваши люди чего-нибудь не упустили. Едем!
Григорий Никанорович, слегка смутившись, объявил, что он очень польщен, и тут же переключился на меня:
– Аполлинарий Евграфович, голубчик, а вы-то что? Немедленно езжайте, я вам там в подмогу Онофриева с Соболевым выделил. Осмотрите лес, вдруг он там окажется, покойничек наш… И не мешкайте! Мое почтение, мадемуазель, – отнесся он уже к Изабель. – Прошу нас извинить – дела, дела…
И стал обсуждать с баронессой Корф диспозицию предстоящих поисков.
* * *
Лес, пронизанный солнцем, томительно хорош. В золотых столбах света вьется мошкара и пляшут пылинки, ветер тихонько шевелит листья деревьев. Где-то на верхушке сосны долбит дятел, остановится, передохнет – и вновь принимается долбить. Заливаются птицы… А вот любопытный красный мухомор, весь в белых веснушках, высовывает свою шляпку из-под прошлогодних листьев. Какой-то юркий зверек перебежал тропинку перед нами так быстро, что мы не успели даже разобрать, кто это был. Белка? Барсук?
– Я люблю лес, – объявила Изабель в шестой или седьмой раз с тех пор, как мы покинули N.
Если вы полагаете, что упоминание о служебной надобности могло остановить настырную француженку, то глубоко заблуждаетесь. Перво-наперво она объявила, что пришла ко мне, чтобы попросить прощения за вчерашнее. Вчера вечером, по ее словам, она превратно истолковала мои намерения (румянец на щеках, стыдливый смешок из-под веера). Тут я не выдержал и сказал, что если уж кому и надо извиняться, так все-таки мне. Ничуть, возразила мадемуазель Плесси, она виновата не меньше моего. Конечно, продолжала она, я изобрел довольно странный предлог, чтобы повидать ее, но…
Тут земля стала уходить у меня из-под ног, я объявил, что мне надо отлучиться на минутку, и позорно сбежал. Урядник Онофриев и пожарный Соболев – два самых никчемных человека в городе – уже ожидали моих указаний. Я объяснил, что нам отводится лес, где мы должны отыскать хоть какие-нибудь следы беглого трупа. На том и порешили, однако выяснилось, что всех казенных лошадей уже разобрали, и нам предстояло тащиться до места пешком, что нам вовсе не улыбалось. По счастью, выручила нас… ну да, мадемуазель Плесси, объявившая, что ее экипаж в нашем распоряжении.
– А госпожа баронесса поедет с нами? – спросила она как можно более небрежно.
Я ответил, что нет, и она сразу же успокоилась.
– Она очень красивая, – сообщила мне Изабель, когда мы ехали по дороге, ведущей к лесу. – Не правда ли?
Я ответил чистую правду – что не нахожу в мадам Корф ничего особенного.
– Ах, – вздохнула Изабель, – мужчины всегда так говорят, а потом… – И она принялась усиленно обмахиваться веером.
Мы подъехали к лесу и выбрались из экипажа. Я предложил Изабель подождать нас, но она отказалась, сославшись на то, что ей хочется немного погулять. Соболев с Онофриевым выразительно переглядывались, ухмыляясь в кулак. Чтобы избавить себя от их дурацких замечаний, которые, как можно было предполагать, не замедлят последовать, я велел им разделиться и осматривать лес, а сам двинулся по тропинке, ведущей к озеру. Изабель со своим веером последовала за мной, в преувеличенных выражениях восторгаясь красотой окружающей природы. Однако, должен сознаться, я обращал не слишком много внимания на ее болтовню, потому что мучительно решал для себя один наболевший вопрос.
Почему я не отдал баронессе Корф найденный мною ключ?
В самом деле, с того момента, как она перешагнула порог нашего управления, я мог уже сто раз отдать его. Однако не только не отдал, а даже не стал упоминать о ключе, как будто его и не было. Значит, что, я желал ее обмануть? Или сознательно не хотел облегчать работу лично неприятной мне особе, которая постоянно пыталась указать мне на мое место? Или…
– Как называется этот цветок? – спросила мадемуазель Плесси, глядя на меня восторженным взором.
Я ответил, что понятия не имею, и вновь углубился в свои нелегкие размышления. Разумеется, баронесса Корф представляла ведомство, шутки с которыми были, прямо скажем, не только плохи, но и опасны для здоровья. Но что, если я на свой страх и риск проведу собственное расследование? Вот возьму и отыщу чертежи, заветные восемь листов на голубой бумаге, которые так много значат… Разве после такого меня оставят в N, который я от души презираю? Может быть, дело о пропавших чертежах станет началом моей блестящей карьеры…
Вздор, одернул я себя. Кто сказал, что я вообще их найду? И почему мне должно повезти там, где оступились лучшие силы империи, если воспользоваться выражением баронессы Корф? Не лучше ли (и разумнее) просто отдать ключ, рассказать, при каких обстоятельствах он был найден, и не лезть более в дело, которое, по сути, совершенно меня не касается? Ведь я абсолютно ничего не знаю о Петровском, не считая того, что он был рыж, носил щегольские ботинки, вез чертежи и сломал себе шею, после чего загадочным образом куда-то исчез.
– А что за гриб, вы не знаете? – спросила мадемуазель Плесси, улыбаясь.
– Сыроежка, – буркнул я.
– Comment?[39] – вскинула брови она.
Я подумал, что еще несколько вопросов подобного рода, и в леcу точно найдут труп, но не Петровского, а неожиданно разбогатевшей француженки, которая имела неосторожность вывести из себя недоучившегося кандидата прав. Подавив раздражение, я быстро зашагал вперед… и шагов через тридцать увидел тело.
Оно лежало возле тропинки, на примятых земляничных листьях. Рот был раскрыт, зубы оскалены, глаза остекленели. Над трупом вились три или четыре мухи, но в первое мгновение я даже не заметил их.
Это было тело собаки.