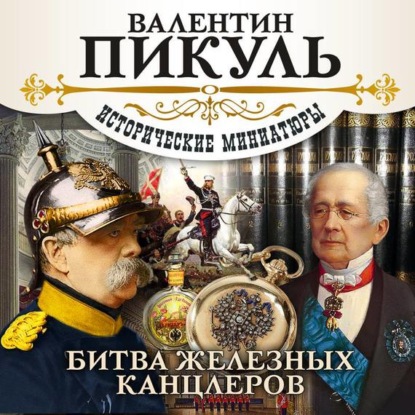Полная версия:
Валентин Саввич Пикуль Псы господни (сборник)
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Валентин Пикуль
Псы господни
© Пикуль В.С., наследники, 2011
© ООО «Издательство «Вече», 2011
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017
Сайт издательства www.veche.ru
Псы господни
Такой заголовок дал автор своему роману, начало работы над которым относится к концу 1980 года. Свеча жизни писателя догорела раньше, чем он поставил в нем последнюю точку. Вот и лежит сейчас передо мной извлеченная из архива рукопись незавершенного романа Валентина Пикуля.
Разбираю многочисленные бумаги с материалами, относящимися к роману, среди которых заметки, цитаты, «почасовик», программы (минимум и максимум), обширная библиография, десяток портретов. Почти везде будущее произведение значится под этим названием. Сама рукопись – более двухсот страниц уже отпечатанной и правленной Валентином Саввичем первой книги.
Особо следует остановиться на «почасовике» – так называл Валентин Саввич составляемый им на каждое новое произведение рабочий план, из которого было ясно, какие события происходили в тот или иной год и даже день, с кем встречался герой и о чем они говорили, где можно прочитать об этом событии или герое. Просмотрев «почасовик», можно иметь довольно полное представление о содержании книги. Именно создание «почасовика» требовало огромного многолетнего труда, знаний, таланта. А сам процесс написания книги по подробному «почасовику» был для Пикуля, как говорится, делом техники.
Роман шел трудно, с большим физическим и нервным напряжением. На протяжении десяти лет жизни Пикуль трижды возвращался к этой теме, интересовавшей его не только как писателя, но и как историка-исследователя, заставляя много анализировать, сопоставлять с современностью, чтобы дать ответ на постоянно мучившие его вопросы: кто такие иезуиты, откуда и с чем пришли к нам, какую роль сыграли в истории нашего Отечества и Западной Европы. Рассыпать на мелкие камешки, удобные для рассмотрения, такую огромнейшую глыбу «за один присест» Пикулю оказалось не по силам.
Кроме того, Валентин Саввич всегда был полон планов и замыслов. Траектория полета его мыслей была непредсказуема. Когда работа над одним романом подходила к концу или он уставал жить в описываемой эпохе, у него в голове уже созревал другой роман, о котором Пикуль говорил вначале осторожно, исподволь, а потом все более отчетливо, настойчиво. Начинал собирать литературу и с упоением брался за освоение очередной темы. Но… вдруг высвечивалась новая идея, казавшаяся более грандиозной, и уже изученное, продуманное и осмысленное откладывалось в сторону – на время.
На первом этапе работы писатель пытался выяснить первопричину зарождения ордена иезуитов, стремясь докопаться до самой сути, однако при изучении первоисточников он столкнулся со многими неизвестными явлениями, объяснения которых не только не проливали свет, а напротив, – были, по мнению Пикуля, искусной попыткой завуалировать истину.
Здесь считаю уместным дать небольшую справку об иезуитах, наподобие той, что в самом начале давал мне Пикуль, «вводя меня в курс».
Быстрое распространение протестантства по государствам Европы вызвало соответствующую реакцию со стороны католической церкви. Как противодействие, препятствующее распространению нового религиозного течения, явилось рождение целого католического учреждения – ордена иезуитов.
Испанский дворянин, происходивший из самого древнейшего аристократического рода, Игнатий Лойола стал основателем иезуитского ордена.
В 1540 году папа Павел III утвердил устав нового монашеского общества под названием Общества Иисуса (Societas Jesu), хотя само название членов общества иезуитов вошло в обиход уже после смерти Игнатия Лойолы.
Иезуиты получили от папы огромные права: всюду проповедовали свои идеи, совершали богослужения, исповедовали кающихся и давали обряд причащения.
В XVI–XVII веках иезуитов можно было видеть повсюду – в Европе, Азии, Латинской Америке. Часто они заседали в кабинетах государей и были их духовниками. Постепенно они завладели сердцами юношества и стали их духовными учителями. Но где бы иезуиты ни находились, чем бы они ни занимались, у них всегда была высшая цель, которой они добивались любыми средствами, – спасение католической церкви.
Орден Игнатия Лойолы за четыре с половиной века своего существования был завязан в самых запутанных узлах политики Ватикана. Ныне орден переживает трудные времена. До недавних пор в рядах иезуитов насчитывалось 26 тысяч человек, и их количество уменьшается. В настоящее время 29-й генерал ордена, голландец по национальности, Петер-Ханс Кольенбах избран на этот высокий пост в сентябре 1983 года.
Заканчивая небольшую справку об иезуитах, хочется сказать: «став рабами собственного заблуждения, они остаются верными ему до конца».
Постоянные ночные раздумья над рукописью, каждый вновь открытый источник информации в преломлении к дню сегодняшнему постепенно меняли некоторые версии его взгляда на то или иное событие и на все произведение в целом, что нашло отражение в многочисленных поправках и исправлениях на полях.
В этом читатель может сам воочию убедиться, взглянув на публикуемые здесь фотокопии титульных листов рукописи, к разговору о которых мы еще вернемся.
Своеобразным толчком к написанию романа об иезуитах явилась, несомненно, публикация в журнале «Наш современник» за 1979 год урезанной «Нечистой силы» под названием «У последней черты».
Валентин Саввич мог предполагать, что данное произведение вызовет определенный резонанс, но чтобы до такой степени, как оказалось в реальности, – такого он не ожидал: сначала в бой пошла «тяжелая артиллерия» в лице Суслова и Зимянина, а вслед за ними на Пикуля ополчилась всегда готовая выполнить команду хозяев пресса.
Возникло далекое от джентльменских принципов единоборство: с одной стороны писатель-одиночка, а с другой – целая армия критиков, интерпретирующих все события только с позиций «разрешенного» мировоззрения, что неизменно делало необходимым привлечение в помощники «госпожи фальсификации».
Да и многие собратья по перу открыто и откровенно издевались над писателем, не имевшим не только диплома, но и аттестата зрелости – он для них был «белой вороной».
Отношение к Пикулю и его творчеству резко изменилось. Но сам автор был уверен в правоте своего дела и ни на какие компромиссы с совестью не шел, не сдавался, отстаивал свои взгляды.
Второй немаловажной причиной, толкнувшей Валентина Саввича к этой теме, были «белые пятна» нашей истории. Проникновение иезуитов в Россию представлялось Валентину Саввичу именно таким «пятном».
В обстановке окриков сверху, под постоянным давлением прессы Пикуль чувствовал себя весьма неуютно. На душе было гадко и неспокойно.
«Псы господни». Да такое не напечатают только из-за названия.
Отступив на некоторое время от политической борьбы, изменив на время тактику, Валентин Саввич сел и написал сентиментальный роман «Три возраста Окини-сан», заканчивая который он уже вынашивал идею окунуться в эпоху Ивана Грозного. Все чаще у него возникало желание уйти подальше от действительности, зарыться в глубь веков – именно там Пикуль чувствовал себя спокойно.
– Сейчас хочу взяться за трудный и очень сложный период отечественной истории, который мало отражен в нашей художественной и исторической литературе, – поведал он мне.
– Куда же теперь держишь путь и кто будет твоим кумиром?
– Моими героями будут иезуиты и опричники. Место действия – Европа, а время – средние века. Посмотри, что есть об иезуитах в том периоде у тебя в библиотеке.
Из отобранных мною восьми книг и продиктованных по телефону, Валентин Саввич попросил принести только пять:
Григулевич И. Крест и меч.
Тонди А. Иезуиты.
Ватикан в прошлом и настоящем.
Инфессура. Дневники.
Михневич Д. Очерки из истории католической реакции (иезуиты).
Смотрю запись в дневнике тех времен:
«Валентин Саввич собирает литературу по иезуитам. Были в букинистическом – ничего подходящего не нашли». 23.11.1980.
Однако пора вернуться к рукописи незавершенного романа, к его титульным листам. Тщательное исследование их представляет, по-моему, определенный интерес.
«ПСЫ ГОСПОДНИ» – печатает Валентин Пикуль на титульном листе название своего произведения и в подзаголовке указывает вид жанра – исторический роман. Вверху эпиграф: «Смерть в одном столетии дарует мне жизнь во всех веках грядущих». Джордано Бруно. (Впоследствии Пикуль ручкой допишет: «Слова перед казнью».)
Идет работа по накоплению и переосмысливанию собранного в голове материала. В какой-то момент задача кажется невыполнимой, и серьезное слово «роман» заменяется на скромное – «рассказ», которое, в свою очередь, спустя некоторое время уступает место более оптимистичному – «повествование».
В 1982 году из глубин веков тема иезуитов вновь всплывает на поверхность творческой биографии писателя. Если в первый раз он хотел рассказать о зарождении ордена иезуитов и их проникновении сначала в Польшу, а затем в Россию, то на сей раз задача намного усложнялась. Писатель ставит перед собой задачу расширить временные, биографические и исторические рамки произведения, осветить более продолжительный отрезок времени – целый век. «Целый век» – вносит Пикуль новое название и сверху печатает равноценное по смыслу – «столетие».
По сравнению с первым, эти названия звучат более приглушенно и не так резко воздействуют на слух. Этим в некоторой степени нейтральным заголовком автор хотел завуалировать от внешнего мира содержание книги, чтобы облегчить прохождение рукописи по инстанциям, предшествующим публикации.
В 1986 году, едва оправившись от обширного инфаркта, Валентин Саввич вновь берется за свой многострадальный труд. Вернула его к этому книга Андрея Никитина «Точка зрения», которую я принесла ему из библиотеки. Вникнув в тематику книги, писатель полностью влез в нее, отрываясь только для похода на кухню за чаем.
Книга пришлась ему по душе. Читая ее, он что-то подчеркивал, часто останавливался, раздумывал.
– Талантливый писатель, хорошо знающий и превосходно чувствовавший эпоху. С его выводами я вполне согласен, – заключил он, проштудировав книгу.
Тогда и вынес автор на титульный лист цитату из этой книги: «Почему мы об этом ничего не знаем?
А почему мы должны об этом знать?
Можно удивляться, что мы вообще что-то знаем о том времени!»
Однако в дальнейшем, в 1989 году, при очередной доработке рукописи Пикуль уберет цитату «в другую часть». Приходится только сожалеть, что приступить к другой части ему так и не удалось. Он закончил только первую книгу – «На кострах», эпиграфом к которой использовал слова из Евангелия от Матфея. На титульном листе появится и цитата Д. Неру из книги «Взгляд на всемирную историю», но самое существенное – изменение подзаголовка. Теперь жанр произведения определяется автором как историческая панорама. А это означает, что за плечами его создателя стоит нечто существенное.
Существует еще второй титульный лист, который автор завел в конце 1989 года. С первого – на него перенесены слова Д. Неру и добавлена цитата из Стефано Инфессура:
«И многое другое рассказывают, о чем я здесь пишу, потому что это, может быть, неправда, а если и правда, то этому трудно поверить».
Но самое интересное – это продолжение поисков названия своего произведения, начинающего постепенно «толстеть».
Первое – «На кострах» – зачеркивается и присваивается как название книге первой, а вместо него появляется целый набор вариантов: «Псы», «Кровь», «Жестокий роман», «Власть – жестокая вещь», «Мрак», «Во мраке крадучись».
Небезынтересно все же проследить за движением писательской мысли. К несчастью, уже остановившейся…
Несмотря на множество заголовков произведения, суть его одна – это роман об иезуитах и об опричниках Ивана Грозного.
Почти все книги Валентина Саввича связаны с современностью или написаны под непосредственным влиянием событий сегодняшнего дня. И в этом романе хорошо просматривается связь с современностью. В 80-е годы Пикуль отчетливо видел нарастающие «смуты» в нашем обществе, что не могло не беспокоить писателя. И чем глубже он проникал в эпоху Средневековья, тем больше находил он там штрихов, присущих дню сегодняшнему, тем беспросветней и мрачней были его взгляды на нашу перестройку. Скорее всего, поэтому роман и остался незаконченным, ибо автор предчувствовал бесплодность своих попыток донести до людей свои сокровенные мысли.
– Какое, милый мой, у вас тысячелетие на дворе? – обычно спрашивала я, входя в кабинет Валентина Саввича.
И он охотно делился со мной творческими планами, с радостью делился успехами, огорчался неудачам, читал отрывки и главы уже написанного, рассказывал содержание прочитанных им книг, советовал, а иногда рекомендовал «в обязательном порядке» прочесть тот или иной источник. Изредка контурно очерчивал содержание последующих глав и книг.
На основании этой информированности, оставшихся черновиков и дневниковых записей хочу поделиться с читателями некоторыми мыслями о романе, полностью которого уже никто никогда не прочтет.
В этом произведении Валентин Пикуль использует уже примененный им в романе «Честь имею» прием. Обнаруженная рукопись на староиспанском языке приоткрывает многие тайные пружины того времени: хитросплетения политики и войн, роль религии в завоевании мира и в судьбах отдельных людей.
Куэвас – так зовут иезуита, от имени которого ведется повествование, помог автору вжиться в обстановку того далекого времени, проведя его по «тайным иезуитским тронам», чтобы вместе с ним стать свидетелем многих исторических событий.
Хотя сам процесс распространения идей иезуитов не получил в рукописи полного развития (ибо написана только треть романа), однако и по имеющимся страницам читатель вполне может составить представление о взглядах и целях ордена иезуитов.
Хотелось бы обратить внимание на одну особенность публикуемой рукописи. Разговор пойдет о сравнениях.
Много общих черт нашел автор у короля Филиппа II и Ивана Грозного: «Оба с оригинальной жестокостью не щадили людей… только один мерзавец уничтожал народ с помощью инквизиции, а другой – с помощью опричнины».
Многие слова, вложенные Пикулем в уста своих героев, произносимые из глубины XVI века, звучат потрясающе современно и даже крамольно.
А это уже обличение нашей реальности: «Многие ученые мужи зарабатывали себе научные степени, украшались значками лауреатов и орденами, получали звания академиков потому, что многие из них ценили «подвиги» Ивана Грозного. Все продались, только один академик Веселовский назвал вещи своими именами, но его не печатали».
По замыслу автора роман должен был состоять из трех книг.
«На кострах» – первая из них. Она охватывает период с момента зарождения ордена иезуитов и до 1583 года – года рождения Валленштейна, поскольку многие страницы романа должны были рассказывать о тридцатилетней войне.
Сделаю небольшое отступление…
Сейчас мы не представляем свою жизнь без… картошки. В этой части Валентин Саввич хотел подробно поведать читателю о том, когда и каким образом появился картофель в нашей стране. Написав несколько страниц, автор понял, что рассказ о картофеле уводит его в сторону от основной идеи. Ничуть не сожалея об этом, он изъял упомянутые страницы, пообещав мне написать со временем миниатюру «Картофельные бунты» (сказал: «О твоей любимой картошке»).
«Смутное время» – такой заголовок дал автор второй книге романа. Заголовок немного раскрывает содержание.
В прологе к этой части Валентин Саввич, вводя читателя в повествование, планировал рассказать о разорении России, бегстве людей с насиженных мест и, наконец, появлении Ермака.
А начать книгу Пикуль хотел со смерти Ивана Грозного в 1584 году. Хронологические рамки второй книги должны были охватить период до 1613 года – знаменательного года восхождения на престол рода Романовых.
В планах и набросках третья книга имеет название «Разрушение». Продолжая хронологию предыдущей, третья книга должна была охватить период с 1613 до 1634 года – времени убийства Альбрехта Валленштейна. Здесь предусматривалось полностью осветить тридцатилетнюю войну, так мало знакомую по нашей документальной романистике.
«Исторической памяти не противопоказано воображение: важно только, чтобы оно было историческим».
Уверена, что писатель Валентин Пикуль в полной мере обладал и тем и другим.
Приходится только сожалеть, что ему не удалось осуществить задуманный план, но и по представленным главам читатель может судить о том, за какие огромные пласты истории России и Европы брался неутомимый, неугомонный, часто перегибающий палку – в том месте, где хотел ее сломать – Валентин Саввич Пикуль.
Однажды совсем неожиданно сказал:
– Роман «Псы господни» я хочу посвятить памяти Ярослава Галана.
Для меня это сообщение было весьма странным. Я даже не смогла сразу найти подходящий для такого момента вопрос, а Валентин Саввич продолжал свою мысль:
– Для меня он является образцом писателя-труженика, мне импонирует его образ жизни и мыслей, я ощущаю какое-то духовное с ним родство. Не помню, где я вычитал, что при завершении очередной своей вещи в его голове уже созревала мысль о другой. Заметь, у меня получается то же самое. И я считаю это правильным. Если писатель мыслит только об одной теме или книжке, то это, простите, слишком «узколобо». Надо видеть и дальше, и глубже, и выше… А его смерть… Она потрясла меня. Всякое возможно, кому что на роду написано, но он умер на посту… и я мечтаю умереть с согбенной спиной за рабочим столом…
Эти слова стали пророческими.
Антонина ПикульКнига первая
На кострах
Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч;
Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее.
И враги человеку – домашние его.
Евангелие от Матфея. X, 34, 35, 36Если встретите сопротивление, то разведите такой костер, чтобы даже у ангелов загорелись ноги и чтобы звезды расплавились на небесах.
Иезуит ФорерПролог. Все дороги ведут в Рим
Его звали Иниго дон Лопец-и-Рекальдо, хотя в истории мира и человеческих отношений он вошел с кратким, но чересчур выразительным именем – Игнатий Лойола.
Бедный испанский идальго начинал карьеру в городе Аревале, будучи пажом при дворе кастильского казначея дона Веласко, и писал стихи о своих чувствах к недоступной донье Грасии де-Авила, перед красотой которой все другие женщины выглядели как осколки разбитого зеркала перед сверкающим бриллиантом. Тогда – еще молодой – Лойола рассуждал:
– Как жить без славы? Я хочу, чтобы от Лимы до Толедо восхищались мною, чтобы донья Грасия хоть раз улыбнулась мне в церкви, чтобы вся Кастилия говорила обо мне: «Ах, кто этот загадочный рыцарь? Скорее назовите нам даму его сердца…»
– Молчи, безумец! – остерегали его. – Всякое превосходство над другими приносит несчастье, и не выражай мысли слишком ясно, дабы не выглядеть грубым невеждой. Лучше говори невнятно, чтобы тебя сочли мудрецом.
Непомерное честолюбие увлекло Лойолу на войну. Ранней весной 1521 года французы вторглись в Наварру, и гарнизон Пампелуны увидел крепость в окружении костров враждебной армии. Мнение испанцев было далеко не рыцарское:
– Французов очень много. Пампелуну не удержать.
Но тут выступил Лойола. С поразительным красноречием он долго услаждал слух офицеров пылкими рассуждениями о неземном блаженстве для всех, кто вручит свое пурпурное сердце пречистой Мадонне, и заключил свою речь словами:
– Молитвами и покаянием приготовим души заранее, дабы утром встретить врагов с высокомерием, подобающим испанцам!
Тонкая заря едва высветлила небеса над сумрачными Пиренеями, когда начальник французов, еще позевывая в железную перчатку, разглядел на валу крепости испанского кавалера со шпагой и молитвенником. Он даже обрадовался ему:
– А вот и первый кастильский невежа, которому всю ночь не лежалось на соломе… Ну-ка! – велел он артиллерии. – Затолкайте в бомбарду самое тяжелое ядро – сейчас мы из этого глупца сделаем что-либо достойное удивления…
Валганг крепости, восприняв мощный удар, разрушился под Лойолой, а второе ядро раздробило ему правую ногу. С грохотом сыпались камни бастиона, шумно стекала вниз песочная лавина. Нещадно избиваемый камнями и глотая песок, Лойола низвергся с высоты – обвалом стены ему расплющило и левую ногу. Очнулся в плену. Французские врачи перевязали идальго, офицеры любезно осведомились – далек ли его дом от Пампелуны?
– Я из провинции Гвипускоа, – с гордостью отвечал Лойола, – там, высоко в горах басков, находится замок моего знатного рода «Лойола», где я и предстал на суд божий…
Узкими козьими тропами, по самому краю горных ущелий, его долго несли до нищенского замка. Лойола заметил, что правая его нога уродливо скрючилась. Хирурги решили:
– Переделывать поздно – кости уже срослись.
– Так ломайте же их! – велел Иниго…
Изуродованную ногу зажали между досок, ударами молота ее раскололи возле голени. В муках миновало лето. Но однажды, пробуя встать с постели, Лойола ужаснулся: правая нога стала короче левой, а над коленом нависла безобразная опухоль.
– Ломайте ногу еще раз, – сказал он врачам.
Его оглушили крепким вином, но Лойола все равно слышал хруст своих костей, он ощутил движение ножа, вырезавшего опухоль. Однако правая нога так и осталась короче левой.
– Вы видели старинный ворот, каким вынимают кувшины с водой из бездонного колодца? – спросил идальго врачей. – Такой же ворот поставим в спальне, и пусть он вытягивает мне ногу.
Привязав себя к кровати, он мученически наблюдал, как вращается колесо, наматывая на себя веревки, которые обхватывали искалеченную ногу. Боль, боль, боль – и ничего, кроме боли да скрипа колеса. Все эти муки Лойола выносил со стойкостью перуанского индейца. А весною просил у отца рыцарских романов – для чтения:
– Хотя бы Васко де-Лабейро – об Амадисе Галльском…
Бельтрам дон-Лойола верхом на муле объехал окрестности, но сумел раздобыть для сына лишь две книги духовного содержания. Иниго безразлично полистал ветхие страницы:
– Где же тут подвиги? Все скучно и непонятно…
Неясные миражи рыцарской славы и любви капризных красавиц Валенсии и Арагоны иногда еще ярко вспыхивали в фантазии калеки, мало-помалу угасая в бесплодном бессилии. Он все же раскрыл книгу Рудольфа Саксонца о жизни Христа, вникая в мудрость легенд, но в одну из ночей ощутил толчок, будто под ним снова обрушился валганг Пампелуны.
– Что со мною? – спросил он себя, и вдруг весь сжался в экстазе радости от сознания, что ворота к славе, до этого закрытые перед ним, эти жалкие гнилые ворота уже давно сбиты с ржавых петель. – Ведь если святой Франциск, – здраво рассуждал Лойола, – основал орден Францисканцев, а святой Доминик – доминиканскую конгрегацию, то почему же я, как и они, не волен стать вождем нового могучего ордена Римской церкви? Разве престол папы не нуждается в псах господних, которые бы изгрызли на острых клыках любую ересь?..
Призывы боевых труб заменили голоса мессы, а земные прелести недоступной Грасии де-Авила он как бы умышленно заслонил перед собой скорбною красотою Мадонны, – так возник новый идеал служения! Нет в мире историка, который бы не признал, что сила воли этого изуродованного человека была колоссальна… Но ведь нужна еще святость.
– Для этого навещу Иерусалим, – решил Лойола.
В каталонской обители Монтсеррата он оставил у алтаря свои панцири и шпагу. Его путь лежал в Барселону, где царила чума (корабли, идущие на Восток, не покидали гаваней). В доме святой Люции идальго по семь часов не поднимался с колен, трижды в сутки бичуя себя столь безжалостно, что кровь обрызгала стены комнаты. С протянутой рукой он стоял на паперти, взывая к прохожим о милостыне. Лойола перестал мыться, он уже не стриг ногтей, длинные волосы спадали на глаза. К уродству ног прибавилась острая боль в печени и зубная боль, нестерпимая. Ему было так тяжело, что в один из дней он даже хотел выброситься из окна…
Увы, никто не замечал его святости. Свое красноречие он испытал пока на знатных дамах Барселоны, и одна из них, не выдержав укоров в беспутстве, даже упала в длительный обморок, после чего муж этой дамы избил Лойолу палкою, как худую собаку. Из этого случая последовал первый вывод: желая успеха в проповеди, никогда не утверждай, что грех наказуем, а, напротив, старайся оправдать любое прегрешение, и тогда в твоих услугах станут нуждаться многие.