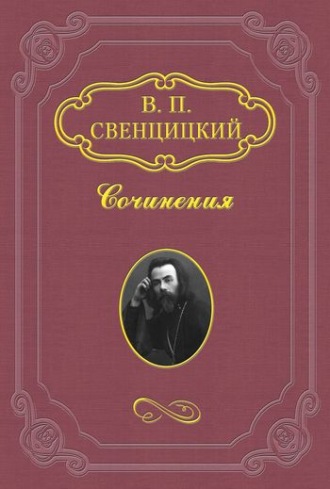
Протоиерей Валентин Свенцицкий
Мировое значение аскетического христианства
Приведу один пример.
Прочтите творения епископа Феофана. Вы будете поражены глубиной и силой его созерцания. Ему открыты были все тайны человеческого духа, он ведал самые сокровенные изгибы греха. Я не знаю, Достоевскому в его гениальных художественных прозрениях открывались ли такие глубины падения и духовного подъёма, какие открывались в молитвенном созерцании этому отшельнику? Феофана нельзя читать без благоговения, без трепета душевного. Здесь святость воочию вводит вас в запредельный мир – общаешься с истинным служителем Божиим, осязательно видишь душу его, а это открывает новые, неведомые пути для самопознания. Отшельник говорит вам о Боге и о вашей душе как власть имущий, у вас даже мысли нет, что здесь может быть ошибка, вы чувствуете живой опыт. Истина сама свидетельствует за себя.
Но вот заканчивается написанное о духовной жизни и Боге. Небо исчезает из глаз. И пред вами словно свершается чудо. Очарование рушится, великан разом превращается в уродливого карлика, а вместо властного голоса, говорящего как гром, в ваши уши кто-то пищит фальшивые слова. Вам не верится, что великий Феофан, потрясавший вашу душу, открывавший вам просветы в мир иной, мог говорить так: «чужое» надо принимать «только под условием крайней нужды и совершенного согласия с своим духом». Властям «являть молчаливую покорность, как изрекающим волю Божию», повеления «и учреждения их чтить, принимать, исполнять без размышления с терпением».
Слепота Феофана доходит здесь до того, что он пишет пространное наставление хозяевам, как обращаться со слугами[15], совершенно забыв, что ему следовало писать не об этом, а о том, что ни слуг, ни рабов не должно существовать среди христиан вовсе.
Из всего мною сказанного с достаточной ясностью вытекает первое моё основное утверждение:
Церковь, поскольку она должна была определить своё отношение к миру, смешалась, перепуталась с ним и потому потеряла своё абсолютное значение.
* * *
Дуализм, переживаемый каждой отдельной душой, в мире слагается из двух начал: мира природного, конечного, смертного – и мира духовного, абсолютного, нетленного. Дуализм мира – дуализм земли и неба. Примирённый в эпоху первоначального христианства, он не мог преобразить вселенную и создать космоса, потому что ещё не были выявлены все потенции, включённые в мир[16].
Внешняя церковная организация, соприкасавшаяся с государством и общественным строем, подверглась смешению[17], а христианство в его абсолютном значении – ушло в пустыню.
Надо быть художником, чтобы сколько-нибудь передать религиозную сущность того, что свершалось в пещерах, под землёй или в дремучих лесах, когда человек посвящал себя Богу и в непрестанной молитве и созерцании, неведомый миру, в полном одиночестве и безмолвии свершал своё великое служение. От нас слишком заслоняется психология аскетического христианства общепринятым отношением к нему как к какому-то изуверскому самоспасанию. Такое мнение установилось потому, что к отшельничеству предъявлялось явно не соответствовавшее ему требование, требование прикладного христианства, тогда как его значение было сохранить в неискажённом виде, как самое драгоценное святое святых, отношение к Богу.
Отшельники не могли и не должны были жить в миру. У них была другая мировая задача. Они делали почти невероятные усилия, осуществляя эту задачу. Они, от всего земного отрёкшиеся, от всего в мире отказавшиеся, могли преодолеть косную власть вещества и вступали в реальное общение с абсолютным началом. И таким образом беспрерывно поддерживали связь божественного начала с миром.
Я даже приблизительно не могу дать почувствовать, какого религиозного состояния достигали эти великие светильники мира. Нужно прочесть творения, прочесть описание их жизни – эти живые документы, драгоценные сгустки самого подлинного духовного золота. Нужно быть слепым, чтобы не почувствовать Божественного дыхания в каждом их слове, – такой исключительной, нечеловеческой силой правды веет от них.
Аскетическое христианство – это беспрерывный золотой поезд (выражение не моё[18]), который прошёл под землёй через всю мировую историю. Этот поезд пронёс через историю, не как отвлечённую идею, а как живую, реальную действительность, незагрязнёнными, неискажёнными – отношения человека к Богу и к человеческой душе. В то время когда церковь в миру, в лице белого и чёрного духовенства, обделывала свои светские дела, продавала абсолютные требования морали за внешнее признание своего владычества[19], в то время когда мирская церковь поглощалась языческим торжищем, – в тёмных пещерах, изнемогая от внутренних борений, горели пред Господом светильники человечества.
Для того чтобы понять мировое значение их, нужно хотя бы в самой общей форме почувствовать христианское восприятие жизни и истории. С этим явно не хотят считаться те, кто упрекает отшельников в нелюбви к людям на том основании, что они уходили от людей на край света, вместо того чтобы по мере своих сил служить им.
Основное христианское восприятие мира – это восприятие его как единого, целого организма. Вся борьба, история суть внутренние процессы этого организма. Не существует пространственных и временных разделений – это лишь внешние показатели внутренней раздробленности, порождающие страдание и смерть, но в мировом процессе стремящиеся к своему универсальному единству.
В этом процессе далеко не всё одинаково ценно и одинаково действенно. Святые, которым открывалась потусторонняя жизнь и бытие в их созерцании, знали, сколько пустой трескотни, мишурного блеска в так называемой «мирской жизни»[20]. Они знали, что внешнее величие культурной жизни – наполовину обман, иллюзия, что все эти картонные волшебные замки, символизирующие прогресс, сгорят в огне, уничтожатся, ибо они по существу – ничто. Для святых было ясно, что шумное, крикливое, так называемое «историческое» выступление какого-нибудь героя или даже целое движение, по существу, в общем мировом значении может оказаться для этого самого мира бесконечно ничтожнее, чем какое-нибудь уединённое, от всех глаз скрытое, молитвенное прозрение в египетской пустыне.
Нельзя судить отшельников условно, не став на христианскую почву. А если право христианство, что смысл жизни в преображении космоса и в вечной жизни всех воссоединившихся с своим Творцом; если право оно, что в этом внутреннем процессе идёт борьба со злом, с самоутверждением, и что всё зло, как и добро, представляет из себя нечто внутренне связанное, – тогда право оно и в том, что передовые борцы, эти герои духа, посвящавшие себя всецело служению Богу, не занимались делом бесплодным и даже вредным – нет, они свершали для людей и мира работу громадную, святую, исполненную самой пламенной любви к людям.
Про них словами Вл. Соловьёва можно сказать, что они осязали «нетленную порфиру за тленною корою вещества»[21].
Но прежде чем дать характеристику религиозной сущности аскетизма, я считаю необходимым освободить его от клевет. Таких клевет три: официально-ортодоксальная, светская, самым ярким выразителем которой является В. В. Розанов, и третья клевета, которую я не могу иначе назвать, как клеветой антихристовской, ещё не нашедшей себе достаточно полного выражения.
Клевета ортодоксальная заключается в том, что смирение пред Богом, смирение как отказ от своего личного самоутверждения (что является одной из характерных черт аскетического христианства пустынников), подменяется идеей послушания. Было послушание и у Антониев, но там оно было школой. В православии оно становится сущностью. Эта маленькая «подделка», на первый взгляд почти безразличная, при более глубоком рассмотрении оказывается мёртвой петлёй, накинутой на Церковь. Послушание и смирение пред Богом, отдавание своей воли Его воле – это высшая активность духа, на какую только способен человек. Этой активностью полна вся древняя аскетическая литература. Пред Богом смирись – пред злом будь непоколебим. Себя не утверждай, но во имя добра будь пламенен и дерзновенен. «Не размышляй, слушайся синода», – безжизненными устами шепчет ортодоксальный аскетизм. «Слушайся Бога!» – «Бога» звучит неслышно, «слушайся» гремит на всю страну. «Слушайся» становится содержанием аскетизма. Не делай, не борись, покорись – вот мёртвые принципы этой клеветы. Тоже толстовское «непротивление», только более лицемерное. Толстой говорит: не противься злу. В конечном счёте это значит: не борись со злом, т. е. не делай. Официальный аскетизм говорит: слушайся и сам ничего не делай («самочинное умствование»), но волю других исполняй.
Там, где смерть, там и разложение. «Смиренное» монашество православное – разлагается. С изумительной силой предсказано это Антонием Великим: на вопрос своих учеников, всегда ли будет процветать монашество, он ответил «со слезами и со вздыханиями»: «Придёт время, возлюбленные дети мои, когда монахи оставят пустыни и потекут вместо их в богатые города, где, вместо этих пустынных пещер и тесных келий, воздвигнут гордые здания, могущие спорить с палатами царей; вместо нищеты возрастёт любовь к собиранию богатств; смирение заменится гордостию… вместо воздержания умножится чревоугодие, и очень многие из них будут заботиться о роскошных яствах, не меньше самых мирян, от которых монахи ничем другим отличаться не будут, как одеянием и наглавником»[22].







