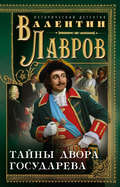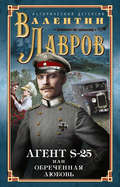Валентин Лавров
Русская сила графа Соколова
Но злодей был полностью разоблачен бывшими приятелями – помощником Шандаруком и агентом Заманским, которые с большой охотой помогали разоблачать преступления бывшего начальника.
Все пособники Сычева были арестованы.
«Хочу домой…»
Соколов еще находился в Харькове, когда к нему в гостиничный номер пожаловала… красавица Галя. Она поведала свою печальную историю:
– Я из Рязани, мы жили напротив Христорождественского собора. Мой отец, учитель каллиграфии, служил в мужской гимназии. Когда мне было тринадцать лет, он умер. У мамы на руках, кроме меня, осталась пятилетняя Соня. Мама с трудом сводила концы с концами. Нынешним февралем мне исполнилось шестнадцать лет. И тут к соседям приехала из Харькова их дальняя родственница мадам Гофштейн. Она уцепилась за меня, посулила золотые горы, дала маме аванс пятьдесят рублей и увезла меня к себе – будто бы как горничную. А на самом деле уговорила меня сожительствовать с богатым купцом. Купец вскоре перебрался в Сумы, оставив мне память – сто рублей. Теперь я была вынуждена поселиться у мадам – в позорном доме. Так я встретилась с вами…
– Ты знала, что в бане будут фотографировать?
– Да, нас и прежде фотографировали для карточек. А в нынешний раз Сычев наставлял, где сидеть, какие позы принимать. Говорил он и о том, как ласкать вас, Аполлинарий Николаевич. Я все время тяготилась своим положением. Но после истории в бане, после встречи с вами я твердо решила порвать со своим отвратительным занятием. Меня тошнит от продажной любви, от жирной и сладкой пищи, от того, что день перемешался с ночью и что я должна ложиться в постель со всяким, на кого мне укажет мадам.
– Что мешает бросить срамное занятие?
– Я скопила немного денег, но мадам не отдает их, она не желает меня отпускать. Помогите, Аполлинарий Николаевич! Я хочу домой…
Соколов решительно произнес:
– Поехали к твоей мадам!
* * *
Через полчаса оплывшая жиром Гофштейн трясущимися от жадности толстыми короткими пальцами отсчитала Галине двести семьдесят рублей. Соколов от себя подарил тысячу:
– Пошли тебе Бог счастья, Галина!
Девушка собрала вещи, Соколов отвез ее на вокзал и усадил в вагон.
Галина в последний момент не выдержала, заплакала и поцеловала графу руку:
– Вы мой ангел-спаситель!
* * *
Вернувшись в Москву, Соколов встретил Владимира Джунковского. Они приятно провели время в «Славянском базаре» на Никольской. Соколов рассказал о своих приключениях. Генерал то качал головой, то восторгался, то весело смеялся – история ему пришлась по душе.
Эпилог
Необычное для того времени дело прогремело на всю Россию.
Так, «Русские ведомости» в четверг 11 июля 1913 года на третьей полосе писали:
«Страшное преступление разоблачено в Харькове. Начальник местного сыска Сычев задумал заработать 200 тысяч на местных торговцах-евреях, обложив их данью. Комбинация, однако, не удалась. Помощник Сычева Шандарук и агент Заманский отказались от сообщничества и превратились в разоблачителей.
При сыскном отделении был агент Дросинский, состоявший в тесной дружбе со знаменитостями харьковского преступного мира – Годлевским и Ярошинским. Эти преступники не только сообщали Дросинскому необходимые сведения, но и платили изрядные куши, дабы он был их покровителем и защитником.
Благодаря тонкой организации „агентурных сведений”, путем твердой спайки главных воров с агентами, сыскное отделение создало новый доход для себя. За взятки от каторги избавлялись самые опасные преступники, среди них оказался даже отравитель…»
Во многих газетах с восторгом писали «о доблестном и неподкупном гении сыска графе Соколове».
Был суд, который Сычева и его сообщников приговорил к различным срокам заключения.
* * *
Государь Николай Александрович пригласил Соколова к себе в Царское Село, ласково сказал:
– Я счастлив, что на нашей земле есть такие талантливые бесстрашные сыщики! Благодарю за службу, – и преподнес бриллиантовый перстень.
Осенью 1913 года «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами» Сенатом была рассмотрена жалоба на неправильный приговор харьковскому мещанину Бродскому. Сенатским решением уголовное дело Бродского было прекращено, а он освобожден из-под стражи «в связи с отсутствием состава преступления». Бродский, не веря собственному счастью, полетел в Харьков к своей горячо любимой супруге.
Перед Рождеством в Москву пожаловала Сарра Бродская. Она отыскала Соколова и сообщила, что с мужем уезжает в Америку. Вздохнула:
– В проклятой России могут жить или дураки, или сумасшедшие, бенэмонэс!
Сарра была готова на все, чтобы отблагодарить спасителя своего мужа. Соколов довольствовался словами благодарности, а от прочего, к огорчению Сарры, уклонился.
Так закончилась наша история.
Погоня в ночи
Приглашение от государя
За последние дни граф Соколов пережил столько опасностей и приключений, сколько другому человеку хватило бы на всю жизнь.
Но судьба не утихомирилась.
Новое происшествие случилось в канун православного Рождества 1914 года. Морозным утром, когда оконные стекла покрылись толстым инеем, в квартире гения сыска графа Соколова раздался звонок.
На пороге стоял посыльный императорской канцелярии. Он протянул залитый сургучом конверт с приглашением Соколову и его супруге графине Марии Егоровне.
На плотной бумаге в треть писчего листа сыщик прочитал:
«С.-Петербург, 8 января 1914 г.
По повелению Их императорских величеств, в должности гофмаршала имеет честь известить о приглашении Вас, в четверг 23 сего января в 8.30 часов на бал и к обеденному столу в Большой зал Александрийского дворца Царского Села по случаю 100-летия Лейпцигской битвы и славной победы русского оружия.
Дамы в бальных вырезных платьях.
Кавалеры: военные в парадной, а гражданские в праздничной форме. Иметь на себе ордена.
Придворные экипажи будут выставлены к пассажирскому поезду, отходящему из С.-Петербурга в 7 час. 30 мин. пополудни.
Примечание. В случае невозможности быть на балу, просят непременно уведомить Церемониальную часть Гофмаршальского управления по Дворцовой набережной, д. № 32».
Соколов прошел в гостиную. Здесь графиня Мари вместе с горничной Анютой, умелой рукодельницей, шили распашонки для будущего младенца. Соколов улыбнулся супруге и положил перед ней приглашение:
– Мари, государь помнит о нас!
Графиня вздохнула:
– Это внимание несказанно льстит мне. Но, увы, в моем положении на балы не ходят. Так что, Аполлинарий Николаевич, это удовольствие ждет вас одного.
– Может, и мне воздержаться?
Мари решительно запротестовала:
– Мне объяснять вам, мой друг, не надо – это будет крайне неучтиво! Государь к нам хорошо относится. – Она улыбнулась своей милой улыбкой, так красившей ее прелестное личико. – Нынешнее приглашение – еще одно доказательство этого расположения, и вы обязаны быть на балу.
Соколов ждал именно такого разрешения вопроса, он согласно кивнул:
– Тем более что я обещал наследнику показать несколько фокусов, ну, разные приемы силы.
– Вот и прекрасно! – Мари отложила шитье, поднялась со стула и поцеловала мужа.
Соколов отметил: «Однако в талии за последние дни Мари значительно прибавила!»
Вслух произнес:
– Может, на эти немногие дни, что остались до моего отъезда, поживем в тиши нашей усадьбы?
Мари отрицательно покачала головой:
– Нет, не могу! Мне там все будет напоминать о несчастном Буне…
Буня – некогда знаменитый на всю Россию взломщик сейфов. Отойдя по возрасту и по разочаровании в шниферской профессии, он жил в качестве эконома и сторожа в усадьбе Соколова в Мытищах. Бывший шнифер погиб, ввязавшись в схватку с бандитами, покушавшимися на Соколова, и, возможно, спас сыщику жизнь.
– Хорошо, – Соколов удержал вздох, – будем наслаждаться жизнью в московском доме.
Предлагая укрыться в Мытищах, где не было телефонной связи с Москвой, он преследовал цель отдохнуть от службы. И хотя начальник московского охранного отделения подполковник Мартынов обещал недели на две оставить гения сыска в покое, Соколов в эти обещания давно не верил.
Предчувствия, как всегда, сыщика не обманули.
Но приключения пришли с той стороны, с какой он их не ожидал.
* * *
Началось с того, что страстный коллекционер книжных редкостей Соколов обратился к графине:
– Мари, сегодня хочу заглянуть к букинистам. Зайду к Старицыну в Леонтьевский переулок и к Ивану Фадееву, у которого лавка на Моховой.
Мари, как любая нормальная женщина, не понимала собирательской одержимости. Но человек деликатный и тонкий, она проявляла интерес к занятиям мужа. Каждый раз, когда он возвращался с книжной добычей, внимательно выслушивала его вдохновенные рассказы о находках. Вот и теперь графиня поцеловала мужа в гладко выбритую щеку и весело заметила:
– Надеюсь, Аполлинарий Николаевич, что удача вновь будет сопутствовать вам. Может, что из раритетов попадется?
– А и не попадется – беды нет. Так приятно в старых книгах порыться, полистать тома, прелесть коих уже только в том, что свет они увидали при Петре Алексеевиче или при Екатерине Великой. Меня это приводит в приятное волнение – этот том держал в руках человек, живший двести или триста лет назад. А может, к нему прикасался Брюс или сам Пушкин. Чудо, да и только!
Надев шинель, Соколов пешком – ради моциона – отправился любимым маршрутом от Красных ворот на Манежную площадь.
Если бы он знал, чем окончится эта безобидная прогулка!
Ликование ада и преступный негодяй
Каждый имеет ту судьбу, к которой стремится.
В тот день гений сыска – любитель опасностей и острых ощущений – сполна испытал правоту этой истины.
Впрочем, началось все удачно. На Моховой, 26 Соколов заглянул в неприметную снаружи лавочку. Зато внутри было настоящее пиршество духа: кожаные корешки старинных фолиантов глядели со всех сторон.
Иван Фадеев, бросив покупателей, заспешил навстречу Соколову, ласково улыбнулся, с места в карьер начал:
– Для вас, Аполлинарий Николаевич, нарочно кое-что держу. Глядите, это два указа, собственноручно подписанные Петром Великим.
Соколов принял большого формата лист, писанный наверняка под диктовку государя указ:
«Генваря 27 дня 1723 года Его Императорское Величество, будучи в городке, что на реке Яузе, указал именным своим указом, чтоб запретить во всем государстве из сосновых, годных для строительства лесов, которые в отрубе от корени до 12 вершков, выдолбленных гробов не делать, а делать хотя и сосновые, но только из досок сшивные, а долбленые и выделанные делать гробы из еловых, березовых и ольховых лесов… Петр».
Сыщик произнес:
– Иван Михайлович, вещица сия редкая, я ее приобрету.
Фадеев отозвался:
– Ваше сиятельство, а вот еще один указ весьма любопытный, с собственноручной подписью государя и к тому же прекрасной сохранности…
Соколов прочитал:
«О НЕДЕЛАНИИ ДУБОВЫХ ГРОБОВ
Его Императорское Величество указал: хотя дерево луб к непотребным и ненужным делам рубить весьма запрещено, однако ж и за таким презрением еще делают гробы дубовые. Того ради из Синода во все епархии послать подтвердительные указы, дабы священники нигде никого в дубовых гробах не погребали. Петр. Декабря 2 дня 1723».
– Любопытно, это тоже возьму!
Фадеев продолжал:
– А уж мимо этой редкостной штучки в марокеновом переплете, тисненной на рисовой китайской бумаге, вы, Аполлинарий Николаевич, никак не пройдете.
– Этот экслибрис цветной печати с розовыми цветочками мне знаком. Книжица из библиотеки убиенного злодеями во втором году министра внутренних дел Дмитрия Сергеевича Сипягина. Мой отец в самых дружеских отношениях был с этим замечательным человеком.
Фадеев закивал крупной головой:
– Да, простой, душевный, и книжник был превосходный, царствие ему небесное! Большой любитель редкостей. Когда в Москве оказывался, всегда ко мне захаживал.
Сыщик отозвался:
– За то и убили, что был хорошим. Негодяи-революционеры лучших выбирают, чтобы Россию больнее ранить.
Он открыл титульный лист, прочитал: «Находка в склепе, или Похождения преступного негодяя». Вышла в Петербурге в 1771 году.
Фадеев убеждал:
– Не обессудьте, ваше сиятельство, такая превосходительная вещица, что дешевле тридцати рублей отдать просто нет возможности, право! Единственно известный экземпляр.
Соколов весело посмотрел на Фадеева:
– Мимо такой красавицы равнодушным не пройду. – Подумалось: «Господи, что-то нынче везет на погребальную тему». – А вон толстенный том, что это?
…Пробыв в лавке почти час, купив два объемистых и неподъемных тюка старинных книг и бумаг, Соколов отправил их с посыльным домой.
Роковая встреча
Сыщик пошел наискосок через площадь. Вдруг из проезжавших мимо саней раздался голос:
– Аполлинарий Николаевич!
В саженях десяти от него остановились сани.
Из саней проворно выскочил знаменитый Кошко. Перелезая через сугробы, которые дворники не успели вывезти, начальник сыскной полиции торопился к Соколову.
– Радостная встреча, Аполлинарий Николаевич! – Кошко, забыв былые неудовольствия, долго тряс ручищу сыщика. – А мы как раз решили отобедать в трактире Егорова. Надеюсь, не откажешься? Садись, место в санях нагретое.
Соколов на мгновение задумался. Он не любил менять намеченные планы. Да и на сердце шевельнулось предчувствие недоброго. Однако не хотелось огорчать товарищей по старой службе.
Соколов согласно кивнул:
– К Егорову? Давно не был у него. Поехали! Дорога близкая…
Сыщики расположились в санях. Извозчик дернул вожжи:
– Пошли, ленивые! Родимец вас прошиби!
Лошади рванули с места. Полозья весело завизжали по наезженной с утра дороге.
– Как я рад тебя видеть! – Кошко ласково глядел на Соколова. – Вся Москва судачит о твоем, Аполлинарий Николаевич, подвиге…
– Это о каком? – Соколов состроил непонимающее лицо.
– Ну, как ты в клетке сжег террористов! Молодец, я лаже пил за твое здоровье.
Соколов отмахнулся:
– Разве это подвиг? Служба – и не больше. Если бы не я, так они меня сожгли, а мне почему-то этого не хочется.
– Помнишь, когда-то приказ вышел: проверять все случаи самоубийства? Сейчас гульнем у Егорова, там мои помощники дожидаются. Пусть пообедают, а уж потом покатят на Солянку. Вовремя покормить сыщика – все равно что сироте слезу утереть – дело святое. А труп подождет, на танцы не опоздает. Обычно нам достаются преступления какие? Самые страшные – убийства, грабежи. А нынешний случай – так, пшик…
– Стало быть, к Егорову в трактир захаживаете?
– Да, почитай, каждый день.
Соколов вздохнул:
– А я за новой службой в охранке совсем дорогу к нему забыл.
Извозчик лихо натянул вожжи, и Кошко едва не вылетел на мостовую. Соколов хлопнул ручищей по загривку извозчика:
– Давно ли я на этом же месте сделал за подобные фортели твоему приятелю Антону выволочку, головой в сугроб засунул? Забыл, что начальство везешь? Другой раз швырну в Москву-реку, запомни.
– Виноват, Аполлинарий Николаевич! – И вновь погнал как полоумный.
Соколов усмехнулся: «Какой же русский не любит быстрой езды?»
Предсмертное чтение
Нам уже доводилось описывать знаменитый трактир Егорова в Охотном ряду. Теперь лишь скажем: наверху, в двух небольших чистеньких зальцах, было, как всегда, тихо, чисто, благопристойно.
За привычным столом сидели старые знакомцы Соколова. Это фотограф Юрий Ирошников – невысокий, полный, вечно жизнерадостно-язвительный человек – и простодушный крепыш, бывший боксер Григорий Павловский – судебный медик.
Последовали объятия, приветственные восклицания.
Как обычно, гостей радушно встречал сам Егоров – симпатичный старообрядец, с серыми небольшими глазками, светившимися добротой и приветом, невысокого роста, кажется из ярославцев, и целая свора шустрых лакеев.
Оркестранты, едва увидав Соколова, тут же оборвали мелодию какой-то незатейливой песенки и отчаянно ударили по струнам, заиграли увертюру к «Лоэнгрину» – Вагнер был любимым композитором гения сыска.
Кошко деловито обратился к подчиненным:
– Коллеги, после обеда отправляйтесь на Солянку. Я заглянул на место происшествия, изъял книгу стихов, которую читала несчастная перед трагическим шагом, и опечатал ее комнату. Осмотрите труп, сделайте фото, напишите заключение и дайте дяде покойной разрешение на похороны. Других родственников у девушки в Москве нет.
Принесли горячие закуски.
Соколов, наслаждаясь лангустами в сливках, спросил:
– И какой же поэзией перед смертью утешалась несчастная?
– Да, – спохватился Кошко, – это творения твоего, Аполлинарий Николаевич, приятеля – Ивана Бунина. – Он полез в саквояж, который держал под столом, и вынул оттуда тоненький том. – Называется «Эпитафия».
Я девушкой, невестой умерла.
Он говорил, что я была прекрасна.
Но о любви я лишь мечтала страстно.
Я краткими надеждами жила… —
Вот так-то! – закончил Кошко. – Оставила открытой книгу именно на этой странице – очень трогательно. И даже подчеркнула на полях.
Соколов взял книгу и продолжил:
В апрельский день я от людей ушла.
Ушла навек покорно и безгласно —
И все ж была я в жизни не напрасно:
Я для его любви не умерла.
Здесь в тишине кладбищенской аллеи.
Где только ветер веет в полусне.
Все говорит о счастье и весне…
Павловский вздохнул:
– Э-хо-хо! Самоубийца небось юная красавица, институтка, влюбилась в богатого и женатого князя, тот поиграл, поиграл с девицей да бросил. И вот несчастная полезла в петлю…
Кошко поправил:
– Юная – это верно, а остальное все – не так, Григорий Михайлович! И вообще чепуховое дело, не стоит вашего внимания. Давайте лучше выпьем под соленый груздь. Э-эх, хорошо! Как в народе говорят, замолаживает.
Несообразность
– И все же расскажи про сегодняшнее происшествие, – сказал Соколов.
– Пусть станется по-твоему, гений сыска! Звали девушку Вера Трещалина. Весьма смазливая, скромная, лишь в прошлом году приехала из никому не ведомого глухого села Чекушкино, что в непроходимых лесах Смоленской губернии. Вера девушка малограмотная, но весьма хорошая швея. Она неплохо устроилась. У нее завелись выгодные заказчицы. Прилично зарабатывала. Появился жених по фамилии Калугин – официант из ресторана «Волга», что на Балчуге. Все шло к свадьбе, все шло удачно. Соседка видела ее уравновешенной, даже веселой. Вчера вечером, как утверждают соседи, девушка вернулась из синематографа около десяти вечера. По показаниям тех же свидетелей, утром пришел к Трещалиной печной мастер, чтобы закончить прежде начатую работу, но с диким криком выскочил из ее квартиры: «Караул, висит, висит!» Вызвали полицию. Нашли висящий труп. И рядом эта книга с подчеркнутым стихотворением.
Соколов внимательно слушал. Он с интересом спросил:
– Аркадий Францевич, из чего ты заключил, что девица малограмотна?
Кошко снова полез в портфель и вынул из него листок бумаги, исписанный каракулями.
– Это письмо родителям, – объяснил Кошко. – Трещалина начала сочинять его, но не закончила, наложила на себя руки. Взгляни, граф, и тебе станет все ясно.
– Скажи, а другие книги у покойной в жилище есть? Кошко пожал плечами:
– Других нет, но какое это имеет значение?
– А такое, что девушку убили.
Кошко засмеялся:
– Забавно получается! Я все утро занимался этим делом, соседей и родственника опросил, с женихом беседовал и пришел к твердому убеждению – это самоубийство. А наш гений сыска, сидя за аппетитным столом, закусывая водочку селедочкой, самоуверенно вынес вердикт: убийство!
Соколов спокойно ответил:
– Посуди сам: девица еще накануне усердно работала, шила. Была веселой и общительной. Собиралась замуж. И вдруг ни с того ни с сего залезла в петлю. Где логика?
Кошко терпеливо стал объяснять:
– Это бывает! В психиатрии называется «депрессивный синдром». Характеризуется общим торможением всех нервных механизмов.
Соколов насмешливо покачал головой:
– Ну-ну! Еще расскажи мне, что этот синдром встречается в начальных стадиях шизофрении и его очень трудно заметить. Вот ты, главный московский сыскарь, ответь мне: каким образом и где малограмотная девушка отыскала стихотворение «Эпитафия», которое точно указывает на действие, которое она совершит, прочитала, подчеркнула и положила на видное место?
Кошко что-то промычал, но, будучи человеком умным, а потому не очень упрямым, согласно кивнул:
– Да, в рассуждениях твоих логики больше, чем в этом самоубийстве! – Перевел взгляд на доктора Павловского: – Григорий Михайлович, осмотри труп внимательней. Если возникнут малейшие сомнения, отправь в полицейский морг к Лукичу и сделай вскрытие.
Ирошников заканючил:
– Эх, несчастная жизнь полицейского! Не успеешь кусок в рот засунуть, как тебя тут же к покойнику командируют.
– Ты, Юрий Павлович, не похудеешь, чрево у тебя обильное! – успокоил Соколов. – Ну а чтобы вам, друзья, не было скучно, мы с Аркадием Францевичем составим вам компанию. – Посмотрел с коварной улыбкой на Кошко: – Ведь так, друг дорогой? Хочется стариной тряхнуть, с друзьями-сыскарями в одном котле повариться.
Начальник сыска торопливо заверил:
– С тобой, Аполлинарий Николаевич, куда угодно! Да и честь нам – сам знаменитый Соколов почтил… Теперь в уголовной полиции разговоров хватит на неделю.
* * *
Лакеи через весь зал на серебряном подносе несли красиво оформленное блюдо.
Егоров расшаркался и торжественно провозгласил:
– Извольте откушать, господа полицейские, наше фирменное блюдо «Граф Соколов» – паровая стерлядь, фаршированная черной и красной икрой, а также крабами. Подается в приятном окружении крупных лангустов. Вкус, как всегда, самый изумительный-с!
– И водки еще прикажи подать! – сказал Кошко. – «Смирновской», тридцать первый номер.
Глас народа
Сыщики вышли на шумный Охотный ряд, заставленный палатками и магазинами торговцев. Москва жила бурной, напряженной жизнью: широко гуляла, торговала, покупала, справляла свадьбы и крестины, хоронила, громыхала трамваями, кишела множеством разнообразного люда, все время куда-то спешившего.
Сыщики забрались в полицейские сани, укутались двумя большими медвежьими шкурами, которые извозчик предупредительно уносил в кучерскую комнату трактира.
– Чтобы не простыли!
Кучер погнал пару сильных, застоявшихся лошадок через Красную площадь, затем свернул влево – на Варварку. Уже минут через десять сыщики подкатили к трехэтажному дому на углу Солянки и Подкопаевского переулка, напротив церкви Рождества.
Возле подъезда стояло несколько человек – старушки в темных платочках, высокий старик в темных очках и заячьем треухе, молодая толстая баба, перевязанная крест-накрест платком, и среднего роста мастеровой в короткой железнодорожной шинели, каракулевой шапке с кокардой.
Последний и оказался дядей покойной.
При виде полицейского начальства железнодорожник сдернул шапку, упер взгляд себе под ноги и, не обращаясь ни к кому конкретно, быстро и невнятно заговорил:
– Господа полицейские, вы покойную не вскрывайте. Мы – старообрядцы, у нас не положено по религии.
Толстая баба крикнула:
– Вы следствию наведите! Верке чего вешаться, грех страшный на душу брать? Жила в свое удовольствие – и деньги водились, и любовник захаживал… Разберитесь, а то на девушку всякий посягнуть может.
Дядя-железнодорожник махнул рукой:
– Да не слушайте ее, так мелет разное, язык без костей!
– А вы, сердечные, никак знали покойную? – спросил Соколов, обращаясь к любопытным.
– Как бы не знали, тут не мерзли. Вот переживаем.
– Хорошей была покойница?
Соседи враз затараторили:
– Уж такая славная, лучше не бывает! Всегда первой поздоровкается, расспросит про житье-бытье. Добрая девушка была. И жених ее, Калугин, как бы с горя руки на себя не наложил. Говорит: «Утоплюсь в проруби, потому как любил самозабвенно!» Вы, ваши благородия, вникните.
– Вникнем! – заверил Кошко. – Пройдем, Аполлинарий Николаевич… – И, уже войдя в подъезд – негромко, лишь Соколову: – Мне дядя убитой не нравится, подозрителен…
Последний гость
Жилище швеи состояло из прихожей, кухоньки с изразцовой печью и единственной жилой комнаты в пятнадцать метров. В комнате стояли комод, стол, застланный довольно чистой скатертью, и кровать с металлическими шишечками. Везде царил порядок, все стояло на своих местах.
Девушка, задрав подбородок, висела на толстой бельевой веревке, привязанной к спинке кровати, и вытянув вдоль пола ноги в теплых чунях. На покойной была надета новая юбка, которая аккуратно прикрывала до щиколоток ноги. На бледных щеках отчетливо проступили обильные следы румян, которые столь любят девушки, лишь недавно перебравшиеся из деревни в город.
– Положение тела полувисячее, – отметил доктор Павловский. – Одежда целая, не поврежденная.
– И юбка в таком совершенном порядке, словно девушка боялась показать голые колени или неаккуратность, – отметил Соколов.
– Девицы, прежде чем покончить с собой, нередко думают о том эффекте, который будет производить их труп, – нравоучительным тоном произнес Кошко. – Известно немало случаев, когда девушка, прежде чем покончить с собой, делала изящную прическу, надевала лучшее нижнее белье и верхнее платье.
Соколов возразил:
– Но девушке, испытывающей дикую боль во время повешения, изрядно длящуюся при таком способе повешения, как этот – полувисячий, невозможно сохранить порядок в одежде. И уж во всяком случае, не станет мазаться румянами. Если хочешь хорошо выглядеть, проще не лезть в петлю.
Кошко недовольным тоном бросил:
– Жизнь многообразна, и неразумно различные ее проявления втискивать в жесткие рамки.
Соколов заглянул под стол:
– А вот пустая бутылка «Нежинской рябины».
Тем временем открылась наружная дверь и шаром вкатился румяный с мороза Ирошников, который ездил в сыск за фотоаппаратом. Он стал протирать запотевший объектив, прилаживать треногу.
– Гений экспозиции, проявителя и закрепителя прибыл! – приветствовал его Соколов. И обратился к начальнику сыска: – Хочешь пари: прежде чем повесить Трещалину, ее убили? И убийцей никак не мог быть ее дядя.
– Почему?
– Да потому, что старообрядцы алкоголь не употребляют, а этот железнодорожник, судя по всему, рьяный ревнитель старины.
Ирошников щелкнул затвором камеры, на мгновение всех ослепив вспышкой магния. Вынимая пластинку, сказал:
– Тогда необходимо ответить на вопрос: кто последним заходил к девушке?
Кошко ответил:
– Я опросил соседей, дядю и жениха-официанта. Соседи дружно показали: «Вечером Трещалина вернулась к себе около десяти часов, была в добром расположении духа». Дворник Мартиросов свидетельствует: «Я встретился с Верой у ворот. Она была веселой, сказала, что ходила в кино, смотрела фильму про Соньку Золотую Ручку. После этого свет в ее окне был часов до двенадцати».
Соколов сказал:
– Все это подтверждает мысль: где-то ходит убийца и посмеивается над нами.
Кошко задумчиво почесал подбородок:
– Да-с, тут есть повод для размышления! – Он с нетерпением поглядел на Ирошникова: – Юрий Павлович, ты скоро закончишь фотографировать?
Ирошников весело отвечал:
– Для грозного начальника рад стараться! Все, последний снимок сделан.
– Вот бутылка и стаканы – снимешь с них отпечатки пальцев, но прежде помоги Павловскому положить труп на кровать. И выньте девицу из петли.
Павловский перерезал веревку, не тронув узла.
(Читатель моих книг знает: по характеру петли, ее вязки порой можно определить убийцу. Вот как наставляли пособия криминалистики: «Весьма важно осмотреть узлы и определить их форму, так как люди известных профессий привыкают делать узлы, свойственные их занятиям. Так, моряки делают морской узел – со скользящей петлей, ткачи тот узел, что употребляется при разрыве нитки, рыбаки – как на сетях, цыгане – так называемый заворотень и пр. Петля вместе с трупом обычно отправляется в морг».)
Загадка
Девушку положили на кровать, обнажили тело. Кошко сказал:
– Юрий Павлович, садись за стол и пиши протокол! Павловский внимательно осмотрел труп.
Кошко задумчиво покрутил головой, обратился к медику, тоном подражая Соколову:
– Ну, великий эксперт Павловский, что обнаружил? Тот начал диктовать:
– Смерть наступила в результате обтурационной асфиксии. Судя по состоянию трупных пятен, температуре тела и окоченению, девушка скончалась двенадцать— четырнадцать часов назад, то есть в полночь. На коже возле странгуляционной борозды заметны с левой стороны шеи множественные повреждения в виде полулунных и продольных ссадин. На руках есть несколько слабо выраженных ссадин и синяков – следы борьбы. Уверен, прав Аполлинарий Николаевич, – это убийство.
– Да-с! – Начальник сыска, заложив руки за спину, прошелся из угла в угол. – Нежданный поворот дела. – Пожал руку Соколову. – Признаюсь, я готов был выдать разрешение на похороны. Видно, сама судьба свела сегодня нас вместе…
– Дабы отыскать и наказать виновного! – закончил с улыбкой Соколов. – Но это заслуга не моя. Изощренность убийцы и любовь к изящной словесности выдали его с головой. Повреждения на шее говорят: прежде чем засунуть девушку в петлю, преступник душил ее руками.
– Но кому понадобилась смерть этого юного существа?
– Кому-то понадобилась! И вряд ли с целью ограбления: те крохи, что скопила девушка, не тронули – несколько жалких рублей ты сам обнаружил в комоде среди белья.
– Может, ради получения страховки?
– Это надо выяснять. Но страховочного полиса ты, Аркадий Францевич, не обнаружил. Стало быть, корыстные мотивы можно исключить.
Кошко вновь начал расхаживать из угла в угол. Он задумчиво произнес:
– И все же, может, убийца – дядя-железнодорожник? Ведь он вчера вечером посетил убитую? Пожалуй, его следует арестовать.
Соколов вопросительно поднял бровь:
– Мотивы преступления?
– Вот он сам их и расскажет.
Павловский, отличавшийся дотошностью в деле, за что был уважаем начальством, добавил:
– От девушки исходит легкий запах алкоголя. Видимо, перед смертью пила вино.
– «Нежинскую рябину», – уточнил Соколов. – Но есть одна персона, которая достойна нашего всяческого внимания, – лакей ресторана «Волга» Калугин. Если он от горя еще не утопился в проруби, надо встретиться с ним и задать несколько вопросов. И главный: чем он занимался сегодня в полночь?
Кошко согласно кивнул:
– Да, теперь же едем! Полагаю, что ты, Аполлинарий Николаевич, нас не бросишь в трудную минуту?
– Не брошу, мне это дело интересно.
– Григорий Михайлович, отправляйся в морг к Лукичу – отвези труп, а мы с Аполлинарием Николаевичем – в «Волгу».
– Меня возьмите с собой, – попросил Ирошников. – Давно ведь обещали взять на дело. Я вам помехой не буду.
– Мне больше нравится, когда каждый занимается своим делом, – заметил Соколов.
В пику ему Кошко возразил:
– А почему бы Юрию Павловичу с нами не поехать на задержание? Стрельбы, полагаю, не будет.
Ирошников бойко отвечал:
– А хоть и будет, я не шибко боюсь. Мне даже нравится запах пороха.
– Ишь, наш фотограф страсть какой отчаянный, – произнес Кошко. – Поехали!
Печальный груз
Соколов, заметив на противоположной стороне повозку, по-разбойничьи свистнул: