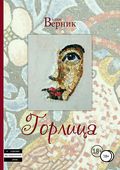Вадим Верник
Свободный полет
– А вскоре начались проекты на Первом канале…
– У меня был переход с канала «Россия» на Первый канал, запуск шоу на Первом канале, это были такие нервы… Сегодня я уже научился отказываться, научился говорить нет. Ты знаешь, самое важное – не научиться отказываться, а научиться не переживать, если ты вдруг сидишь дома и понимаешь, что тебе никуда не надо бежать. Или, сидя в отпуске на каком-нибудь пляже, через четыре дня не думать: «Боже мой, я ничего не произвожу уже четыре дня!» Вот это самое главное. Я вообще очень люблю свою работу, ничего не могу с этим поделать. Надеюсь, что это видно.
– Видно, Ваня, видно. Послушай, ты говоришь про пляж. А вокруг столько отдыхающих, которые наблюдают за тобой. Скажи, есть какой-то уголок на свете, где тебя не узнают?
– Послушай, это вопрос телевидения и интернета, и я далек от того, чтобы прятаться под листом лопуха, только бы никто меня не увидел. Знаешь, я тешу себя той мыслью, что, когда я выхожу в узких плавочках на побережье, всё оборачиваются не потому, что они видели меня по телевизору, а просто потому, что я идеально сложен. СложЁн или слОжен?
– СложЁн и слОжен одновременно.
– Да. Потом я вижу собственную тень и понимаю, что это не до конца так, что, наверное, тут где-то есть представители стран, которые входят в зону вещания Первого канала.
– А тебе важно, чтобы были именно узкие плавки?
– Как можно уже… Знаешь, я до сих пор вспоминаю – это был мой первый детский шок, – когда на побережье Финского залива, где мы любили отдыхать, появлялись мужчины с такими закатанными плавками в себя. Они очень искусно этим умением овладели. Если честно, я особо за пляжной модой не слежу, мне главное, чтобы не сваливалось. А потом, я очень люблю время года такое, когда солнечно и при этом свежо.
– То есть не жарко.
– То есть не жарко. Это старость, наверное, Вадик. Я думаю, я всю свою жару уже прошел. Я прошел все Израили, Америки, пустыни, пятидесятиградусную жару и всё-всё-всё. Мы вот лето с семьей провели в Юрмале – ни одного знакомого человека. Чудно, как будто на необитаемом острове.
– Где же это вы такое место в Юрмале нашли, чтобы ни одного знакомого?
– Это я в сарай забился там и накрылся шифером. А вообще мы ездим и на Балтийское побережье, и на даче бываем, и в Италии – я люблю эту старушку Европу. Летом у нас есть традиция ездить в Стокгольм, стараемся выбираться на два-три дня.
– Вдвоем с женой?
– И с женой, и с детьми, и с друзьями. Я очень люблю Стокгольм. Казалось бы, вот что мне любить шведов-то? А я к ним как-то проникся. Они все очень приятные ребята. Я вообще людей люблю. Вот знаешь, Вадим, как-то к ним ко всем хорошо отношусь. Пока меня человек лыжной палкой не ударит, я к нему хорошо отношусь.
– И часто тебя лыжной палкой ударяют?
– Знаешь, бывает. Ну они же не со зла. И я зла ни на кого не держу.
– Ты броней обзавелся со временем, или так было всегда?
– Ну я где-то тихонечко переживаю, но не так, чтобы об этом со страниц глянца рассказывать. Поэтому я к людям очень положительно, позитивно отношусь. Не то чтобы я был такой замкнутый и находил свое пристанище в обществе домашних животных.
– Мне кажется, рядом с тобой людям хочется быть позитивными.
– Возможно. Был, правда, долгий период, который меня нервировал. Не раздражал, а именно нервировал. Когда мне незнакомые люди говорили «ты». И это было невероятно просто объяснить: мы, люди, которые появляются на телевидении постоянно, стали для них друзьями, знакомыми, ничего в этом страшного нет. А сейчас уже стали говорить «вы» – видимо, возраст уже пришел.
– Говорят «Вы, Иван Андреевич»?
– Некоторые – да. Иногда мне даже хочется им сказать: «Да вы что, ребята, это же я, Ванька!»
– А ты себя Ванькой продолжаешь ощущать?
– Конечно. Ну какой я Иван Андреевич? Посмотри ты на меня, Вадик.
– И ты еще говоришь, старость пришла!
– Судя по тому, что подросло уже несколько поколений, а я-то думал, что все вокруг мои ровесники…
– Ваня, я часто смотрю «Вечерний Ургант». Так приятно, что ты о нас с Игорем не забываешь. Однажды даже песню про нас в эфире спел.
– Песню спел, да. Ты, Вадик, человек глубокой внутренней культуры. Ты понимаешь, что я этой песней не обидеть тебя хочу, это же самое важное. Ведь многие люди думают, что если я что-то про них говорю смешное, то я обязательно хочу их уколоть, поддеть, побольнее им сделать. Но это же совсем не так.
– А с женитьбой Сергея Безрукова какая была чудесная история! Мне даже люди потом писали, что Ургант меня в эфире иронично назвал «Вадик-Могила», мол, как же так: Безруков со мной по-дружески поделился информацией о состоявшейся свадьбе, не хотел афишировать, а я взял да и в журнале опубликовал.
– Вадик, мне приятно, что ты следишь за тем, что делаю я, потому что я очень внимательно слежу за тем, что делаешь ты. Я вообще стараюсь следить за тем, что делают люди вокруг, – мы же с тобой во всем находим поводы. Ты ищешь поводы для своих интервью, а я для того, чтобы весело рассказывать о чем-то с экрана. И в связи с тем, что я нахожусь на большом расстоянии, ударить меня, по крайней мере в первую секунду, не представится возможным.
– Ваня, а для чего ты придумал Гришу Урганта? В чем прикол?
– Никакой это не прикол. Прикол – это что-то очень кратковременное. А проект «Гриша Ургант» – это то, что радует меня изнутри, мне нравится стоять на сцене, петь песни и обнаруживать, что эти песни интересны еще кому-то. Мне всегда нравились усы, папа когда-то носил усы, дед, а сейчас эта мода возвращается. Я подумал, что будет странно, если я вдруг выйду на сцену с усами и начну на полном серьезе петь песни. Ну что это такое будет? И все скажут: «Ну зачем это?» Поэтому я решил выступать вот так, став Гришей Ургантом. А потом, у меня есть товарищ Гриша, первая песня была написана как раз у него на даче. У нас был такой творческий союз: я пел песню, а он владел дачей, на которой я пел эту песню. Вот мы и решили придумать группу «Гриша Ургант». Так всё и завертелось.
– Извини, а усы-то зачем тебе накладные?
– Накладные? Вадим, а вот об этом я тебе не могу рассказать. Я тебе так скажу: есть крем один гормональный, быстродействующий. Но больше ничего рассказывать не буду.
– Ты уже много лет ведешь программу «Смак». Сам-то готовить любишь?
– Очень. С годами я стал понимать, что всё больше и больше времени и внимания уделяю еде. Я люблю еду, люблю готовить, люблю кухню, люблю кухонную утварь. Мы иногда на даче с друзьями собираемся – я очень люблю принимать гостей. Я люблю, когда моя жена готовит, я ей помогаю, иногда что-то готовлю сам, правда, гораздо реже. Мне очень нравится вот этот процесс: сесть, налить бокал вина, о чем-то говорить, когда не надо никуда уходить, когда тебя окружают любимые и любящие тебя люди. Это, как мне кажется, энергетически очень важный момент. Я не мистик, но я прекрасно понимаю, что степень теплоты разговора несоизмеримо выше, когда ты сидишь дома, чем когда ты сидишь в той же компании, но на столе на шесте танцует немолодая женщина.
– Ты про еду так аппетитно говоришь. Я вот совершенно не гурман, но…
– Вадим, смотрю на тебя – у меня ощущение, что ты последний раз ел в 1992 году.
– Я мало ем, это правда. Скажи, какие вещи ты смакуешь больше всего в жизни?
– Все мы, мне кажется, одинаковые. Вот что вообще такое – «смаковать»? Смаковать – растягивать удовольствие. Когда ты читаешь какую-нибудь интересную книгу, уже на четвертой странице понимаешь, что она фантастическая, понимаешь, что таких еще страниц семьсот. И вот ты откладываешь чтение, чтобы потом найти место поуютнее и засесть с этой книгой. И такое бывает. Я люблю смаковать хорошие фильмы, люблю смаковать общение с людьми приятными. Я совершенно не одиночка по натуре…
– С дочкой Ниной ходишь первого сентября на школьную линейку?
– Конечно, я на все линейки хожу. На ее спектакли, которые ставят в школе. Недавно была такая история: им задали выучить стихотворение про осень. Я дал Нине прочитать текст песни Шевчука «Что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами…». А у нее феноменальная память, она это стихотворение выучила в одну секунду. Ночью я проснулся в ужасе, подумал, зачем я ребенка в это втягиваю. Все в классе будут читать «Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало…», а она у меня – Шевчука. С утра вскакиваю, а дочка уже ушла. Говорю Наташе, мол, что же делать, а она: «Ты не волнуйся, мы уже всё поменяли».
– У Нины чей характер? Твой или Наташин?
– Характер нашей дочки очень быстро меняется. Дети растут невероятно быстро – и внешне, и внутренне. Нине в мае будет только девять, а она уже такая, каким я был лет в одиннадцать-двенадцать. Что-то ей досталось от меня, что-то досталось от Наташи. Посмотрим, характер все-таки сформируется чуть позже. Но похохотать она любит, это важно. И поесть тоже любит, это тоже для меня важно.
– У вас с Наташей удивительная история. Вы ведь учились вместе в школе?
– В одном классе.
– У вас отношения были в школьные годы или нет?
– Никогда! Мы дружили. Поэтому я могу сказать, что это одно из удивительных событий, которое произошло в моей жизни.
– Через сколько лет после окончания школы вы встретились с Наташей вновь?
– Мы встречались несколько раз. У нас не было общей компании, мы виделись пунктирно в течение девяти-десяти лет с момента окончания школы.
– Что тебя вдруг зацепило в женщине, которую ты так давно знал?
– Я не знаю. И вот это «я не знаю» и есть для меня самый главный фактор во взаимоотношениях между людьми. Если я могу объяснить дружбу, могу объяснить родственные связи, то любовь объяснить невозможно. И это для меня самое главное. Чем старше я становлюсь, тем реже пытаюсь это анализировать. Это данность и счастье, вот что это для меня.
– У тебя был момент настороженности, что ты берешь в жены женщину с двумя детьми?
– Ни одной секунды. Наташа, со свойственной ей деликатностью, больше переживала из-за этого. Не от того, что у нее есть дети, – она переживала, как это всё сложится.
– Я Наташу не очень хорошо знаю, но мне кажется, она весьма серьезная девушка.
– Ты так говоришь, наверное, оттого, что и правда плохо знаешь Наташу. Она про тебя тоже знаешь что рассказывает, и тоже не всё правда. Я могу сказать, что Наташа является абсолютным воплощением знаменитой фразы Жванецкого: «Из жен надо выбирать веселых, из веселых – умных, из умных – нежных, из нежных – верных. И терпеливых». Ну как можно сказать лучше? Вот всё это есть в Наташе. И более веселого человека, чем Наташа, невозможно встретить. Я вообще не могу представить рядом с собой другую женщину.
– Отлично! Ваня, скажи, почему говорят, что люди, которые часто шутят на публике, в обычной жизни очень угрюмые? В тебе вообще есть эта угрюмость?
– Ну не мне же об этом судить. Может, у меня ощущение, что я такой веселый, фонтанирующий паяц, а на самом деле я закрывшийся моллюск в раковине. Не знаю. Конечно, иногда бывает желание посидеть в тишине, отдохнуть от звука собственного голоса. Правда, возникает такое желание. Просто от большинства людей подобной профессии ждут того же, что видят на экране, на сцене. И когда в первую же секунду этого не происходит, тут же человека записывают в молчуны.
– Ты, мне кажется, сполна оправдываешь надежды тех, кто от тебя ждет шуток.
– Да, послушай, я вот сейчас даю тебе интервью и сдерживаю себя – ноги-то танцуют под столом! Ноги-то танцуют, душа рвется, понимаешь! И я думаю: скорее бы мы с тобой закончили, взялись бы с тобой за руки и побежали бы с тобой по Столешникову переулку, распевая песни. Хочешь?
– Конечно, я давно жду этого момента.
– Побежали, Вадик, побежали скорее! Бежим!
Александр Яценко
Плохой хороший человек
Его герои ершистые, колючие, с открытым сердцем и незащищенной душой. В 2005 году я узнал актера Александра ЯЦЕНКО. Он тогда уже снялся у Андрея Прошкина в «Солдатском Декамероне» и в картине Бахтияра Худойназарова «Шик». Я пригласил молодого актера в свою программу «Кто там…». Больше всего меня поразили тогда суждения Яценко о системе Станиславского: «Систему Станиславского я читал неоднократно. Все говорят про эту систему, и мне так стыдно за них становится. Потому что я понимаю, что вранье всё это: каждый работает, как умеет, и у каждого своя система. А эта система Станиславского – просто какая-то нелепая книжка. Если кто-то пробовал что-то по ней делать – это крах». Яценко обо всем этом говорил с таким искренним максималистским негодованием, что это невольно вызывало у меня улыбку.
О том, что можно жить по «своей» системе, Александр Яценко доказал в своих последующих ролях: особенно в резонансных «Оттепели» Валерия Тодоровского и «Аритмии» Бориса Хлебникова. Он живет и творит без оглядки на традиции и признанные авторитеты. Яценко настолько растворяется в роли, что ощущение, будто он играет самого себя в предлагаемых обстоятельствах, а это высший пилотаж. О себе Яценко говорит, что он социофоб: «Не могу находиться там, где много народу». И в этом нет никакой позы.
Интервью с Сашей мы сделали осенью 2017 года, как раз в это время в прокат вышел фильм «Аритмия», уже получивший Гран-при «Кинотавра». Самому Яценко «Аритмия» принесла приз за лучшую мужскую роль на «Кинотавре», а также на международных кинофестивалях в Карловых Варах и Чикаго, на Уральском кинофестивале, премию «Ника» и премию журнала ОК! «Больше чем звезды».
– Твой герой в «Аритмии» – влюбленный в свое дело врач «Скорой помощи», который переживает кризис семейных отношений. Ты так психологически тонко выстраиваешь свою роль!
– Спасибо, Вадим.
– За «Аритмию» ты собрал какое-то невероятное количество наград. Эта история повторялась и с другими картинами с твоим участием. Получается, чтобы фильм стал успешным, надо просто пригласить сниматься в нем Яценко.
– Ну, не факт. (Улыбается.) Это просто некая совокупность факторов. Я не знаю, как к этому относиться, понимаешь? Дико приятно, ну и всё.
– Вот «Аритмия» выходит в прокат, а сам ты уже давно живешь какой-то другой жизнью. В этом смысле театр – искусство настоящего, где всё происходит здесь и сейчас.
– Да, театр – это такая тренировка, это как спортзал для актера.
– У тебя сейчас есть эта «тренировка»?
– Сейчас нет. Меня недавно позвал Молочников Саня и так резко, со своей этой энергией, как он умеет, взялся за меня. Говорит, давай я тебе пьесу пришлю, почитай, но лучше бы ты пришел в МХТ, мы бы сразу порепетировали. Было радостно, а потом… Понимаешь, в театр надо месяца на три уйти с головой, а у меня сейчас такой график, что это очень сложно.
– Неужели у тебя не было соблазна выйти на сцену Московского Художественного театра?
– Я уже там был, выходил в «Дяде Ване», в маленькой роли работника Ефима, в спектакле «Табакерки». У меня, кстати, были комические выходы. Миндаугас Карбаускис сразу придумал: «Саня, не смотри, что это бессловесный работник Ефим какой-то, – это такой Чарли Чаплин. У него такие большие сапоги, которые ему от отца достались». И я сразу как-то уцепился за эти сапоги: ходил шаркающей походкой, с кепкой «на глазах». А еще Карбаускис придумал, что работник Ефим безнадежно влюблен в Соню – Ирину Пегову, и тоже на этом многое комическое строилось. А когда Астров – Дмитрий Назаров обмахивался шляпой, я за ним стоял и как бы случайно начинал тарелкой обмахиваться с ним в такт. Зал смеялся, и пафос уходил… В общем, я появился у Молочникова на трех репетициях. Правда, шел, уже зная, что ничего не выйдет. Саша хотел, чтобы я сделал выбор в его пользу, но я не смог, потому что уже обещал другим людям. Как раз в то время начинались съемки фильма Сергея Урсуляка «Ненастье» и была договоренность по съемкам проекта «Год культуры». Мы два года назад сняли пилот этой картины, у меня там очень интересный персонаж, народный, узнаваемый, я такого еще не играл. Так что Молочникову пришлось, к сожалению, отказать.
– В общем, не приспособлен ты для театральной жизни, Александр Яценко.
– В свое время Карбаускис пригласил меня в «Табакерку» на роль в своем спектакле «Когда я умирала…», и Олег Павлович Табаков вскоре предложил устроиться в штат театра. Я сказал твердое «нет». Я сформулировал для себя, что штат – это для девочек, они должны чувствовать какую-то спину, тыл. А у мальчика, наоборот, не должно быть никакой опоры, он должен летать, тогда он больше выдает, больше аккумулирует, чем находясь «в тылу».
– То, что ты всегда должен быть «на передовой», – это очевидно. Твоя жизнь – сплошные метаморфозы, нестыковки, экстрим. Но ты как-то умеешь всё разруливать и выходить, как говорится, сухим из воды.
– Именно «разруливать», согласен с тобой. Долгое время я не понимал, к чему это всё приведет, вот этот мой дрейф по Москве. Ты идешь от одного места к другому, потому что своего места у тебя нет. Всё самое интересное происходило со мной после института. Еще долгое-долгое время у меня всё какими-то скачками было: вроде бы что-то более-менее уляжется, вроде в нормальную колею войдет… Вот даже сейчас я с тобой разговариваю, а ведь я только что обратно вернулся в эту колею. Это как в стихотворении Горохова: «Сбылась мечта, и всё так классно, так классно, а потом ужасно».
– А сейчас-то что ужасно, Саша?
– Сейчас ничего ужасного нет. А вот в мае-июне мне казалось, что жизнь какая-то ужасно сложная, несправедливая. Как у птицы феникс: она сгорает полностью, какие мотивации для дальнейшего существования? Вот у меня не было никаких мотиваций, всё происходило просто так, по инерции: какое-то время тебе хорошо, а потом ужасно плохо, и ты не понимаешь отчего.
– Но у тебя же есть такая мощная поддержка, подпитка – я имею в виду семью. Жена, ребенок…
– Да всё хорошо, но видишь… Все стараются поддерживать, а я чувствую, будто у меня временами какие-то обострения, когда ты себя не можешь контролировать. Прям вот вообще плохо-плохо. И я из дома в мае уходил… Хочется одному побыть, но это тоже против семьи, понимаешь? Одному побыть в таких условиях очень сложно. И когда это всё доходит до какой-то точки, вы ссоритесь.
– И куда ты ушел?
– Я снял квартиру. А потом понял, что это не выход вообще, да и долго там находиться я не смог. Мне вот не такое одиночество нужно, мне нужно, чтобы все были рядом, а я при этом был бы в одиночестве.
– Ну понятно, публичное одиночество. И на сколько времени тебя хватило в этой съемной квартире?
– Да на неделю. Хотелось мне попробовать так пожить, но ничего серьезного в этих условиях я сделать не мог.
Как раз в этот момент понимаешь, насколько пустота губительна.
– Возможно, Саша, это еще и кризис среднего возраста.
– Наверное, да, так это всё и называется. Не то что вот прям кризис, но депрессия наступает периодически. Честно тебе скажу, у меня было такое состояние и до поступления в ГИТИС: хоть вешайся, ужасное состояние, – чувствуешь, будто ты полностью сожженный. Я тогда приехал в Москву из Тамбова. Поступление было тоже такое авантюрное. Поезда эти, проводницы…
– Поясни.
– Ну, я опаздывал на какие-то поезда, запрыгивал в последний вагон и ехал из Москвы обратно в Тамбов сдавать госэкзамен по философии или по чему-нибудь еще (я там учился в университете на режиссерско-театральном отделении). В Тамбов ездил в перерывах между вступительными экзаменами в ГИТИС. Помню, один раз меня в ГИТИСе очень задержали. Последний поезд уходил, так я от ГИТИСа до Павелецкого вокзала добежал за 15 минут. Выбегаю на платформу – поезд стоит. Я нагнулся отдышаться, смотрю – он поехал! Я бегу, бегу, и из последнего вагона проводница кричит: «Деньги есть?» Я ей: «Есть, 120 рублей». И она мне: «Прыгай!» И так было каждый раз. Поступление – оно такое: ты поступаешь и не знаешь, возьмут тебя или нет, но ты делаешь всё для этого. Это было даже не поступление, а какой-то новый виток жизни. Жизнь другая пошла: ты вдруг вышел из зоны комфорта, хотя, по сути, ее и не было никогда, этой зоны комфорта, но ты уже попал в совершенно другую реальность.
– Ты родился в Волгограде. Как тебя вообще занесло в Тамбов?
– В Волгограде в тот момент, когда я там рос, была такая общая деградация: мы постоянно дрались «район на район». Отвертку в спину? – Да не вопрос. И жалко, что это мой родной город. Многим казалось, что там не было выбора и выхода. Но я-то понимал, что выбор есть: я же его нашел… В Тамбов я поехал, потому что это единственное место, где был добор на театральный курс. В Волгограде я не попал в театральное училище, там я тоже поступал, но меня быстро «слили» на вступительных экзаменах. Я волновался тогда, пил валерьянку, но мне ничего не помогало. Это была вообще моя первая попытка поступить в какой-то театральный вуз.
– Твой отец таким романтическим делом занимался – ходил в плавание, был капитаном. Тебя самого эта история не прельщала?
– Я тебе честно скажу, Вадим, мне хотелось путешествовать, я читал приключенческую литературу, меня другое не привлекало, об актерстве в детстве я не думал, потому что не знал, что есть такая профессия. Ну а потом получилось так, как получилось. Однажды я попал в Волгоградский Новый экспериментальный театр на «Ромео и Джульетту», и там мне прямо снесло башню от того чуда, которое я увидел. Мне захотелось пойти в театральную студию, в 10-м классе я сыграл Буратино. Потом весь класс меня выбрал капитаном нашей команды КВН. Во мне увидели «кривлянческие» способности… Уже в Тамбове я стал много читать. Полюбил Кортасара. «Игра в классики», потом «Модель для сборки» и все остальное. Кортасар очень интересный автор. У него по сути постмодернистские вещи, и юмор там высокого качества. Потом были Маркес, Борхес. Но мне больше всего нравился Кортасар.
– Скажи, любитель Кортасара и приключений, чем был спровоцирован твой душевный кризис накануне поступления в ГИТИС?
– Закончилась учеба в Тамбовском университете, и что? Я не стал режиссером, я не стал актером. У меня был диплом педагога: по ходу моей учебы произошла реорганизация на факультете. Но это не мое абсолютно, так же как и режиссура, – я не могу объяснить людям, что надо делать.
– А поехать поступать в Москву сразу, минуя Тамбов, тебе не хотелось?
– Хотелось, конечно, но я тогда просто не мог представить себя в Москве. Москва была мифом каким-то для меня. Этот город – абсолютный Олимп, он такой недосягаемый. В Тамбове мне многие авторитетные люди говорили: «Саня, а ты что, в Москву не собираешься?» А я сомневался всё. Да и история на четвертом курсе неприятная случилась: у моего соседа по общаге произошло несчастье. Он пил, потом уехал, оставив комнату просто в ужаснейшем состоянии, а комната за мной числилась. Комендант общежития подумала, что это всё я сделал, а я не стал оправдываться, и был скандал.
– Предполагаю, что из общаги тебя выгнали и ты ушел с гордо поднятой головой. Так?
– Примерно. И началось самое интересное: пятый курс, скитания… Я мог позволить себе только очень странные места для проживания. Денег не было, их не было даже в перспективе. Я нашел такую квартиру, где бабушка с внуком жила. Бабушка была уборщицей на продуктовой базе, и она предложила мне там работу. За триста рублей в месяц я работал дворником, сторожем, грузчиком в одном лице, сутки через двое. В институт практически не ходил. Я уже слабо понимал, что дальше, и это меня напрягало. Сто двадцать рублей из этих трехсот платил за жилье, жил в одной комнате с бабушкиным внуком.
– Опять всё беспросветно. Я знаю, что твоя жизнь кардинально изменилась после приезда в Тамбов студентов выпускного курса Марка Захарова из ГИТИСа.
– Да. В середине зимы приехали захаровцы, мы с ними встретились. Миша Покрасс, Арина Маракулина, Влад Гальков… Они вдохновили меня, сказали мне какие-то удивительные слова, которые я раньше ни от кого не слышал.
– Ребята увидели тебя в дипломных спектаклях?
– Нет, они увидели меня, когда мы им какой-то капустник показывали. И вот они подошли и спросили, не хочу ли я к ним попробоваться: Марк Захаров набирал новую Мастерскую. А я об этом даже мечтать не мог! И вот тогда я решился поехать в Москву. Мне вдруг так захотелось вписаться в Москву, именно вписаться. Вообще это мой принцип даже на съемочной площадке: я не готовлюсь, я не могу готовиться к чему-то. Всё, что ты придумаешь в голове, – это хорошо, это твоя внутренняя работа, но на площадке всё непредсказуемо и ты просто вписываешься, как в драку, как в тушение пожара, с головой кидаешься – только так можно работать. Надо всё делать отчаянно, это, на самом деле, и сил придает. Вот недавно мы снимали на кладбище, я почти всю смену лежал в гробу.
– Я, кстати, снимался у Саши Молочникова в фильме «Мифы», – так вот Саша спрашивал меня, соглашусь ли я в одной сцене лечь в гроб. Я отказался. Из-за суеверия.
– А я не суеверный, не верю ни в какие актерские приметы. Единственное спасение – это делать свою работу отчаянно и самоотверженно, так что если уж залез – лежи. А там, в гробу, я лежал еще с одной артисткой прекрасной, Аллой, она играла учительницу, которая в первой серии погибает. И вот у нас первая серия начинается с трагического события. У нас там еще был кактус и бутылка коньяка. Это фарс.
– Понятно, ты в профессии готов на всё… Еще один факт из твоей биографии. Ты же ГИТИС не окончил. Тебя за драку отчислили, кажется, да?
– Ну да. Там была ситуация такая, я ее не хочу комментировать. Возможно, я сам был не прав, но мне реакция одного человека показалась не очень мужской.
– Это был однокурсник?
– Нет. Это был преподаватель, он у Юли Пересильд на курсе преподавал.
– То есть ты на преподавателя руку поднял?
– Да он сам первый на меня поднял. Он кинулся сам, начал на меня кричать, схватил за грудки… Слушай, давай на этом остановимся.
– Хорошо, а Марк Анатольевич Захаров не заступился за тебя? Он же тебя ценил, с уважением к тебе относился.
– Захаров для меня многое значит, он молодец. Захаров меня часто хвалил: «Александр, смотрите, чтобы крыша не поехала», – говорил он, либо осаждал за что-то, что не вписывалось в его рамки. Для него самое плохое слово – «среднестатистический». Может быть, из-за этого я отказываюсь от каких-то необязательных ролей, от халтуры. Ну а в той ситуации с отчислением… Если бы было по-другому, то и жизнь моя сложилась бы иначе. Выгнав из института, Захаров меня добил, честно говоря. Да и правильно сделал.
– Это ведь случилось за три месяца до окончания института.
– Да, у меня произошло тогда обнуление, надо было заново всё начинать. Я оказался нигде. И для своих знакомых я «потерялся», – мол, с этим всё понятно, он сопьется. Я две недели погрустил, поматерил себя, а потом думаю: нет, не дождетесь! Вообще, я очень верю в судьбу. Нет у тебя денег, – значит, пока и не надо. Значит, ты должен что-то понять, оценить для себя. Я живу так, чтобы от меня не создавалось ощущение тупого человека, – как будто я что-то еще думаю. На самом деле я так иронично отношусь ко всему, – это от папы, наверное. Я себя адекватно чувствовал и в домах под снос. Когда я понимал, что начинаю «парить» своих друзей, а они не могут сказать впрямую: «Саня, ты надоел», – я перебирался в какой-нибудь дом под снос, на свалке находил какие-нибудь сковородки, кастрюли. Есть в этом что-то позитивное, панковское.
– Ты прямо описываешь сейчас своего героя в фильме Алексея Балабанова «Мне не больно», который тоже находил прибежище в заброшенных домах. У тебя вся жизнь такая ломаная, сплошные зигзаги.
– Не знаю, что сказать тебе, чтобы не переводить всё это в какую-то поэтическую форму. Мне говорят, мол, Саня, ну ты чего, у тебя же главные роли, всё хорошо. А я не знаю, как внутри себя найти вот этот баланс, чтобы было кайфово, чтобы не напрягало то, что ты делаешь. Чтобы ты мог, когда отдых, отдыхать, а когда работа – работать.
– Твоя жена, наверное, сильная женщина: не каждая сможет терпеть тебя с твоими бесконечными душевными метаниями. Например, приняла тебя обратно после твоих летних «гастролей».
– Да, у меня мудрая жена. Хотя я не знаю, приняла ли она меня обратно, посмотрим.
– Саша, это правда, что ты роды у жены сам принимал?
– Слушай, такой треш был вообще! Я обещал Марусе присутствовать при родах и ничего больше не обещал. Она меня уговорила на естественные роды, чтобы дома рожать, с акушерками, в бассейне, чтобы не в роддоме ни в коем случае. Я сначала испугался, но потом понял, что многие наши друзья так рожали, – я просто не интересовался этой темой. Так вот, 10 июня она должна была родить. И мне уже кошмары снились, что я на съемки уезжаю, что я в самолете. А Маруся мне: ну ты же успеешь, успеешь. Видимо, она сама себя накрутила. Я прилетаю 24 мая со съемок, на две недели раньше, и по дороге домой получаю эсэмэску: «У меня отошли воды». Этот день я очень хорошо запомнил, он был бесконечный. Я прилетел из Мурманска после ночной смены, поспать не удалось – там же, в Мурманске, полярные ночи. То есть я в совершенно адском состоянии. А дел масса: пришлось срочно ехать за морской солью, за бассейном, потому что у нас душ, не ванна. Плюс акушерки застряли в пробке. Пятница, пробки огромные. И уже было понятно, что дальше тянуть нельзя. Тут меня вдруг переключило, мне показалось, что всё будет отлично, появилось даже чувство юмора. Время шесть утра. В общем, я сам принял роды. Когда акушерки доехали, сын уже лежал у Маруси на груди. У меня всё получилось, и я был весел. А вот на следующий день меня колбасило – какой-то постродовой синдром.
– Невероятная история. А чем жена занимается?
– Когда мы познакомились, Маруся работала гримером. Служебный роман типа. Я посмотрел, сколько одновременно у нее проектов, как это вообще происходит. Она приезжала на три часа поспать, а потом опять на смену. Ну как это вообще? И я понял, что не хочу, чтобы мой близкий человек так работал. И в тот момент мы приняли решение, что я зарабатываю, а она занимается семьей и домом.
– Сколько лет вы вместе?
– С 2010 года.
– Уже солидный срок.
– Срок, а может, и нет. Сейчас мы трехкомнатную квартиру купили, но там надо делать ремонт, и вот у меня сейчас такое состояние – опя-я-ять проблемы! Я хочу перекинуть всё на Марусю, как я всегда это делаю. Она художник, она видит пространство, как я его не вижу.
– Главное, что жена видит и чувствует тебя.
– Вот это точно. А еще хотим квартиру когда-нибудь в центре купить, чтобы в старости с Марусей в ней жить, а эту детям отдать.
– Ты в сорок лет уже о старости думаешь?
– Бывает, да. Когда рождается ребенок, наваливается куча страхов. Мне раньше вообще было наплевать, что в мире происходит. А сейчас задумываюсь о будущем. Мирославу сейчас два года и пять месяцев, такой интересный возраст. Он очень контактный сейчас, всё пальцами трогает. Марусин брат, крестный Мирослава, зафигачил ему на даче такую горку, типа скалодрома! Ему ужасно нравится, лазает там. Но возвращаясь к мыслям о старости… Знаешь, какой есть еще признак? Ты вдруг становишься сентиментальным. Хотя мне кажется, что я с детства сентиментальный.