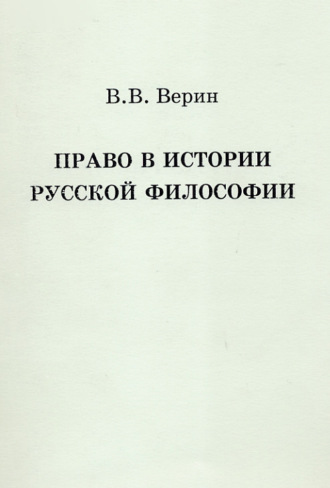
Вадим Верин
Право в истории русской философии
Кантовская трактовка «государственного права» представляет собой, в сущности, определение того, какое политическое устроение общества следует считать соответствующим принципам права и потому имеющим право на существование в современных условиях, когда последнее начинает определяться философски просвещенным разумом. В отличие от французских просветителей, Кант отказывался руководствоваться при оценке государственного строя утилитаристскими и эвдемоническими критериями, находя их сугубо эмпирическими. С точки зрения рационализма, Кант заявлял, что совершенство (благость) государства означает «не благополучие граждан и их счастье», а «высшую степень согласованности государственного устройства с правовыми принципами, стремиться к которой обязывает нас разум – через некий категорический императив[28].
Такого рода согласование Кант мыслил как обязанность государства уважать и культивировать три «правовых атрибута» граждан: «основанную на законе свободу каждого», «гражданское равенство» и «гражданскую самостоятельность»[29]. Через эти атрибуты и последующие конкретизации, кантонское понимание государства, соответствующего своей правовой идее, оказывалось в содержательном отношении аналогичным воззрениям на «государство разума» французских и других европейских просветителей XVIII в.
Особенно отчетливо это проявилось по вопросу о гражданских правах и свободах, имевшему важнейшее значение в политической философии XVII–XVIII вв. Используя аргументы, специфичные для своего стиля мышления, Кант выразил категорическое несогласие с государственно-правовой концепцией английского философа Томаса Гоббса (1588–1679), согласно которой при договорном конституировании государства индивиды лишаются свободы, присущей им в естественном состоянии, переносят все свои права на главу государства, который в результате этого становится абсолютным властелином.
Суть понятия права Кант усматривал «в возможности сочетать всеобщее взаимное принуждение» (посредством устанавливаемых в государстве общеобязательных законов) «со свободой каждого»[30]. Кант, как и Руссо, считал, что при образовании «гражданского общества» имеет место двуединый процесс отчуждения свободы и снятия этого отчуждения, нового, более надежного обретения свободы: в соответствии с «общественным договором» «все в составе народа отказываются от своей внешней свободы» только для того, чтобы «снова тотчас же принять эту свободу» в ее правовом оформлении как члены образованного ими государства, и потому ошибочно утверждение, будто «человек в государстве» пожертвовал своей прирожденной свободой. В действительности этот человек оставил лишь «дикую, не основанную на законе свободу, для того чтобы вновь в полной мере обрести свою свободу вообще в основанной на законе зависимости, т. е. в правовом состоянии, потому что зависимость эта возникает из его собственной законодательствующей воли»[31].
Кантовская трактовка «правового состояния» приобрела не свойственный ей ранее демократический оттенок в следующих заявлениях: «законодательная власть может принадлежать только объединенной воле народа», поскольку, «объединенный народ… сам есть суверен». Эти заявления сопрягались с концепцией политического либерализма о необходимости разделения власти на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную, что обосновывалось Кантом «логикой практического разума – это «как бы три суждения в практическом силлогизме»[32].
Кант назвал деспотическим направление, при котором монарх, помимо подобающей ему исполнительной власти, является также главой законодательной и судебной властей. Вместе с тем, Кант утверждал, что даже монархическое направление можно считать сущностно республиканским, если в нем проведено разделение трех названных властей. Тем самым Кант с метафизическо-правовой точки зрения обосновывал необходимость перехода от абсолютной монархии к монархии конституционной, что в условиях феодально-абсолютистской Пруссии выражало радикальную философскую оппозиционность. В «Споре факультетов» Кант с полным осознанием этого факта назвал философов, обсуждающих социально-политические проблемы, «оппозиционной партией» и отнес их к левому крылу «парламента ученых», правое крыло которого, считал он, представляют юридические факультеты.
Кант с гордостью писал о философском факультете как единственном, который «имеет дело не только с учениями, принимающимися не по приказу какого-нибудь начальника» и который выносит по обсуждаемым вопросам решения автономно, сообразуясь с принципами самого мышления и тем самым подчиняясь «только законодательству разума», а не «законодательству правительства»[33]. Такова была позиция самого Канта, которую он стремился представить как общую для всех университетских философов своей страны.
Рассуждения Канта об имеющей правовое оформление «идее государства» характеризовали, собственно, его политический идеал, должный претвориться в действительность. Ясно понимая, что наличный политический строй Пруссии является совершенно иным, Кант в известном смысле примирялся с королевским абсолютизмом и даже производил его философско-правовую легитимацию, категорически осуждая попытки привести его в соответствие с идеалом действиями «снизу», по французскому, революционному образцу. Монарх, находящийся у власти, характеризовался Кантом как «законодательствующий глава государства, который «в отношении подданных имеет одни только права и никаких обязанностей», т. е. обладает абсолютной властью. Кант, в противовес революционному демократизму Руссо, заявлял, что против любых действий такого монарха «нет правомерного сопротивления народа», нет «права на возмущение», восстание и на предание свергнутого монарха суду и осуждению на смерть, как это имело место в отношении английского короля Карла I и французского короля Людовика XVI. Попытка присвоения таких революционно-демократических прав по отношению к монархам квалифицировалось Кантом как «государственная измена», правомерно караемая смертной казнью[34].
Но по своим убеждениям Кант не был роялистом и абсолютным консерватором. Напротив, он был убежденным республиканцем и прогрессистом, хотя и весьма умеренным в вопросе о методах соответствующих преобразований, обосновывая правомерность только реформистского, мирного, осуществляемого сверху решения назревших социально-политических задач. Согласно Канту, производить необходимые изменения «существующего государственного устройства» правомочен лишь сам являющийся сувереном, т. е. носителем высшей власти, монарх, делая это сугубо постепенно, причем в направлении реализации идеала «чистой республики»[35].
Вектор разумно-правового развития человечества определяется Кантом как несомненно республиканский и даже демократический. Он подчеркивал, что «всякая истинная республика… не может быть не чем иным, как представительной системой народа, граждане которого обеспечивают свои права через избираемых ими уполномоченных (депутатов)». В более или менее близкой исторической перспективе Кант считал осуществимой реализацию республиканско-демократического идеала, когда сувереном становится сам «объединенный народ», Возможность последующей реставрации монархий, в особенности абсолютных, Кант считал неправомерной, заявляя, что «в основанной отныне республике нет уже больше надобности выпускать из рук бразды правления и возвращать их тем, кто держал их прежде и чей абсолютный произвол мог бы опять уничтожить все новые построения»[36].
Серьезного внимания заслуживает тот факт, что при всей резкости осуждения Кантом революционного свержения монархий он, вместе с тем, производил осторожную легитимизацию политических устройств, созидаемых победившими революциями. Кант писал, что «если революция удалась и установлен новый строй», то подданные обязаны быть лояльными ему и повиноваться новому правительству[37].
Установка на анитабсолютистское реформирование сверху социально-политического строя Пруссии дополнялась мерами антифеодального характера, предложенными Кантом. Он, во-первых, обосновывал правомерность отмены «наследного дворянства», в котором видел «пустое порождение мысли, не имеющее никакой реальности»[38].
Во – вторых, Кант отрицал правомочность дворянского, церковного и даже княжеского землевладения, заявляя, что «рыцарские владения и церковные… могут быть без колебаний отменены», а верховный повелитель не может иметь доменов, т. е. земельных угодий для частного пользования (для содержания своего двора)»[39].
В – третьих, Кант выступал против клерикализма как сращения церкви с государством, давая правовое обоснование необходимости их разделения. Попутно подтверждалось право народа на реформирование своего вероучения[40], что было уже осуществлено в XVI–XVII вв. посредством принятия лютеранской версии христианства в северо-немецких землях, в том числе на территории Пруссии.
Свое критическое свободомыслие Кант считал вполне соответствующим истинному «гражданскому состоянию», мыслимому как по самой своей природе обеспечивающему гражданам свободу мысли и слова, включая свободу публичного обсуждения философами политико-юридических вопросов. Кант мечтал о скором наступлении времени, когда именно философы, а не теологи или правоведы, станут советчиками властей. Кант был убежден, что философское свободомыслие в отношении государственного права «будет лучшим средством для достижения целей правительства, чем его собственный абсолютный авторитет»[41].
Что касается международного права, то в его сфере Кант сохранил приверженность идее вечного мира. Правда, к 1797 г. пацифистские надежды Канта значительно поблекли по сравнению с 1795 г., когда ему казалось, что договор о «вечном мире» будет вот-вот заключен. Теперь, в обстановке продолжающихся войн на европейском континенте, Кант считал, что хотя идея вечного мира представляет «конечную цель всего международного права», она все же неосуществима из-за невозможности создать всемирное конфедеративное государство и мировое правительство. Но, заявлял Кант, вполне осуществимо развитие таких международных связей, которые «служили бы постоянному приближению к состоянию вечного мира»[42].
Вопрос более не в том, реален или нереален вечный мир, – рассуждал Кант, – а в том, должны ли мы стремиться к запрещению войн и содействовать всеобщему миру. Важно понять, согласно Канту, что неустанно действовать в этом направлении – это наш долг. Предельно возвышая морально-правовую значимость идеи вечного мира, Кант писал, что становление всеобщего и постоянного мира составляет не просто часть, но конечную цель учения о праве в пределах одного только разума. По Канту, правило пацифистского долженствования априори заимствовано разумом из идеала правового объединения людей под публичными законами.
Таким образом, Кант утверждал, что нет ничего метафизически более возвышенного, чем идея вечного мира, которая в смысле ее всеобщей значимости может быть призвана обладающей абсолютной реальностью.
1.2. Право и мораль в философии И. Канта
Уходящий век заострил внимание теоретиков и практиков гуманитарного направления на ряде серьезных общественных проблем, в числе первых выдвигая вопрос о сущности и соотношении морали и права. Одним из крупнейших исследователей данной проблемы в прошлом был И. Кант. В его философских трудах, посвященных этике, в частности, в первой части «Метафизики нравов», поставлен тезис и далее выстроена целая система соотношения двух сфер, метафизики нравов – морали и права. Насколько актуальны сегодня рассуждения и умозаключения немецкого философа говорят непрекращающиеся диспуты, проводимые в кругах западноевропейских философов и юристов. Не лишены особого интереса и выводы, к которым пришла в недавнем историческом прошлом итальянская философско-правовая школа кантианства.
За наше столетие в итальянском кантоведении по данному вопросу сложилась своя, оригинальная традиция, сформировались основные направления, характеризующиеся принципиальным отличием в интерпретациях кантовской этико-правовой мысли: одни полагают, что право и мораль – две несовместимые вещи; другие, признавая это, делают акцент на существенной функции принуждения в праве, целиком отграничивая его тем самым от морали; и последние, при всей очевидности различия морали и права, обращают свое внимание главным образом на их соотносительность и на их коренное родство.
Исходя из этого, необходимо представить взгляды сторонников названных направлений, по возможности проанализировав ряд аспектов, составляющих их концептуальное отличие. Но обращение к данному материалу имело целью не столько ознакомление читателей и коллег с отчасти новыми для нас философскими идеями, сколько желание возбудить интерес к одной из самых актуальных и болевых точек нашего сознания в мире меняющихся координат, где взаимодействие сфер морали и права составляет единый подвижный континуум социального бытия человека.
Главная проблема обсуждаемой темы заключена в анализе взаимодействия ключевых понятий кантовской концепции метафизики Нравов: долга – в морали и принуждения – в праве. Как известно, данная проблематика уходит корнями еще в философские размышления Фомы Аквинского. И. Кант совершил восхождение к формализованному построению теории права и морали. Именно эта этико-правовая система, имевшая цель развести две сферы разума, вызывает столь большой интерес в современных философских поисках.
В итальянском кантоведении и в философии, права существует ярко выраженное направление, исходящее из признания жесткой автономии морали и права.
По мнению Б. Кроче, А. Негри, Д. Пазини и др., в кантовской теории мораль и право противопоставлены одно другому как сферы «внутреннего» и «внешнего». Право у Канта в высшей степени заформализованно, объективированно, отстранено и даже превосходит как волю, так и пользу индивидуума. Право вооружено принудительной силой, которая выражает не силу единицы, а является внешним порядком свободы и справедливости.
Правовая деятельность свободна от всякого понятия морали, лишена каких бы то ни было этических требований. Но, утверждая этот постулат, сами интерпретаторы вовсе не склонны соглашаться с ним, ибо существование понятия внешней чистой свободы в ее отрыве от моральной области в степени абсолюта невозможно, ведь слишком очевидно их сущностное единство. Поэтому данные философы находят причину кантовского разграничения внешнего и внутреннего законодательства в следовании Канта принципам немецкого Просвещения и «культурной традиции европейского либерализма». Более того, А. Негри, признавая различия морали и права у Канта очевидной реакцией, отвечающей исторической и политической своевременности, в то же время отмечает, что данное разграничение противоречиво с теоретической точки зрения как в отношении этических предпосылок теории, так и само по себе. Можно с полным основанием предполагать, замечает Негри, что «право и мораль относятся к области этического, то и другое развиваются в направлении общей метафизической цели и, следовательно, взаимообусловливаются»[43]. Из этого видно, что разведение двух родственных сфер у Канта можно объяснить лишь формальными установками, диктуемыми исторической ситуацией.
Позиция другого исследователя А. Баратты, автора труда «Правовые антиномии и конфликты познания»[44] в определенной степени близка к Негри, но для Баратта данное различие заключается не только в идеологии, но также в самой сущности кантовской системы. По его мнению, различие морали и права признается у Канта в качестве отношения между двумя согласованными, но логически отличными сферами на основе обособления предпосылок и формы. Баратту интересует прежде всего вопрос, какова предпосылка в свободе воли и какова форма в императиве. Мораль и право, утверждает философ, имеют общие предпосылки и общую форму императива и ставятся в кантовской философии в качестве принципа действия, различаясь лишь отличными сферами императивности и различным способом действия. В этом, на взгляд А. Баратты, заключается принцип определения различия между моралью и правом.
Еще глубже данное различие рассматривает Дж. Пазини, автор труда «Правовое общество и государство у Канта». Он утверждает что для Канта «право в себе и для себя стремится лишь к равновесию воль» и даже «не имеет морального характера»[45]. Правда, Пазини не исключает, что право, по крайней мере с внешней точки зрения, не смогло бы утверждать порядок, и тем более всеобщий порядок, если бы не имело своей идеальной целью и свой предел в «моральном единстве». Для Пазини именно в этом видится слабость основания у Канта его разграничения морали и права. На самом деле, все действия, как моральные, так и правовые, могут быть типизированы, т. е. способны изменять тип целевого поступка с помощью норм и правил. Поэтому моральность и законность действия выражают не что иное, как их соответствие установленным практическим типам. Таким образом, определение поступков в морали и праве находится в связи с их внешней стороной, т. е. в их безразличности и единообразности.
Нормативный процесс, заявляет автор, отделяет действие от «развертывания субъективной воли», делает поступок объективным. Моральность же есть духовная активность, определяемая своей духовной Ценностью, поскольку «принцип оценивания всего есть человеческое действие: это – живая сила и созидательница всех новых ценностей в субъективной деятельности индивида»[46]. Законность есть также мораль, но распространенная в моральных законах и, следовательно, безличная и застывшая. Говоря о понятии «принуждения», Пазини утверждает, что «для Канта право – это синтез внешней свободы и разумного принуждения», юридический синтез действия и противодействия. Данный «синтез» исключает моральные условия. В таком смысле право действительно теряет всякий моральный характер, несмотря на то, что для данного автора элемент принуждения не является главным определяемым в понятии принуждения, являясь лишь «неким аспектом правового опыта», определяемым и обусловленным опытом.
Если для интерпретаторов данного направления принципиальным является выделение антитезиса между правом и моралью, основанного на различии между мотивами действия («внутреннего действия») и физическим аспектом действия («внешние действия»), а также принижение значения силового характера права, то, по мнению авторов, составляющих другое направление и признающих жесткое отличие в кантовской философии между названными сферами, основным критерием остается именно понятие принуждения в правовой системе, которое отсутствует в морали. Мышление свободно от природы, заявляют они, а право и возможность принуждения – это одна и та же вещь. Г. Соляри, автор труда «Наука и метафизика права в кантовской философии», один из радикальных сторонников данной концепции доказывает, что правовой порядок считается таковым, главным образом, как порядок принудительный. Принуждение не достигается Правом, не постулируемся внешней высшей властью, а происходит из той же природы права, которая есть сила, утверждающая непреклонность механических законов. По Соляри, Кант представляет систему права в качестве «системы всеобщего взаимного принуждения, а полном согласии со всякой свободой», ибо подготавливается и базируется на «законе равной свободы»[47].
Отсюда мы можем сделать вывод, что для Соляри правовой синтез сводится к существованию внешнего механического синтеза и не утверждается этическими условиями, потому что, если следовать мысли Канта, в правовом мире соответствие воль (произволов) закону есть нормативная обязанность и, следовательно, неотделимо от принуждения. Соляри энергично и прямо подчеркивает наличие у Канта связи между правом и принуждением: «Теория принуждения есть необходимое завершение кантовского понятия права»[48]. В своей категоричности Соляри доходит до прямого вывода: «Право и принуждение» для Канта есть эквивалентные и конвертируемые термины.
Отсюда логически вытекает, что для данного автора тезис о господстве морального закона не имеет силы. Соляри также отклоняет вывод, из которого следует, что правовой порядок устанавливает первую, еще несовершенную форму моральной жизни. Соляри убежден, что у Канта не было даже намерения устанавливать какое-либо отношение между моралью и правом, низводить правовые императивы к техническим нормам. «Мораль и право в соответствии с дуалистической тенденцией, которая знакома всему кантовскому творчеству, чужды друг другу, игнорируются взаимно, развиваются в замкнутых, и противоположных областях». В чем же заключается это различие? Судя по всему, по Соляри, моральная активность уходит своими корнями в «интимность» сознания, именно здесь она находит свои жизненные условия и возможность развития, в то время как правовая активность в кантовском понимании стремится абстрагироваться от какого-либо психологического субстрата поведения, понять людей как силу в отношениях действия и противодействия между ними. Принуждение не опирается на моральную силу, так как «в правовой жизни применяется внешняя эмпирическая свобода»[49].
Этот же тезис мы находим у другого автора, Ф. Баттальи, который, признавая за Соляри авторитетного систематизатора кантовской философии, в свою очередь делает акцент в большей степени на принуждение априори, т. е. на возможность принуждения. В своей работе «Экономика. Право. Мораль» Батталья пишет, что человек, следуя праву, действует вынужденно из априорного принуждения, которое определяет для всех субъектов и в абсолютной степени внешнюю свободу и субъективное право так, что не устраняет и не уменьшает свободу и право других.
Итак, Г. Соляри и Ф. Батталья разделяют в весьма категоричной форме два понятия на две независимые друг от друга сферы: одна (мораль) «принадлежит к сверхчувственному порядку, который не участвует в судьбах эмпирии», а другая (право), напротив, есть потребность разума, но в целях человеческого существования»[50], т. е. она должна развиваться в эмпирическом мире, давая при этом ему смысл и ценность. Однако элемент принуждения придает праву силовую характеристику и тем самым отграничивает от морали, в которой доминирует самоограничительная и саморегулирующая внутренняя сила индивида. Таким образом, мы познакомились с интерпретаторами данного рода, делающим «уклон» к выделению на первый план значимости и особой ценности правовых постулатов, освобождая их от какой бы то ни было зависимости от моральных ценностей. Две данные сферы при всем своем автономном существовании не создают факта их противоречия, часто находясь в совершенном согласии.
К указанному типу интерпретаторов можно отнести и высказывания известного кантоведа Н. Боббио. В работе «Право и государство в философии И. Канта» он подчеркивает, что различие между моралью и правом Кант соединяет с вопросом различения моральности и законности, как внешнего и внутреннего. По мнению Боббио, данное разделение было вызвано потребностью в ограничении светской власти. Продолжая традицию Ф. Аквинского, Кант тесно соединил правовую систему с понятием принуждения.
Из критерия отличия внутренней и внешней свободы рождается характеристика правового долга относиться к действию с ответственностью перед другими. Именно отсюда происходит право принуждать следовать долгу. В отличие от внутренней стороны морального долга, заключающейся в невозможности субъекта ему следовать, в правовом поступке субъект уступает принуждению и подобное действие совершается не ради долга, а по причине принуждения и, следовательно, не может называться моральным. Напротив, правовой долг не заставляет субъекта действовать ради долга, а лишь оценивает действие соответственно долгу. Подобный долг обязывает субъекта быть ответственным перед другими и порождает в других субъектах право принуждать, не исключая и существующей власти. Интересно отметить замечание Боббио о том, что в понятии принуждения нет жесткого, силового давления. Принуждение необходимо для исполнения юридического права, тем самым данный автор склоняется к уже известному нам выводу о «ведущей и благородной роли принуждения во имя всеобщего порядка»[51].
Но наше рассмотрение было бы односторонним, если ограничиваться уже упомянутыми течениями. Есть целый ряд исследователей данной проблемы, которые отстаивают противоположную точку зрения.
Еще в 1916 г. Г. Видари в коротком вступлении к первому изданию в Италии «Метафизики нравов» Канта писал: «…интересно видеть в качестве основателя современной философии и открывателя чистых принципов морали того, к кому любят вновь обращаться многие современные философы права, устанавливая таким образом и высвечивая близкую зависимость правовой концепции н, следовательно, также теории государства от высших принципов чистой морали»[52].
Исследователи К. Горетти, Л. Мартинетти, А. Поджи, Б. Бариллари, Г. Лумия и др. утверждают, что теория И. Канта «устанавливает фундаментальные положения относительно нераздельности права и морали». Опыты же тех, кто отрицает данный вывод, они объявляют «софистскими изобретательствами парадоксальных искателей истины»[53].
Право призвано создать промежуточную границу в реализации высшей степени моральной жизни. Законность есть первая фаза моральной жизни, это есть первое средство, которое готовит возможные условия для осуществления системы моральной жизни. Принуждение не является, на их взгляд, силой, рождающейся в эмпирическом мире в качестве исторического продукта, напротив, вместе с правом принуждение как продукт разума дает форму, регулирует и упорядочивает мир эмпирии, направляя его к конечной моральной цели. Действительно, закон желателен индивиду-законодателю, который, создав закон, обязан ему повиноваться как подданный. В такой момент закон превращается в принуждение в чувственном бытии.
Данная мысль любопытна своего рода диалектическим подходом к осмыслению двоякой сущности права. Право, с одной стороны, влияет на историческое развитие, на эволюцию в социальной области в качестве преодоления чувственной природы человека. С другой стороны, право пытается реализовать высшую этическую целеустремленность. В первом случае право выступает как принуждение, в последнем – устанавливает в бытии этически более совершенные условия для моральной жизни. Именно отсюда мы можем сделать вывод: в этом направлении отстаивается морально-правовое соответствие.
Понятие принуждения также интерпретируется данными авторами с позиции моральной значимости. Принуждение есть «отражение» (реверберация) категорического императива, естественное проявление духовного принципа, который ставит философии задачу точно выразить право. Между правовой обязанностью и моральной максимой не имеется никакого чистого разделения, ибо они обе происходят из формального принципа категорического императива разума. «Общий этический долг есть подлинная связь, которая соединяет теорию добродетели и права: он возвращает возможную идею принуждения в право, так как право происходит из морального закона как общего закона свободы, который направляется в качестве категорического императива к свободной воли, разделенный на моральный и правовой императивы»[54].
Мыслители, чьи взгляды рассматриваются в настоящей главе, продолжают традицию, положенную в итальянском кантоведении еще в начале века. Так, в 1925 г. в свет вышла «Кантовская антология» Л. Мартанетто, в которой приводится вывод: «Право, рассматриваемое в его идеальном совершенстве, т. е. в его совершенной природе, как средство моральной жизни, есть установление возможно лучших внешних условий для реализации внутренней моральной жизни: следовательно, царство внешней свободы учитывает царство внутренней свободы»[55]. Итак, представляется интересной оценка права в его отношении с моральными постулатами, ведь, исходя из сказанного, можно, вывести принцип согласования внешних условий с внутренними потребностями, т. е. принцип возможной внешней максимальной свободы, учитывающий возможность внутренней свободы.
Интересно в данном контексте своеобразное положение известного аспекта кантовской философии об автономности и гетерономности в морали и праве, представленное в рассуждениях Г. Лумиа, автора работы «Кантовская теория права и государства». Он не соглашается с жестким разделением: «мораль-автономна», «право-гетерономно». Следовательно, моральные действия подчиняются автономному моральному (категорическому) императиву, а правовые действия следуют гипотетическому императиву. По убеждению Лумиа, исходя на кантовского мышления, можно и нужно вывести следующее: как известно. Кант доказывал, что право гражданина в государстве допускает право не повиноваться закону, в котором гражданину не допускается иметь права быть созаконодателем. Человек должен выступать созаконодателем в праве и самозаконодателем в морали.
Следовательно, принцип автономии должен господствовать с одинаковой силой в обеих сферах разума. И право и мораль имеют свое основание в ноуменальной природе человека. Праву доверена защита человеческой личности в ее феноменальных проявлениях. Цель права заключается в сохранении освобожденной моральной свободы от всякого воздействия чужих произволов, согласовываться с такой свободой и принимать ее этические ценности. Закон свободы, по Лумиа, есть предпосылка морали и одновременно основание для прав. Отсюда человек имеет право быть принятым как цель и не быть используемым в качестве простого средства чужих воль (вторая формулировка категорического императива). Право, которое опирается на этическое требование уважения личности, далеко от противоречия с моралью, отмечает Лумиа. Говоря же о принуждении, Лумиа делает акцент на субъективную сторону элемента права, называя его «самопринуждением», поскольку оно направлено «против животной, вредной природы человека и согласуется с рациональной природой». Поэтому даже наказание преступления не способно нарушить принцип свободы личности, заключает Г. Лумиа[56].
Последним в ряду приверженцев морально-правового единства назовем Е. Ламанна, автора «Опытов о моральной и политической мысли И. Канта». Ламанна не склонен видеть в принудительной силе права его коренные основания, напрямую высказывая свое мнение по поводу тесного взаимодействия двух практических сфер: «Благодаря этой связи права с моралью, или, лучше сказать, этой идентификации права с некоторой частью морали, признается существование норм права, которые имеют всеобщую ценность», и белее того, «идея права, содержащая идеальную цель государства, есть моральный идеал и не имеет для нас значения разграничения права и морали у Канта»[57].


