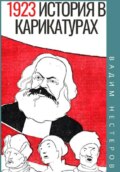Вадим Нестеров
Московиты. Книга первая
Все очень быстро убедились, что цепкости москвичей позавидует любой скупердяй. Великого княжества они из рук больше не выпускали. Утвердились настолько прочно, что татары, разумно опасавшиеся чрезмерного усиления одного из русских князей, скоро вывели из под контроля москвичей изрядный кус, образовав еще три великих княжества – Рязанское, Суздальское и Тверское, даровав тамошним князям право самостоятельно собирать и привозить в Орду «выход». Все равно москвичи остались в прибылях, хотя бы потому, что за ними всегда оставался «выход» Господина Великого Новгорода, а это огромные деньги.
Основная сила москвичей всегда была в преемственности. Этим заветам первых Даниловичей – жесткость, цепкость, гибкость и бережливость, доходящая до скопидомства – оставались верны все их потомки. Верны настолько, что после Калиты московские князья, за исключением, пожалуй, Донского, почти неотличимы друг от друга. Предоставим опять слово Василию Осиповичу: «Прежде всего московские Даниловичи отличаются замечательно устойчивой посредственностью – не выше и не ниже среднего уровня. Племя Всеволода Большое Гнездо вообще не блистало избытком выдающихся талантов, за исключением разве одного Александра Невского. Московские Даниловичи даже среди этого племени не шли в передовом ряду по личным качествам. Это князья без всякого блеска, без признаков как героического, так и нравственного величия[4]».
И дальше: «В чем же состояло это фамильное предание, эта наследственная политика московских князей? Они хорошие хозяева-скопидомы по мелочам, понемногу. Недаром первый из них, добившийся успеха в невзрачной с нравственной стороны борьбе, перешел в память потомства с прозванием Калиты, денежного кошеля. Готовясь предстать пред престолом всевышнего судии и диктуя дьяку духовную грамоту, как эти князья внимательны ко всем подробностям своего хозяйства, как хорошо помнят всякую мелочь в нем! Не забудут ни шубки, ни стадца, ни пояса золотого, ни коробки сердоликовой, все запишут, всему найдут место и наследника. Сберечь отцовское стяжание и прибавить к нему что-нибудь новое, новую шубку построить, новое сельцо прикупить – вот на что, по-видимому, были обращены их правительственные помыслы, как они обнаруживаются в их духовных грамотах[5]».
Именно это и позволяло им в те нелегкие времена, когда все русские княжества едва сводили концы с концами, потихоньку-полегоньку расширять свои границы, увеличивать свои владения и сделать свое княжество одним из крупнейших. Но для этого одного скопидомства и следования отцовским заветам все-таки было недостаточно. Не устоишь на одном этом в те времена, когда шаталось все и вся.
Была у московских князей еще одна фамильная особенность.
Все российские князья знали – московский стол всегда стоит монолитом. Не было тогда на Руси более спаянной семьи, чем московская, все они непоколебимо держались завета отцов: «жити за один». В течение пяти поколений и при семи князьях Московское княжество оставалось, наверное, единственным в «монгольской» Руси, не знавшим междоусобиц. Цапались все – и тверичи, и рязанцы, и нижегородцы. Но «данилычи» никогда не вставали друг на друга. Худо, бедно, со скрипом и сдерживаемыми ругательствами – но договаривались.
И вот теперь, после смерти Василия Дмитриевича, «московские» впервые вплотную подошли к порогу, за которым – смута.
_______________
[1]Цит. по Иловайский Д.И. История России. Т.2, М.: 1896, С. 18
[2]Симеоновская летопись. (ПСРР Т. 18) М.: Знак. 2007. С.90.
[3]Ключевский В.О. Сочинения. В 9 т. Т.2. М.: Мысль, 1987. С. 14
[4]Ключевский В.О. Сочинения. В 9 т. Т.2. М.: Мысль, 1987. С. 47
[5]Ключевский В.О. Сочинения. В 9 т. Т.2. М.: Мысль, 1987. С. 49.
Глава седьмая, напоминающая о камешке, срывающем лавину
Эпоха умирает долго. Нет, закончиться она может в один миг, и нам ли, уроженцам страны Атлантиды, этого не знать? Несколько августовских дней, несколько месяцев на исходе тысячелетия, и все разом посыпалось. Сложилось, как карточный домик. Падая, верхние перекрытия ломали нижние, здание погребало самое себя, и куда там остановить – заметить никто ничего не успел. И все. Не то что страна – весь мир стал другим.
Не страна – эпоха кончилась. И лишь мы, бывшие атланты, разметанные бурей по разным берегам, смотрим иногда на море, сомкнувшееся над нашим прежним миром, и лучше всех понимаем, что прав был лохматый старик, чьи фотографии с высунутым языком так любили вешать над рабочим местом представители почти вымершего племени ИТР-овцев. Все относительно в этом мире. Жизнь человеческая – смешная секунда в сравнении с протяженностью эпохи, но иногда может оказаться длиннее ее. «Ну разве не хорош анекдотец?», говаривал в таких случаях старина Швейк.
Пережившие эпоху, любящие или ненавидящие ушедший мир – все мы донашиваем его внутри, примеряя к себе чудное определение «наследие старого режима». Или она доживает в нас. Так или иначе – эпоха закончилась быстрее, чем закончились мы.
Эпоха заканчивается быстро, но умирает медленно. Все вокруг по-прежнему, сегодня вроде все так же, как вчера, и кажется, что ничего не происходит. Но на самом деле где-то там, глубоко внизу, что-то дрогнуло. И от этого ничтожного толчка, качнувшись, тронулись с места глубинные пласты и сначала еле заметно, потом все быстрее и быстрее двинулись навстречу друг другу. Они скользят, наращивая скорость, что бы однажды встретиться и, столкнувшись, вздыбиться разломом. Старый мир уже обречен, но пока еще не подозревает об этом – эпохи умирают медленно и незаметно. И лишь самые… Даже не самые умные, а самые чуткие люди не разумом, а кожей ощущают – что-то не так. Что-то меняется. Задолго до смерти появляются знаки ее, высыпают, словно сыпь на теле. Так, чепуха какая-то, все не всерьез, все по мелочи, но изменения эти – неотвратимы и неотменимы. Тем и навевают чутким жуть.
Потому что мелкие изменения эти, еще вчера немыслимые, а сегодня вроде как и ничего, будь то расплодившиеся анекдоты про Ленина или изменение порядка наследования в одном мало кому известном северном княжестве – это маркер, которым судьба метит выбракованное. Это печать, тавро, штамп, до срока оттиснутый в уголочке на миропорядке: «Заменить».
Догадывался ли Юрий Звенигородский, что мир вокруг него вскоре качнется, затрещит по швам и рухнет? Что именно ему, ничем особо не примечательному человеку, одному из десятков удельных князей заштатного улуса великой империи, суждено стать одним из тех камешков, что, покатившись, сорвут лавину? И что понесется она, подминая города и царства, и рухнут тысячелетние империи, и встанут на их место новые, и докатится эта лавина до совсем уж неведомых государств, о существовании которых князь и не подозревал никогда? Очень похоже, что чуял – слишком уж неохотно, едва ли не через силу превозмогая себя, делал он то, что назначил ему фатум.
О чем он думал той зимней февральской ночью 1425 года, когда в Москве помирал брат его Васька, отписав, как ему наверняка донесли доброхоты, великокняжеский стол в обход брата своему малолетнему сынку? Попробуем представить эту сцену.
Думал, наверное, о своем – в масштабах истории сиюминутном, но для его конкретной человеческой жизни очень насущном. О том, что ночи этой он ждал длинные годы. О том, что пока он ждал, жизнь, как ни крути, почти прошла – ему уже полвека, и пусть в седле он еще сидит как влитой, но ночью изношенное тело ноет, гоня сон и напоминая о годах. О том, что он, наверное, мог бы стать неплохим великим князем – слава богу, и бою, и труду жизнь его обучила. И наверняка в сотый раз, до исступления катал в голове один вопрос – как же поступить.
Катал – и не находил ответа.
Пацан-то, конечно тьфу – плюнуть и растереть, но вот те, кто за ним стоят, власть добром не отдадут. И бояре московские, морды сытые, просто так нагретое задницей место в кремлевских палатах не уступят – понимают, что новый хозяин своих бояр приведет, тесниться толстомордым придется. Силу сейчас московское боярство взяло, крепко сидит – не сковырнешь! И Софья, жена братова, литвинка бешенная, в сторону не отступит – за своего последыша ненаглядного зубами горло перервет; сдохнет, но не уступит – не тот у нее норов, вся в батюшку. А уж батюшка ее, Витовт Литовский… Костью в горле стоит. Супротив него он, Юрий, что комар летний – Витовт его прихлопнет, не заметив. Одна надежа – зажился старик на свете сверх всякой меры, восьмой десяток уже доживает, в любой момент Господь его прибрать может. Свидригайло, друг сердешный, уж который год ждет того, не дождется…
Так, с этими понятно. А за него, ежли что, кто станет? Ну да, сыновья, понятно. Трое их у него, молодцы один к одному – но ведь тоже пацаны еще. Даже старший, Васенька, и тот в возраст еще не вошел. Братья? Вроде как они здесь никак не в стороне, ведь пацана на стол сажая, не только его – и их обносят! Но на братьев надежа плохая. Андрея и Петьку Василий давно под себя подмял, они ему уж сколько лет в рот заглядывают, слово поперек не молвят. И против воли его последней не пойдут, чую, не пойдут – характера не хватит. Костя, младший? Тот да, тот может взбрыкнуть, но толку от того, если честно? У него и удел-то – двумя лаптями покроешь, и народу – раз, два, а третьим себя считать придется.
Кто еще? Татары? В Орду идти, правду у царя искать? Ну, тут не угадаешь, тут уж как зернь ляжет. Есть у звенигордского князя там людишки, что перед царем слово за Юрия Звенигородского молвят, что таить – есть, обзавелся приятелями за столько-то лет. И не простые людишки, да. И на бакшиш деньги найду, тут уж скупиться не стану. Но ведь и у москвичей серебра хватит, и знакомцы найдутся, которые хану Махмету на ухо пошептать не откажут, а вот которых шептунов он послушает – про то лишь Господь ведает.
Так может и впрямь – отступиться? Зачем на рожон грудью лезть, все одно ж в перекладину упрешься, мне ль не знать – сам сколько медведей на рожно поднял[1].
Так ведь не чужое прошу – свое требую! Мой стол великокняжеский, по всему – мой, по любой правде – мой. Специально у знающих людей спрашивал – отродясь такого не бывало, чтобы в открытую через братьев сыну обносить. Чтобы через голову прыгали, что греха таить – было. И Михаил Ярославич Московский против дяди Святослава на стол садился, и Андрей Александрович Городецкий против старшего брата, Димитрия переяславского шел, и Юрий Московский старшего в роде Михаила Тверского обходил; но ведь все это супротив правды было, против порядка вещей случалось! Прав-то обиженных никто не отрицал, там силой брали!
Да, и батюшка даже, Димитрий Донской, брату Ваське-то завещал старшие столы, и московский и владимирский, мимо двоюродного брата. Но так тот был все-таки, во-первых, брат двоюродный, во-вторых, не мог занять стола по отчине, отец-то его не был никогда великим князем. Потому и сам на то согласился, сам и признал племянника старшим братом.
И мне признать? Но я-то, слава богу, родный, и батюшка наш на столе владимирском тридцать лет отсидел. Да и кого братом старшим признавать?! Дите несмышленое? Нет уж, брат старший у меня один, который сейчас то ли есть, то ли уже был. Тридцать шесть лет я под ним жил, тридцать шесть лет стола ждал. И честно ждал, ни у кого язык на лжу не повернется, что я брату поперечился, или того паче – изводил его. И теперь эти тридцать шесть лет пацану отдать с поклоном?
Ну ладно, ладно, пусть его, что дитя. Батюшка вон тоже малолетним на стол сел, а какой князь получился! Но ведь Васька этот – не батюшка, уж мне ли не знать, в Звенигороде живя, у Москвы под боком! Забаловали его, что мать, что отец. Дыхнуть на него лишний раз боялись, ни с детьми ему поиграть, ни с гор снежных покататься – только кутали да тетешили. Вот и вырос капризным, крикливым, да и крик-то не от силы внутри играющей идет, а от слабости, от боязни. Какой из него князь будет?
Так кто же для земель русских лучше будет – он или я?
Кто будет?
Он?
Или я?
***
Так или примерно так метался мыслью удельный князь звенигородский и галицкий Юрий последней ночью морозного февраля 1425 года. Ближе к утру в Звенигород на взмыленной лошади прискакал посланец от митрополита Фотия. Он сообщил, что нынешней ночью великий князь Василий Дмитриевич скончался, а князя Юрия Дмитриевича митрополит зовет в Москву.
Вот тут-то все и сошлось воедино – смерть брата, приглашение к великокняжескому двору, смысл которого поймет и последний дурень, и необходимость решить наконец этот проклятый вопрос, который вот уже сколько ночей мучил его как больной зуб. Решить прямо здесь и сейчас.
Признать племянника или отказаться? Отказаться от своих прав, которые по старине были совершенно бесспорны, без всякой зацепки, которая давала бы племяннику хоть малейший предлог оспорить наследование? Если поехать в Москву, то тем все и закончится – там у них логово, затем и зовут, чтобы не выпустить, пока не отступится. Отказаться признать посмертную волю брата? Но добром москвичи власть не дадут, значит, придется лить кровь своего семейства. Через что преступить – через отчинное право или через свято исполняемый завет предков не вставать друг на друга?
Ждал гонец. Ждали столпившиеся в дверях люди Юрия, сбежавшиеся со всего города – весть о смерти великого князя облетела Звенигород быстрым соколом. Никто даже не шушукался – все смотрели на князя, ставшего сегодня старшим в роду.
Наконец Юрий поднял голову, недобро зыркнул взглядом мимо гонца – на своих бояр:
– Ну что столпились? Коней седлайте!
Никто не пошевелился. Все ждали ответа на не заданный никем вопрос – куда?
– В Галич уйдем. Нечего здесь у Москвы на виду торчать, как прыщ на носу – добавил он устало.
И покатился камешек с горы…
___________________
[1]Устаревшее слово «рожно» или «рожон» означало заостренный кол, длинное копье, с которым ходили на медведя. А чтобы взятый на рожно медведь, самоубийственно насаживаясь на древко, не дотянулся перед смертью лапой до охотника, посредине древка рожна обычно делалась перекладина, останавливающая зверя.
Глава восьмая. О чудесах, изменяющих историю
Итак, Юрий поднял мятеж. Но это вовсе не означало, что уже назавтра московская и галицкая рати начали пластать друг друга сабельками. Маховик смуты раскручивался медленно…
Юрий, уведший свои войска на север, в Галич, прислал оттуда в Москву гонца со своим отказом признать племянника. Сразу же выяснилось, что самые худшие предположения Юрия оправдались – сторону малолетнего великого князя приняли все младшие братья бунтаря, не только Андрей и Петр, но и бунтовавший еще недавно Константин. И, что гораздо хуже, Софья, узнав о поступке деверя, тут же послала за помощью к отцу – великому князю Литовскому Витовту. Однако ни московский двор, ни тем более оказавшийся в незавидном положении Юрий не спешили – и тем, и другим надо было время, чтобы собрать силы. Век тогда был неторопливый, мир еще был большим, планета пока не съежилась до облетаемого за сутки шарика и обитавшие на ней люди передвигались медленно. Войско ни за два дня, ни даже за две недели собрать было невозможно, поэтому дядя с племянником условились о перемирии на четыре месяца – до Петрова дня, 29 июня.
Думается, вряд ли кто из высоких договаривающихся сторон всерьез отнесся к этим обещаниям. И в Москве, и в Галиче понимали, что при изначальном неравенстве сил промедление на руку только Юрию, который, пользуясь паузой, и без того уже «за тем же перемирием тое весны разосла по всей своеи отчин, по всех людеи своих[1]». Так и случилось – москвичи выступили так быстро, как только смогли. Уже весной 1425 года московская рать двинулась к Галичу. Командовать ею был поставлен самый младший из «дмитриевичей», Константин. Похоже, самого ненадежного из сторонников Василия II отправили делом доказывать свою лояльность – принцип «проверки на вшивость» остается неизменным во все времена.
Останься Юрий в Галиче, смута бы, возможно, закончилась не начавшись – слишком уж велики были силы москвичей. Однако опытный галичанин быстро показал, что старого лиса не так просто обложить, и ушел из Галича в Нижний Новгород. Как выяснилось, мятежник тоже времени зря не терял, и уже успел обзавестись союзниками. Дело в том, что еще несколько лет назад Нижний был равен Москве, по крайней мере формально – наряду с Московским, Тверским и Рязанским существовало и Великое княжество Нижегородское. Прекратило свое существование, став частью Московского княжества, оно только при старшем брате Юрия – Василии Первом.
Кроме того, Юрий был связан с нижегородцами и родственными узами – его мать, княгиня Евдокия Дмитриевна, была дочерью нижегородского князя Дмитрия Константиновича. В нижегородских землях до сих пор обретался многочисленный клан «дмитриевичей» – двоюродные братья и племянники Юрия. Эти безземельные княжата, как несложно догадаться, не питали к отнявшей их княжество Москве теплых чувств, и заручиться их поддержкой, посулив уделы, Юрию наверняка было несложно.
Константин с московским войском последовал за Юрием на Волгу, однако Юрий, не вступая в столкновения, довольно успешно бегал от брата, а затем, перебравшись за реку Суру, встал там лагерем. Константин с московским войском вышел на другой берег, и несколько дней братья стояли друг против друга, разделенные только полоской воды. Можно лишь предполагать, о чем думали оба – и нынешний бунтовщик, и бунтовщик вчерашний, вынужденный теперь доказывать свою лояльность в братоубийственной, в самом прямом смысле, сваре.
Обе стороны замерли, понимая, что переправа через реку сделает раскол в московской семье необратимым. Пролить первую кровь означало перейти некий рубеж, за которым возврата к многовековому московскому братству уже не будет. Возможно, будь на месте Константина кто-нибудь другой, история нашего государства была бы иной. Но младший брат, сам лишь недавно вернувшийся из изгнания, слишком хорошо понимал старшего. Ровно как и наоборот. Да, Юрий не мог не сердиться на младшего брата за его присягу племяннику, которую он наверняка счел предательством. И Константин прекрасно понимал, что, поклявшись в верности малолетнему Василию, путь-дорожку назад он себе отрезал, а его карьера при новом дворе будет ой как зависеть от результатов этого похода. Но для того, чтобы бросится друг на друга, этого все-таки мало. Не было еще в братьях настоящей злости для драки, той, что застит красным глаза и отключает разум. Поэтому два войска стояли и ждали – кто на что решится.
Первым не выдержал младший. Однажды утром Константин развернул полки и ушел обратно в Москву. Там он оправдывался, что де река разлилась и переправиться было никак невозможно, но и тогда все всё прекрасно поняли – «Константин радел не племяннику, а брату, и потому не хотел, как должно, преследовать Юрия[2]». Юрий же с дружиной вернулся в Галич и вновь отправил гонца в Москву, и вновь с предложением о перемирии – но теперь уже на год.
Москвичей, естественно, попытки Юрия затянуть «вялотекущее противостояние» никак не устраивали. Не добившись успеха военными методами, москвичи решили использовать дипломатию. Однако сразу возник вопрос – кому ехать? Братьев отправлять к галицкому затворнику было бессмысленно, да и рискованно, о самом князе и речи не шло. Подались к традиционным посредникам – церкви, благо главный пастырь всех православных русских, митрополит Фотий жил здесь же, в Москве.
Фотий, как вы помните, в событиях активно участвовал с самого начала (именно он после смерти Василия I прислал к Юрию боярина с наказом явиться в Москву), поэтому чиниться не стал и поехал в Галич – русская православная церковь, собственно, никогда мирских дел не чуралась и контакта с правителями не порывала. Юрий, естественно, о визите был осведомлен заранее, поэтому, гордый недавно одержанной полупобедой, решил подготовиться к визиту и произвести на владыку впечатление.
О психологической подготовке переговоров люди прекрасно знали и тогда, поэтому галицкий князь решил прежде всего доказать духовному пастырю, что перед ним отнюдь не строптивый изгой с горстью верных людей, а подлинный властитель с княжеским двором. На подъезде к городу Фотий увидел чудную картину – все склоны холма под галицкими стенами были усеяны толпами народа. Юрий собрал, похоже, всех верных ему людей. Однако пожилой грек тоже не первый год на свете жил, мощью князя не впечатлился, и рот от удивления не разинул. Разглядев за воинами, стоящими в первых рядах, пригнанных для массовки крестьян, он ехидно заметил своему визави: «сыну, не видах столико народа в овчих шерьстех[3]«, намекая на то, что крестьянская сермяга из овечьей шерсти при всех желании за латы не сойдет.
Надо ли удивляться, что после такого начала переговоры шли трудно, вернее сказать – не шли никак. Юрий не соглашался ни на какие предложения о заключении мира, требуя единственно перемирия. В конце концов, Фотий вспылил, и, рассердившись на строптивого князя, уехал из Галича, не благословив ни князя, ни город.
А дальше… Дальше случился один из тех эпизодов, что историю делают сказками. Сразу же после отъезда митрополита в Галиче вспыхнула эпидемия, причину которой и выяснять не стоило – и так всем понятно, что это гнев божий. Юрий в ужасе верхами, как простой гонец, поскакал в погоню за Фотием и, догнав владыку у села Пасынкова, плача каялся в своей гордыне и умолял вернуться. Фотий вернулся, отслужил молебен и эпидемия пошла на убыль. Благодарный князь пообещал митрополиту отправить в Москву послов на переговоры о заключении мира.
Сложно, конечно, судить сегодня – что там произошло на самом деле, тем более что летописи о событиях этих лет рассказывают нам весьма скупо и часто противоречат друг другу. Но, на мой взгляд, вряд ли разумно заниматься конспирологией и предполагать, вслед за некоторыми авторами, что Фотий, например, отчаявшись добиться результата, заслал своих людей пошуровать у галицких колодцев. Мор – это слишком страшно для тогдашних жителей Земли, и играть с этой страстью господней никто бы не решился и в более отчаянном положении.
Скорее всего, перед нами просто совпадение, случайность, произошедшая как нельзя кстати. Маловероятная – да. Но нам ли не знать, что история иногда выкидывает и не такие коленца.
Так или иначе, двое посланных Юрием бояр благополучно прибыли в Москву, и мир был заключен. Правда, говорить о безоговорочной капитуляции не приходится – Юрий не отказался от притязаний на престол в полной мере, он всего лишь пообещал, что «не будет искать великого княжения сам собою, но ханом». Проще говоря – оставил за собой право апелляции к высшей власти – кому хан даст ярлык, тот и будет великим князем.
После этого так и не разгоревшаяся на Руси смута затихла – на целых пять лет. Но и не угасла полностью – Юрий по прежнему осторожно сидел в Галиче, глаза не князю, ни братьям не мозолил, но и от планов своих не отказывался. Московское княжество, едва не сорвавшись в пропасть, в последний момент все-таки сохранило равновесие на самом краю.
Но и назад не отошло.
Да и, честно сказать, не до династических разборок было москвитам в те годы. Другая беда пришла. Страшная. Черная оспа.
Нам сегодняшним, неизвестно слишком многое. Мы, например, не знаем, что такое голод, хотя еще мои родители, пережившие детьми голод 1947 года, этот ужас помнят до сих пор. Точно так же нам сложно представить себе – что такое эпидемия, как живут люди, которых каждый день деловито-равнодушно прореживает мор.
Вот как описывает эту небывалую по масштабам эпидемию, гулявшую по Руси в 20-е годы XV века, наш первый историк Татищев: «В лето 6935 (1427 г.) мор бысть велик во всех городех русских по всем землям, и мерли прысчем. Кому умереть, ино прысч синь и в третей день умираше; а кому живу бытии, ино прысч черлен да долго лежит, дондеже выгнеет. И после того мору, как после потопа, толико лет не почати жити, но маловечнии, и худии, и счадушнии начаша бытии[4]«.
Мор, пришедший из Европы («а пришел от немец в Псков, а оттоле в Новъгород, такоже доиде и до Москвы[5]«) был первой известной эпидемией оспы в России. Она действительно «гуляла» по Руси несколько лет, то исчезая, то вновь возвращаясь. Оспа тогда парализовывала жизнь в целых государствах, и Русь не стала исключением. Этот мор действительно стал рубежным для страны и не зря Татищев сравнивает его с библейским потопом. Несколько лет день за днем люди молились о том, чтобы беда прошла мимо, а когда их надежды оказывались тщетны, оцепенев, всматривались в язвы – красные (черленые) или синие, жизнь или смерть?
Оставим пока наших героев, пережидающих смертную напасть, не будем их трогать. Вернемся к ним позже, хотя, заранее предупреждаю, многих недосчитаемся.
А нам сейчас самое время оглядеться вокруг Московского княжества, потому как события вскоре выйдут за его пределы…
_______________________
[1] Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. XXVI. Вологодско-Пермская летопись. М.; Л., 1959. С.183
[2]Соловьев С.М. Сочинения. Кн. II. Т. 2-3. М.: Мысль, 1988. С.382
[3]Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. XXVI. Вологодско-Пермская летопись. М.; Л., 1959. С.184
[4]Цит. по Борисов Н. С. Иван III. М.: Молодая гвардия, 2006. С.21
[5]Там же.