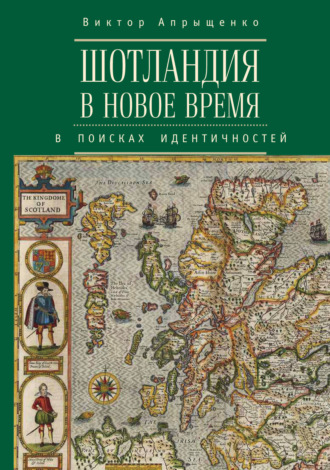
В. Ю. Апрыщенко
Шотландия в Новое время. В поисках идентичностей
Шотландцы впитывали и имперскую идеологию. В этом смысле они были обычной европейской страной. Такие авторы, как Роберт Льюис Стивенсон или Вайолет Джейкоб, акцентировали внимание на связях между имперской культурой и развитием колоний. Но народная культура адаптировала национализм не только посредством литературы, но и других источников, например, рассказов миссионеров, таких как шотландец Дэвид Ливингстон, который воспевал британский военный патриотизм, основанный на шотландском национализме, а также расистский миф о цивилизационном влиянии шотландской протестантской культуры на коренные народы.
Когда в 1920-е гг. в Шотландии стала возрождаться националистическая культура, лозунгом националистов было то, что на протяжении XIX в. Шотландия была подчинена Англии. В качестве аргумента приводился факт, что даже движение в защиту парламента всячески подавлялось, его просто не было. В действительности же все было наоборот – движение за возрождение шотландского парламента не получило развития из-за того, что шотландский средний класс был самодостаточен и обладал реальной автономией. Массы людей были устранены от механизмов реальной власти, но и в этом Шотландия была типичной европейской страной.
Была ли политическая система, созданная шотландцами, государством? Граница между государством и нацией – это еще одна проблема, связанная с изучением шотландской национальной идентичности. И этот вопрос в шотландской истории последних трех столетий также является одной из самых дискуссионных. Ответ на него не легок, как не просты и сами феномены нации и государства. Если подходить с точки зрения веберовского понимания государства как института насилия – то ответ должен быть отрицательным, в Шотландии такой структуры построено не было. Но в реальности государство гораздо более широкое понятие, нежели просто институт ведения войны с внешним врагом или принуждение оппозиции внутренней. Шотландия имела свое локальное государство, и его правящие структуры обладали властью символической, но той, которой местное население готово было подчиняться. Кроме того, шотландцы верили в единство британского народа. Будучи либералами, они желали свободной торговли, свободного выражения мыслей и протестантской гегемонии, а также очень хорошо понимали, что Британия может их всем этим обеспечить. Они верили, что быть с Англией, значит победить. Все это обеспечивало их лояльность Британии.
Таким образом, среди множества границ в шотландской истории Нового времени наименее значительной является та, что пролегла между Каледонией и Англией. Воскрешаемая многими поколениями борцов за политическую независимость, граница между двумя частями единого королевства определялась вдоль разломов, проходивших по отдельным вопросам – будь то противостояние пресвитерианской и епископальной церковной организации или вопрос об особенностях правовой системы. Хотя многие из таких характерных черт легли в основу шотландскости – того типа национальной идентичности, который акцентировал внимание скорее на различиях, чем на сходствах, эти особенности не сформировали противоположных идентичностей. В шотландской истории Нового времени всегда было то, что способствовало преодолению этих внутренних границ шотландского прошлого. Они, как правило исчезали, когда речь заходила о положении Шотландии в рамках Британии, игравшей двойственную роль в истории древней Каледонии. С одной стороны, оппозиция англицизации объединяла шотландцев, расколотых различными противостояниями, а, с другой, сама Британская империя была средством интеграции шотландцев, предоставляя им многочисленные возможности.
Неоднозначный характер шотландского самосознания, вероятно, ставит перед исследователем проблему операционного характера национальной идентичности, конфигурируемой в ответ на определенные и конкретные вызовы. Использование этой категории способно принести новые аналитические приемы в изучение многих исторических явлений, в том числе и концептов «нация» и «национализм», в первую очередь потому, что идентичность, будучи комплексным понятием, интегрирует различные отношения «Я» к окружающему миру, столь быстро менявшемуся в XVI–XIX вв., и определяется их связанностью и известной степенью соотнесенности.
Думается, что одним из ценных открытий исследований идентичности стало введение категорий «кризис идентичности» и «смешение идентичности», которые впервые были использованы в годы Второй мировой войны в психиатрической клинике реабилитации ветеранов на горе Сион, а уже вскоре получили широкое применение и в медицинской практике, и в области изучения социальной психологии. Сам термин «кризис» в области исторического сознания не представляет собой ничего специфического или особенного. Напротив, по мнению Й. Рюзена, он «конституирует историческое сознание, поэтому можно сказать, что без кризиса – нет исторического сознания». Кризис – это особое состояние, связанное с переживанием времени и прошлого, посредством которого реализуется современная идентичность. Однако это переживание прошлого обостряется, как правило, в связи с каким-то событием, противоречащим традиционной исторической идентичности. Событие, или, употребляя категорию Й. Рюзена, случайность, лежит в основе кризиса идентичности. С этой точки зрения, например, англо-шотландская уния 1707 г. была таким событием, которое легло в основу кризиса идентичности. Шотландцам, идентичность которых основывалась на осознании величия своего прошлого, завоеванного в битвах с англичанами, крайне не легко было смириться с потерей независимого парламента.
Гуманитарии уже давно отошли от традиции рассматривать кризис как нечто фатальное и неизменно предшествующее гибели общественного организма. Скорее наоборот, кризис знаменует перерождение, переход в новое качество, а зачастую и обретение новой формы. В поисках выхода из кризиса, порожденного столкновением реальной действительности и исторического мифа, лежащего в основе всякой идентичности, общество создает некий новый нарратив, целью которого становится изменение исторического сознания. Такой текст, будучи средством преодоления кризиса и придания определенной целостности неким событиям прошлого и настоящего, в первую очередь апеллировал к этому прошлому, стремясь объяснить его, исходя из событий настоящего. В этом смысле зависимость настоящего от прошлого является столь же очевидной, как и зависимость прошлого от настоящего.
Особое значение изучение кризиса идентичности имеет для периода Нового времени, когда происходила ломка традиционных институтов общества и формирование новых связей. Соответственно этим процессам менялось сознание и трансформировалась историческая память, что, в свою очередь, приводило к разрушению идентификации с одними общественными группами и к формированию новых связей. Новое время – это еще и период зарождения наций и национализма.
Породив кризис идентичности, уния стала своеобразной ментальной границей между двумя Шотландиями, стимулировав одновременно и поиск новых объяснительных моделей прошлого. В этом процессе важно было то, что в результате англо-шотландской интеграции был начат процесс «собирания» шотландских идентичностей, социальных, институциональных, религиозных, культурных и других, складывавшихся в одну – национальную идентичность. Этот новый тип модерного самосознания формировался как модульная целостность, сконструированная вокруг идеи нации, основополагающими элементами которой в разных ситуациях объявлялись то клановый и рабочий эгалитаризм, то пресвитерианская религия вместе с особым способом изживания ведовства, то шотландская просветительская традиция, или повседневные практики.
* * *
Полагая национальную идентичность в качестве фрагментированной целостности, я постарался структурировать это исследование посредством тех элементов национального самосознания, которые сыграли в Новое время решающую роль в развитии Шотландии и составили неотъемлемую часть национальной идентичности Северной Британии. Каждый из изучаемых здесь элементов словно бы вынимался из истории и предъявлялся в случае необходимости отстоять свои национальные особенности и должен был свидетельствовать об особом пути развития. Однако, вместе с тем, эти сюжеты прошлого не содержали в себе воинственного противопоставления соседней Англии. Наоборот, они, став частью национальной традиции, должны были дополнить и укрепить британскость. Все это в равной степени относится к шотландским кланам и рабочему движению с их сильными эгалитаристскими корнями, и к экономическим проблемам и индустриальному процветанию, и к политическим расколам и коалициям, и к особенностям интеллектуального развития и повседневной жизни.
Шотландская история позднего Средневековья и раннего Нового времени теснейшим образом связана с клановыми структурами, истории которых посвящена первая глава книги. Несмотря на разные предположения относительно истоков шотландской клановой организации, очевидно, что они стали результатом того кризиса власти, который сложился на севере Британских островов на исходе Средневековья. И в этом смысле история шотландских кланов принадлежит Новому времени, даже несмотря на то, что их внутренняя организация содержит элементы патриархального строя. Осознавая спорность и неоднозначность отнесения истории шотландского XVI столетия в Новому времени, необходимо помнить и о том, что вплоть до XX века, и особенно в годы Наполеоновских войн XIX столетия и сражений Первой мировой войны, кланы из разных регионов Шотландии являлись олицетворением шотландского военного духа, составляя неотъемлемую часть британской идентичности.
Шотландская реформация, рассматриваемая во второй главе первого раздела книги, в такой же степени, что и клановая организация, стала символом прошлого Каледонии и перехода его в Новое время. Являясь в равной степени религиозным и политическим движением, реформация заложила основу пресвитерианской религии, на протяжении нескольких столетий рассматривающейся как специфическая черта шотландскости. Ставшая частью реформационного движения, политическая борьба, которой посвящена третья глава, не только составила важный этап шотландской истории, но и связана с такими символами прошлого Каледонии, как, например, Джеймс I. Более того, англо-шотландская уния 1603 г., объединившая короны двух частей Британии, стала началом длительного процесса формирования единого государства.
Несмотря на то, что в исследованиях по истории революции середины XVII в. Шотландии уделяется несравненно меньше внимания, чем Англии, что нашло выражение в самом названии «Английская революция», события на севере Британских островов, исследуемые в четвертой главе, были не менее значимы, чем собственно в Англии. Кромвелевское завоевание Шотландии осталось в памяти жителей Каледонии как попытка насильственной англизации и рассматривается как одна из трагических страниц шотландского прошлого. И в этом смысле то, что в отечественных учебниках истории до сих пор именуется английской революцией, было, конечно же, революцией британской.
Наконец, шотландская народная культура раннего Нового времени, интегрировашая традиционные верования и практики, но, вместе с тем, отразившая новые представления и религиозные культы, включая ведовские процессы, составила значимую часть шотландской национальной идентичности. Все эти идеи, представленные в пятой и шестой главах, словно бы отразили сложности и противоречия шотландской истории Нового времени с ее поиском внутренних и внешних границ, порой воздвигавшихся поверх уже исчезающих традиционных средневековых практик. Вместе с тем история Шотландии XVI и XVII столетий, включая события политической и религиозной борьбы, социальные и культурные процессы, выглядит как прелюдия к тем потрясениям, которые ожидали регион в веке восемнадцатом. Именно он, как никакой другой, остро поставил проблему конструирования национальной идентичности из элементов и символов, завещанных предшествующими эпохами.
Второй раздел книги посвящен XVIII веку. Будучи, пожалуй, самым драматическим и противоречивым столетием шотландской истории, он знаменовался подписанием англо-шотландской парламентской унии, которой посвящена первая глава раздела. Именно союз 1707 г. обусловил трансформацию идентичности, определившую не только шотландское прошлое периода Нового времени, но и новейшую историю Шотландии. Экономические и социальные процессы, в том числе миграция шотландцев, ставшая одним из условий и символов ее процветания в последующее столетие, рассматриваются во второй и третьей главах этой части книги. Стремление шотландцев объяснить природу унии в категориях разума и прогресса в значительной степени обусловили просветительское движение, символами которого стали Дэвид Юм и Адам Смит. Перед этими мыслителями стояла непростая задача объяснить, как гордая и независимая нация сделала такой неоднозначный выбор, заключив союз с Англией. Интеллектуальным и социальным аспектам шотландского Просвещения посвящена четвертая глава раздела. Наконец, как и в первом разделе, часть, посвященная XVIII столетию, заканчивается исследованием повседневной жизни шотландского общества, в которой нашли выражение наиболее характерные для Каледонии черты. При этом прослеживается, как в Шотландии формируются техники управления повседневной жизнью на уровне религиозных, правовых и политических практик и как в условиях утраты собственного парламента и активно развивающейся модернизации традиция трансформируется в инновацию.
Третий раздел монографии посвящен анализу становления индустриального общества в Шотландии. Уходя своими истоками еще в XVIII в., сложившиеся условия для развития промышленности способствовали тому, что регион стал одним из наиболее успешных в индустриальном плане регионов Европы и одновременно символом промышленного развития Великобритании. С имперскими успехами, исследуемыми в первой главе раздела, связано экономическое и социальное процветание Шотландии в XIX столетии. Успехи, достигнутые шотландцами в колониях, не только способствовали англо-шотландской интеграции, но и позволили сформировать идентичность, в которой шотландскость и британскость не противоречили друг другу и взаимно дополнялись. В самой Шотландии процесс становления индустриального общества выразился в массовом сгоне крестьян с земли и в формировании крупного землевладения, сопровождающемся соответствующими социальными изменениями – процесс, который исследуется во второй главе раздела. Наряду с экономической интеграцией, политическое развитие, изучаемое в третьей главе, способствовало формированию такой системы управления, в которой, несмотря на отсутствие основных политических легислатур, шотландцы создали институты власти, отчасти укорененные в традиции и позволявшие им решать основные вопросы развития и повседневной жизни. Как и во всей остальной Европе, становление промышленного общества сопровождалось социальным протестом. Особенности этого движения, нашедшие отражение в четвертой главе раздела, были связаны с тем, что борьба за социальную справедливость сопровождалась стремлением отстоять собственную национальную идентичность. Наконец, исследование повседневной жизни индустриальной эпохи, в которой отразились характерные черты шотландского общества, свидетельствует о том, что национальная идентичность вовсе не требует собственных политических институтов, а может выражаться в повседневных практиках и традициях.
История Шотландии Нового времени свидетельствует о том, что идея нации представляет богатую почву для мифотворчества и полна символов в силу того, что по своей природе национальная идентичность эмоциональна и экспрессивна и может выражаться во множестве метафор. Особую роль процесс мифо— и символо-творчества приобретает в Новое время, когда политические, геополитические и социокультурные процессы рождают или перерождают нации. Могущество символов на этом этапе объясняется тем, что в рамках мифо-символических комплексов они в равной степени имеют и когнитивную, и эмоциональную окраску, определяя место нации в окружающем политическом и культурном пространстве, ее врагов и друзей, прошлое и настоящее. В богатую конфликтами эпоху нацие-строительства, символы используются в противостоянии с теми группами, которые потенциально угрожают формирующейся нации, тем самым, разделяя на «своих» и «чужих» социокультурное пространство жизни национального коллектива, формируя его идентичность. Эта экстравертная направленность мифосимволического комплекса, ориентирующая нацию по горизонтали, сочетается с интровертной функцией, в которой национальная общность, используя временные категории, определяет себя по вертикали, формируя отношение настоящего с прошлым.
Важность национальных символов не только в том, что они фиксируют отношение людей к окружающему социокультурному пространству и отражают процесс конструирования идентичности, но и в том, что, будучи укорененными в мифе, они определяют выбор людей, и отношение нации к реальным процессам прошлого и настоящего формируется согласно той ассоциации, которую вызывает символ. Этот факт является основанием для политики в области символов, позволяет использовать само прошлое в качестве орудия отстаивания интересов.
Используя визуальную и нарративную природу символов, дискурс нации трансформировался из элитарных представлений и концепций в массовые идеи. В этом заключается еще одна функция национальных символов – посредством доступного языка знаков превратить элитарное в массовое, новое в традиционное, чужое в свое. И хотя символы, составляющие часть национального мифа, зачастую происходят именно из массовой культуры, необходимым условием их трансформации и обретения ими национального дискурса является интеллектуальная «редактура». Символы на время словно изымаются из массового использования и, пройдя процесс интеллектуальной обработки и адаптации, обретают новый смысл и значение.
Часто возвращение старых символов, которые неожиданно приобретают новый смысл, является следствием изменения самого контекста, из которого они были изъяты. Условия существования культуры, включая язык, ценности, институты, являются не просто важным составляющим жизни символов, но определяют значение собственного человеческого опыта. При этом взаимодействие языка, опыта и исторических изменений, по мнению Генриетты Л. Мур, является ядром, вокруг которого конструируется культура[8]. Очевидно, что соотношение этих же условий, включая персональный и общественный опыт, вырабатываемый интеллектуалами язык, и историческая динамика становятся решающими в наделении значением символов. В этом смысле, прошлое никогда не является просто историей, отражая, во-первых, тот контекст, в котором оно существует, а, во-вторых, всегда тесно связано с субъектом, к которому оно обращено. Особенно это важно, когда речь идет о динамичном и порой драматическом процессе нацие-строительства, в процессе которого трансформируется и общество, включая его представление о самом себе, о собственном прошлом и настоящем, и этнические мифы, легитимирующие новую нацию, и символы, посредством которого прошлое обретает новую целостность в коллективных представлениях нации.
Часть I
Шотландия на рубеже Средневековья и Нового Времени: от традиционного общества к обществу традиций
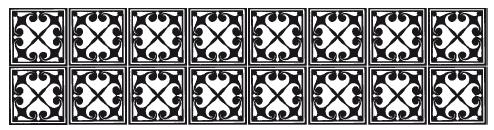
Глава 1
От кланового общества к национальному государству
«Каким ветром занесло нас к этим берегам? Доселе мы и не ведали, что такое нищета и лишения!»[9]. Эти слова французских рыцарей, высадившихся в Шотландии в 1385 г. для того, чтобы маршем отправиться на Англию, стали расхожим выражением для описания бедности, природных и социальных невзгод, которые испокон веков сопровождали жизнь шотландцев. Жан Фруассар, французский хронист, передает и чувства шотландцев, довольно неоднозначно воспринявших весть о подмоге с Континента, пришедшей для того, что одолеть англичан. «Какого дьявола им надобно? И кто только их звал? Неужто мы и без них с Англией не справимся? До сих пор какой был нам от них прок? Пусть плывут обратно, ибо народа в Шотландии достаточно, чтобы мы свои домашние распри уладили сами…»[10] – в этом заочном диалоге переплелись и представления самих шотландцев о себе, и образ этой дикой земли, возникающий в сознании чужеземцев, и противоречивые отношения с Францией.
* * *
И в Средние века, и в раннее Новое время Шотландия представляла собой маленькое и слишком бедное королевство, для того чтобы его положение хоть сколько-либо принималось в расчет политическими, экономическими и интеллектуальными элитами Европы. Экономический прорыв, который был совершен на севере Туманного Альбиона лишь во второй половине XVIII в., а также социальные процессы, связанные с этой трансформацией, отделяют Каледонию патриархальную от Шотландии индустриальной. Шотландская экономика, социальные и политические практики доиндустриального периода, скорее, сближают ее со скандинавскими государствами того времени, а также с Ирландией, чем с такими странами как Англия, Франция или даже Германия.
Одной из особенностей Шотландии являются ярко выраженные региональные отличия, подобные французским или итальянским, но гораздо более заметные ввиду малых размеров королевства. Можно с уверенностью сказать, что в стране с такой пересеченной местностью, какой является Шотландия, каждая долина обладает особым своеобразием – природным, культурным, порой языковым. Однако принципиальные различия сформировались между горными районами Шотландии и островами, с одной стороны, и равнинной Шотландией, с другой.
Разделение Шотландии на северную (горную) и южную (равнинную) имеет не только этническую или социокультурную, но географическую, в том числе и геологическую, основу. Северная Шотландия отделяется от южной цепью Грамплианских гор, порой прерываемых долинами – гленами, протянувшимися с северо-востока на запад. В рамках самого Хайленда не менее значимым представляется разделение на западный и восточный, тоже обусловленное и геологическими, и социокультурными условиями. Для ранних периодов истории такие естественные границы были чрезвычайно значимыми. Воин VI или VII века из горной Шотландии описывался своими современниками, как пришедший «из-за Банага» – так на гэльском языке называлась группа холмов на границе центральной и горной части Каледонии. А в VIII в. пиктский король был назван правителем «страны гор», что подтверждало особое положение Моррэя, откуда он происходил, по сравнению с другими частями Шотландии. В этой связи не приходится удивляться тому, что и политическое разделение часто следовало за географическим.
Еще одной из особенностей природного ландшафта Шотландии является огромное количество островов, расположенных, главным образом, у северо-западного ее побережья, некоторые из которых объединены в группы – Оркнейские, Гебридские, Шетландские. Всего их насчитывается 787, но обитаема лишь незначительная их часть. На островах также существовал особый социокультурный уклад, на протяжении веков поддерживаемый властью могущественных Лордов островов, правителей, стоявших во главе объединения, часто относимого к протогосударственным образованиям, просуществовавшим вплоть до конца XV столетия.
Одним из мифов, касающихся особенностей природно-географических условий Шотландии, является утверждение, будто бы она была сплошь покрыта лесами. Очевидно, что леса были истреблены здесь, в том числе и в горах, задолго до наступления средневековья в целях организации пастбищ. Деревьев хватало лишь на постройку жилищ, и уже средневековые описания страны свидетельствуют, что «лесов в Каледонии нет»[11]. В 80-е гг. XIX в. леса, населенные дикими оленями, составляли площадь два миллиона акров – десятую часть Шотландии. Расположенные, главным образом, в северных прибрежных районах, они стали даже фактором социального напряжения, поскольку из-за дефицита земель крестьяне требовали их вырубки, на что правительство никак не шло, поскольку разведение диких оленей сулило немалую прибыль при минимальных затратах труда. Если вплоть до XV в. на территории Хайленда лишь единицы домов были построены из камня, то в период XVI–XVII вв. количество каменных жилых строений увеличивается, и они становятся относительно постоянными местами обитания жителей гор. В прежние времена такое встречалось сравнительно редко, и жилища из торфяных блоков, покрытые вереском и приспособленные, главным образом, для нужд пастухов, имели временный характер. Вересковые пустоши, сегодня являющиеся одним из символов Шотландии, также, очевидно, стали продуктом относительно недавней человеческой деятельности и появились в течение последних 200–300 лет, а в средние века были характерной чертой пейзажа лишь в районе Чевиотского нагорья.
Распространенное мнение, что ландшафт северной Шотландии не менялся вплоть до периода модернизации XVIII–XIX вв., является далеко ошибочным. И хотя экономическая трансформация была более динамичной, чем изменения ландшафта, уже первые поселенцы, приспосабливая природу под свои потребности, обрабатывали землю, строили каменные сооружения, вырубали немногочисленные леса. Не говоря уже о том, что начиная с периода средних веков, а, возможно, и ранее, существовали торговые связи, в которые были втянуты и горцы, в частности, пикты, обладавшие большим флотом. Гильдас говорит, что «ужасные полчища скоттов и пиктов тут же высадились из своих курук, на которых плавали как через проливы, так и в далекие моря»[12]. Несомненно одно: трансформация ландшафта, происходившая в процессе осознанной деятельности шотландских горцев, имела своей целью поиск интенсивных форм хозяйственной деятельности, которые в довольно ограниченных условиях окружающей среды воплотились в своеобразный комплекс отраслей хозяйства.
И чем сложнее было приспособиться и выжить, тем более значимыми являлись эти преобразования для формирования идентичности народа, тем неотделимее процесс хозяйственной деятельности от процесса исторического восхождения народа к этапу национального развития. В этой связи освоение территории сравнимо по значимости с написанием истории народа, которая неотделима от земли, на которой он проживал. Здесь нам не раз еще придется возвращаться к теме неразрывности клановой истории и неотделимости самого понятия «клан» от территории, заселенной им, и изменений, происходящих на этой земле.
Природные отличия между шотландскими регионами усиливались и культурным разделением. На островах Шотландии вплоть до XVII в. существовала древнескандинавская правовая система, и использовался диалект, пришедший из Скандинавии, наиболее близкий норвежскому языку. Весьма значимым для Шотландии было разделение на гэлоязычных и скоттоговорящих, с одной стороны, и англоговорящих, с другой. Эта граница была не только языковой. Она определяла культурные, образовательные, религиозные и социальные отличия. Шотландия была гэллоговорящей страной в раннее Средневековье, однако к началу XVI в. гэльский язык сохранился лишь в Хайленде и отчасти на юго-западе королевства. Остальное население с XVI в. стало пользоваться шотландским в качестве основного языка, имевшим много общего с английским. Исчезновение гэльского языка было связано с временной миграцией и экономическими контактами Хайленда с Лоулендом и соответствовало процессу образования национального государства. И только в XVIII и XIX веках гэльский вновь войдет в моду, уже в другом социальном и культурном контексте, но будет выполнять важную функцию сохранения национальной идентичности в условиях англо-шотландской интеграции, становясь часто фактором политических столкновений. Связь языка, как одного из главных элементов идентичности, включая национальную, и политических процессов, вероятно, как нигде более видна в истории шотландского национализма. Под знаменами борьбы за возвращение гэльского языка в оборот выступали шотландские националисты XVIII столетия, и одержанная ими к концу следующего века победа означала то, что шотландская нация вновь обрела право на существование.
Данные о численности шотландского населения в период до появления статистики Вебстера, относящейся к 1755 г.[13], чрезвычайно фрагментарны. Тем не менее, не беспочвенными представляются данные о том, что между 1500 г. и концом XVI в. население Шотландии выросло с 500 до 700–800 тысяч, затем – до одного миллиона в 1700 г., и 1 600 тысяч ко времени первой официальной переписи в 1801 г.[14] Целый ряд фактов свидетельствует в пользу того, что с конца XVI в. и, особенно, в начале XVII в. рост ускорился, а стабилизация численности произошла во второй половине XVIII в. Это закрепление количества населения, очевидно, можно связать с тем, что довольно высокие естественные демографические показатели были уравновешены повышенной смертностью и вынужденной миграцией периода политических потрясений, что в целом соответствует европейской демографической тенденции того времени. Интересно и то, что показатели демографических процессов в Англии и в Шотландии редко совпадают, исключение составляет лишь, пожалуй, миграционная динамика, связанная с передвижением населения между Шотландией и Англией.
Структура типичного шотландского домохозяйства XVI и XVII вв. была похожа на состав аналогичных хозяйств в других странах северо-западной Европы и включала в среднем пять человек, с довольно незначительной динамикой в период 1500–1800 гг. В отличие от других стран Западной Европы здесь не наблюдалось процесса нуклеализации семьи и перехода от крупных семейных комплексов к мелким и индивидуальным. Исключение, пожалуй, составляет горная Шотландия, где средний размер семьи был несколько выше, а в XVIII в. наблюдается процесс сокращения ее средней численности.
Хотя шотландские источники по истории раннего Нового времени довольно фрагментарны и включают в себя в основном приходские записи, даже на их основании можно сделать вывод о том, что в этот период Шотландия испытала значительный демографический «перегрев», подобно тому, что наблюдался во Франции и Ирландии. Высокий уровень рождаемости совпал с повышенной смертностью, и это балансирование на грани голодного гомеостаза был свойственно для всего XVI и XVII столетий, а в Хайленде сохранялось еще и век спустя. Большая часть смертей была связана со смертностью от голода и гибелью от заболеваний, и эта тенденция сохранялась в Шотландии несколько дольше, чем в Англии, а ее преодоление совпадает по времени с аналогичными процессами в Швеции и корреспондируется с ростом уровня жизни XVIII века.


