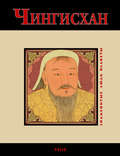Валентина Скляренко
Наполеоновские войны
От авторов
Сегодня имя Наполеона, говоря словами его лучшего биографа Альберта Манфреда, «ассоциируется с безмерным честолюбием, с деспотической властью, с жестокими и кровавыми войнами, с ненасытной жаждой завоеваний. Оно рождает в памяти ужасы Сарагосы, ограбление порабощенной Германии, вторжение в Россию. Но оно же напоминает о смелости и отваге, проявленных в сражениях при Монтенотте, Арколе, Лоди, о таланте, умевшем дерзать, о государственном деятеле, нанесшем сокрушительные удары старой, феодальной, рутинной Европе». Сам же император писал о своих деяниях так: «Моя жизнь чужда злодейства; не было за все мое правление ни одного действия, за которое я мог бы ответить на суде, говорю это без стыда, но даже с некоторой для себя честью… В жизни моей, конечно, найдутся ошибки, но Арколь, Риволи, пирамиды, Маренго, Аустерлиц, Йена, Фридланд – это гранит: зуб зависти с этим ничего не поделает». Заявление, конечно, не бесспорное: можно ли считать безгрешной жизнь человека, ставшего основной движущей силой более десяти войн, названных его именем и унесших множество человеческих жизней не только среди военных, но и гражданского населения на трех континентах?
Тем не менее, нельзя не признать полководческий гений Наполеона, благодаря которому он в течение двух десятилетий оказывал огромное влияние на ход политической и военной жизни в Европе. Считается, что лучшей характеристикой ему стали слова Стендаля: «Этот человек, наделенный необычайными способностями и опаснейшим честолюбием, самый изумительный по своей даровитости человек, живший со времен Юлия Цезаря, которого он, думается нам, превзошел. Он был скорее создан для того, чтобы стойко и величаво переносить несчастья, нежели для того, чтобы пребывать в благоденствии, не поддаваясь опьянению». Не менее метким было и определение А. Манфреда, который заметил: «Наполеон Бонапарт был сыном своего времени и запечатлел в своем образе черты своей эпохи».
Историки по сей день спорят о причинах возникновения наполеоновских войн, высказывая самые разные мнения. Одни считают их плодом непомерного честолюбия Наполеона, позволившего ему возвыситься от полководца до императора Франции, основателя новой царствующей династии. Из 52 лет своей жизни он более двадцати провел в военных походах, и за это время война, по сути, превратилась для него в образ жизни. В ней он мог не только в полной мере проявить присущий ему полководческий талант, но и, подчиняя своей воле огромное количество людей, по-настоящему ощутить вкус власти над ними, почувствовать себя избранником Судьбы и поверить в свою Звезду (эти слова Наполеон всегда писал с большой буквы). Вот как пишет об этом военный историк В. В. Бешанов в своей книге «Шестьдесят сражений Наполеона»: «За 22 года его долгой кровавой карьеры, от Тулона до Ватерлоо, он дал больше сражений, чем любой из… военных гениев, и в этих битвах участвовали огромные людские массы, гораздо большие, чем в войнах его предшественников. Он дошел до той грани, когда военными действиями (от распределения пищевых рационов до принятия стратегических и дипломатических решений) мог руководить один человек, и то лишь такой, как он». Другие исследователи усматривают в этих войнах лишь превентивный ответный удар с его стороны в отношении некоторых европейских держав, стремившихся низвергнуть «корсиканского выскочку». Но такое объяснение, на наш взгляд, носит слишком субъективный характер и вовсе не отражает суть тех процессов, которые происходили на европейской международной арене в конце XVIII – начале XIX столетия.
Предположения о том, что эти войны стали продолжением идеологической борьбы Французской революции со старым режимом или, может быть, следствием англо-французского экономического и торгового соперничества, гораздо больше соответствуют политическим и экономическим взаимоотношениям Франции и других стран Европы в тот период. Однако и с ними можно согласиться лишь отчасти. То, что идеологический момент (особенно со стороны Англии) в развязывании военных действий присутствовал, конечно, сомнений не вызывает, взять хотя бы, к примеру, лишь одно из высказываний тогдашнего британского премьер-министра У. Питта Младшего, который во всеуслышание объявил Наполеона «последним авантюристом в лотерее революции». Но экономическое превосходство Британии над Францией все же можно считать более весомым фактором.
По мнению же английского историка Чарлза Дж. Исдейла, тщательно исследовавшего все возможные причины возникновения наполеоновских войн, «утверждать, что без Наполеона первые 15 лет XIX века были бы периодом абсолютного мира», нельзя. Ведь, по его словам, «Франция вышла из революционного десятилетия с сильно увеличившейся за счет аннексии Бельгии, левого берега Рейна, Савойи и Ниццы территорией, располагая значительным влиянием за пределами новых границ, с армией, сильно выросшей в результате введения воинской повинности, сокращению которой мешала чрезвычайно опасная экономическая ситуация». Особый акцент Ч. Исдейл делает на том, что во Франции «образовалась мощная группа, интересы которой были связаны с войной. В центре ее стояли молодые, честолюбивые генералы, получившие в связи с военным положением по существу неограниченные преимущества, а по слабости Директории и необычайное влияние в Париже». Одним из таких успешных и честолюбивых генералов и был Наполеон, который, по словам Исдейла, если и «не хотел завоевать весь мир, но и не мог жить с ним на равных». После своего первого триумфального Итальянского похода 1796–1797 годов он через год возглавил новую военную экспедицию – самую экзотическую и экстравагантную из всех – в Египет.
Тайны египетского похода
Генерал в мантии академика
Декабрь 1797 года подвел черту под одним из первых этапов восхождения Наполеона Бонапарта на олимп воинской славы – победоносным Итальянским походом. 10 декабря 1797 года правительством Французской Республики в Люксембургском дворце был организован торжественный прием в честь его триумфального возвращения на родину после подписания мирного договора в Кампоформио, положившего конец пятилетней войне между Австрией и Французской Республикой.
В те дни молодого генерала называли не иначе как храбрецом и миротворцем. На улицах французской столицы его приветствовали несметные толпы народа, а во дворце пышными речами встретили пять членов Директории. Особенно усердствовал в восхвалении его заслуг Баррас, по словам очевидца, бросившийся даже «в объятия генерала, который вовсе не любил таких выходок и дал ему так называемое тогда братское лобызание». Многие влиятельные политики искали встречи с ним, но он не принял большинства приглашений, сделав исключение лишь для Шарля Мориса Талейрана, бывшего епископа Отенского. Такое поведение было продиктовано вовсе не гордыней или тщеславием. Несмотря на молодость генерал уже хорошо знал цену хвалебным речам политиков и понимал, что вскоре они закончатся, поскольку его возраст и нежелание Директории принять его в свои ряды закрывают ему путь к настоящей политической деятельности. «У Парижа нет памяти, – справедливо считал Наполеон. – Если я долго пробуду в бездействии, я пропал – здесь одна слава вытесняет другую.
Мне нельзя здесь оставаться».
Тем не менее, одно событие во время его короткого пребывания в столице стало для него весьма знаменательным, нашедшим впоследствии свое отражение как в организации египетской военной кампании, так и в последующем управлении завоеванными им восточными территориями. 25 декабря 1797 года Национальный институт – высшее научное учреждение Республики – избрал его в число своих академиков, так называемых «бессмертных». Значимость этого почетного звания усиливалась еще и тем, что он стал победителем в серьезной борьбе среди одиннадцати конкурентов, баллотировавшихся по тому же отделению физико-математических наук секции механики.
Надо заметить, что, будучи способным математиком, Наполеон всегда отдавал предпочтение точным наукам, которые, по его мнению, могли приносить быстрые и ощутимые практические результаты. Неслучайно мысль о том, что «военная наука и искусство состоят из всех наук и искусств», будет впоследствии даже зафиксирована в первой прокламации его правительства, обращенной к французской армии и народу Египта. И подпишет ее он не как генерал, а как «член Национальной академии»: этот титул был для него важнее воинского. По словам
А. Манфреда, автора одной из лучших монографий когда-либо написанных о нем, «из всех наград и отличий, выпавших на долю Наполеона, избрание в Институт доставило ему наибольшее удовольствие».
После избрания в Национальный институт генерал Бонапарт становится активным исследователем, хотя ведет себя подчеркнуто скромно. Он семнадцать раз присутствует на заседаниях этого учреждения, готовит доклады о различных научных открытиях и даже подготавливает сообщение о новой книге об использовании компасов в геометрии Лоренцо Маскерони, опубликованной в Италии. В своем замке Момбелло под Миланом Наполеон неоднократно встречается с итальянскими и французскими учеными и деятелями искусств, многие из которых впоследствии примут участие в его египетской экспедиции.
Но, несмотря на чрезвычайную восприимчивость Бонапарта к научным открытиям, как показала его военная практика, достаточного внимания прогрессу вооружений он почему-то не уделял. Известно, что генерал отказался от парохода, как способа высадки в Англии, от воздушных шаров от аэростатов-разведчиков и оптического телеграфа для связи, а под Ватерлоо использовал пушки, которые по сравнению с английскими были изделиями вчерашнего дня. Эту загадочную консервативность полководца не могут объяснить и поныне. По мнению французского историографа Жана Тюлара, Наполеон просто «не видел возможности применения научных открытий, доказав это во время египетской кампании». Так ли это, сказать трудно, поскольку условия, в которых проходила военная экспедиция в Египте, невозможно сравнить ни с какими другими. И то, что плохо для Востока, может быть приемлемо на Западе.
Но вернемся к 1798 году. Не привыкшего к бездействию молодого генерала беспокоили тревожные мысли. Время шло, общественный интерес к нему начинал ослабевать, а будущее оставалось туманным. Не вносило ясности и успокоения и назначение его главнокомандующим 120-тысячной Английской армией, состоявшееся еще за полтора месяца до его возвращения в Париж. Хотя сама мысль о десанте в Англию или, для начала, в Ирландию была, конечно, соблазнительной, но Наполеон отдавал себе отчет в огромной трудности такого предприятия. Поэтому, прежде чем приступать к его выполнению, он решил лично убедиться в готовности своей армии. Особенно его беспокоило состояние французского флота. Выехав инкогнито 8 февраля 1798 года на западное побережье страны, генерал самым тщательным образом изучил перспективы военных операций против Англии и пришел к неутешительным выводам: успех десанта ни в военно-морском, ни в финансовом отношении был не обеспечен. И тогда он сделал категорический вывод: «Это предприятие, где все зависит от удачи, от случая. Я не возьмусь в таких условиях рисковать судьбой прекрасной Франции».
Отказ генерала от высадки на Британские острова стал последней каплей, доведшей до высшей точки кипения его отношения с членами Директории. Один из них, Ребель, заявил, что Директория готова подписать заявление Бонапарта об отставке с поста командующего армией вторжения на Британские острова, если он подаст таковое. Казалось бы, все зашло в тупик. Но вскоре конфликт разрешился самым неожиданным образом. Оказалось, что Наполеон вовсе не собирается отказываться от планов овладения единственным непобежденным врагом Французской Республики, только удар по Англии он считает необходимым нанести вдали от Британских островов – в далеком Египте. Да-да, теперь он знает, где его ждет очередная победа: Египет и Институт – вот в чем он обретет новую точку опоры!
Бонапарту довольно легко удалось убедить Директорию дать ему флот и армию для египетской экспедиции. С одной стороны, по ряду экономических и военно-политических причин «директоры» сами видели в ней смысл и пользу. С другой стороны – предстоящая экспедиция являлась далекой и опасной, а это было им на руку: появилась возможность отослать надолго из Франции такого опасного для них человека, как Бонапарт, который уже «разучился повиноваться». Их устраивал любой исход операции: вернется с победой – и им хорошо, ведь это они его туда отправили, ну, а если не вернется – тоже неплохо. Так генерал невольно сам спровоцировал «друзей из Директории» на осуществление египетской авантюры.
От замысла к воплощению
Между тем замысел о нанесении удара по Англии в зоне Средиземноморья и Египта Наполеон вынашивал еще с лета 1797 года. Он был далеко не первым, кому пришла в голову эта идея. По словам Манфреда, «с того времени как Лейбниц подал Людовику XIV совет овладеть Египтом, идея эта на протяжении всего XVIII столетия не переставала занимать государственных деятелей и некоторых мыслителей Франции». Проанализировав все эти многочисленные проекты и планы, французский историк Франсуа Шарль-Ру утверждал, что «если инициатива египетской экспедиции должна быть разделена в неравной доле между Талейраном, Бонапартом и Директорией, то идея ее никак не может быть им приписана. Эта идея не родилась в законченном виде в человеческом мозгу, она была плодом длительного развития…» И имела она под собой прочную экономическую основу, поскольку усиление позиций Франции в Египте полностью отвечало задачам французской колониальной политики. Ведь захват Англией ряда французских колоний (Мартиники, Тобаго и др.) фактически привел к почти полному прекращению колониальной торговли. Поэтому Талейран видел в завоевании Египта возможное возмещение понесенных Францией потерь. Кроме того, не имея возможности нанести Англии прямой удар, можно было, захватив Египет, помешать британцам использовать дорогу в Индию через Суэцкий перешеек – и одновременно превратить Египет в базу для поддержки турецкого султана, номинального суверена страны. А упадок Османской империи, владевшей им, придавал вопросу о так называемом «турецком наследстве» особую остроту. Таким образом, грызня за овладение лакомой египетской костью становилась еще одним предметом спора в давнем соперничестве Англии и Франции.
В этих условиях, по мнению А. Манфреда, «в самой идее египетской экспедиции не было ничего ни загадочного, ни необычайного». Загадку историк усматривает в ином: «Труднообъяснимо другое: как мог Бонапарт, отказавшийся от вторжения на Британские острова ввиду неоспоримого превосходства Англии на море, пренебречь этим же превосходством противника при решении вопроса о десанте на юге Средиземноморского побережья? Ведь если успех вторжения в Ирландию или в иной район Великобритании зависел всецело от “удачи”, от “случая”, так как французский флот был много слабее английского, то при экспедиции в Египет, когда тихоходным французским кораблям пришлось бы преодолевать большее водное пространство, роль “удачи”, “случая” для успеха предприятия была не меньшей, она возрастала. Но в первом варианте Бонапарт считал, что при столь малых шансах он не вправе “рисковать судьбой Франции”, во втором, хотя шансы оставались столь же ничтожны, если не меньше, он решился на действия. Как это объяснить?»
Ответить на этот вопрос непросто. Большинство политиков и даже часть участников египетской экспедиции хорошо понимали ее крайнюю рискованность. Так, Мармон, участвующий в подготовке к походу, писал: «Все вероятности были против нас; в нашу пользу не было ни одного шанса из ста… Надо признаться, это значило вести сумасбродную игру, и даже успех не мог ее оправдать». А вот как оценивал то, что Бонапарт предпочел египетский вариант английскому, Талейран: «Это предприятие независимо от того, удалось бы оно или потерпело неудачу, должно было быть неизбежно непродолжительным, и по возвращении он не замедлил бы очутиться в том самом положении, которого хотел избегнуть».
А что же сам Наполеон? Неужели его полководческое чутье отказало ему и он решился на рискованную египетскую авантюру из честолюбия или амбициозности? Есть несколько суждений по этому поводу. Наиболее убедительные доводы, объясняющие мотивы, которыми руководствовался Бонапарт, выбирая Египет, приводит все тот же А. Манфред. Прежде всего, он напоминает о том, что тот «по своему темпераменту, по жизненной выучке, по пройденной им политической школе революции был человеком действия». Не найдя общего языка с членами Директории и оказавшись в политическом вакууме, он не мог сидеть сложа руки. Единственным достойным делом могла бы стать высадка десанта на Британские острова, но, изучив все возможности ее проведения, он отверг этот план. При этом генерал руководствовался не тем, что операция была бы слишком кратковременной и безуспешной, а тем, что поражение в битве против Англии видела бы вся Европа. Именно это могло, по мнению Наполеона, иметь катастрофические последствия как для Французской Республики, так и для него самого. По сравнению с этим, пишет Манфред, «Египет, Восток – это все-таки была мировая периферия; что бы здесь ни случилось, это не будет иметь таких катастрофических последствий, как поражение в битве один на один против Англии».
К тому же Наполеон давно вынашивал мечту о походе на Восток. Как писал Мармон, Египет был его любимым детищем еще со времени Итальянской кампании. С ним он связывал поистине необозримые планы: надежду поднять греков на освободительную войну, вступление в сговор с индийскими племенами, которые должны были стать его союзниками против англичан, покорение Индии, а может, затем и Константинополя. В частности он говорил: «…господствуя в Египте, Франция господствовала бы и в Индостане». По мнению Наполеона, такое господство было бы благом и для местных жителей: «…несколько больших наций были бы призваны насладиться благами искусств, наук, религии истинного бога, ибо именно через Египет к народам Центральной Африки должны прийти свет и счастье!!!» Отправляясь в поход, Бонапарт определил и более конкретные планы и задачи предстоящей кампании: разрушить влияние Англии в Египте, прорыть Суэцкий перешеек и «освободить» африканцев от «тирании» мамелюков.
Так или иначе, но в Египетском походе было где развернуться честолюбивым помыслам и фантазиям Бонапарта! Недаром он сказал как-то одному из своих сподвижников, Бурьенну: «Европа – это кротовая нора! Здесь никогда не было таких великих владений и великих революций, как на Востоке, где живут шестьсот миллионов людей». Как справедливо заметил Манфред, «ради такого огромного, баснословного, фантастического выигрыша, рисовавшегося его воображению, – подняться выше Александра Великого! – он пошел на безмерный риск».
Но, отдавая себе отчет в грозящей им опасности в восточной операции, Наполеон принял необходимые меры для снижения ее риска. Вся подготовка к походу была строго засекречена. Никто, кроме самого узкого круга лиц, не знал о том, куда и зачем отправится экспедиция. Газеты в Европе намеренно распространяли о ней самые противоречивые сведения, в частности писали о том, что, пройдя Гибралтар, французские корабли повернут на запад. Дезинформация сработала: адмирал Нельсон сторожил французский флот у Гибралтара, в то время как тот отправился из тулонской гавани прямо на восток. Была предпринята и попытка отвлекающего маневра: после выхода флотилии из Тулона отряды под командованием генерала Эмбера высадили десант в Ирландии. А дипломатам лишь оставалось убедить турецкого султана в том, что французская экспедиция только укрепит авторитет Блистательной Порты.
Особое внимание уделялось отбору армейских подразделений, которые будут участвовать в походе. Вот что пишет об этом А. Манфред: «Тридцать восемь тысяч отборных солдат – каждый проверялся, артиллерия, снаряды, лошади, продовольствие, книги на сотнях транспортных судов двигались на восток, охраняемые конвойными кораблями. Лучшие генералы Республики, цвет французской армии – Клебер, Дезе, Бертье, Ланн, Мюрат, Бессьер, – ближайшие сподвижники Бонапарта – Жюно, Мармон, Дюрок, Сулковский, Лавалетт, Бурьенн – составляли окружение командующего Восточной армией. Вместе с военными ехали ученые – будущий Институт Египта, объединявший представителей всех отраслей науки, – прославленные Монж, Бертолле, натуралист Жофруа Сент-Илер, химик Конте, минералог Доломье, медики Ларрей и Деженетт, литераторы Арно и Парсеваль Гранмезон и другие».
Отдельно надо сказать и о времени экспедиции. Начало ее было намечено на май. Было еще не жарко, а сильные попутные ветры упруго надували паруса, благодаря чему флотилия легко и быстро скользила по волнам. Правда, военные действия пришлись уже на жаркие летние месяцы. Для непривычных к восточному зною солдат это стало нелегким испытанием, но для противника опять же послужило отвлекающим маневром: никому и в голову не пришло, что в это время года французы отважатся сунуться в африканскую пустыню.
Довольно рискованным оказалось и то, что нескольким конвоям по пути следования предстояло объединиться в открытом море. Ведь любая ошибка могла сделать большую флотилию легкой добычей неприятеля, но этого, к счастью, не случилось: одна из очевидных слабостей грандиозного предприятия – рассосредоточенность морской армады – так и не была использована англичанами.
Не все в подготовке операции складывалось гладко: не всегда солдатами и матросами соблюдалась дисциплина, им задерживали выплату жалованья. Но самыми главными для сухопутного генерала Бонапарта стали проблемы с комплектацией судов экипажами. Оказалось, что две трети кораблей имели хороших командиров, а одной третью командовали люди, не способные к этому. Заведовавший морскими силами адмирал Брюэйс часто нарекал на то, что флот плохо оснащен. Бонапарт, не имевший знаний и опыта в морском деле, старался не вмешиваться в дела адмирала. Он лишь попросил его оборудовать ему хорошую кровать, «как для больного». Приказ был добросовестно выполнен: кровать стояла ножками на четырех подвижных шариках. По словам Бурьенна, это «делало для него менее чувствительною причиняемую качкою дурноту, коею он очень страдал».
Казалось бы, все уже было готово к походу, но тут случилось непредвиденное. Как вспоминал впоследствии Бонапарт, «когда все приготовления были закончены, произошел инцидент с Бернадотом в Вене, заставивший опасаться возобновления войны на материке. Отплытие армии было отложено на 20 дней, что поставило ее под угрозу. Тайна была раскрыта, и в Лондоне успели узнать о всех приготовлениях…» Нехитрые меры по дезинформации не смогли усыпить британскую разведку, агенты которой ухитрялись работать порой под самым носом у французских властей. Особенно показательна в этом отношении история с похищением из французской тюрьмы опаснейшего преступника – английского офицера Сиднея Смита, происшедшая примерно за месяц до отплытия французской флотилии. Он был освобожден жандармами якобы по приказу Директории. Позже выяснилось, что предъявленный приказ был фальшивым. Месяц спустя после бегства из тюрьмы Смит вместе с Ле Пикаром де Фелиппо, давним врагом Бонапарта, был уже в Англии и оказал существенную помощь ее военным силам.
Только 19 мая 1798 года флот Наполеона отплыл из Тулона. Он состоял из 350 больших и малых судов, которым предстояло с армией, артиллерией и огромными запасами пройти вдоль почти всего Средиземного моря, избежав при этом встреч с британской эскадрой. Все шло хорошо, если не считать того, что при выходе в море огромный, перегруженный флагман «Орион» задел дно. Некоторые увидели в этом плохую примету, но военная машина уже была запущена, и никто уже не мог ее остановить. А три недели спустя, 9 июня, французы были уже у берегов Мальты.