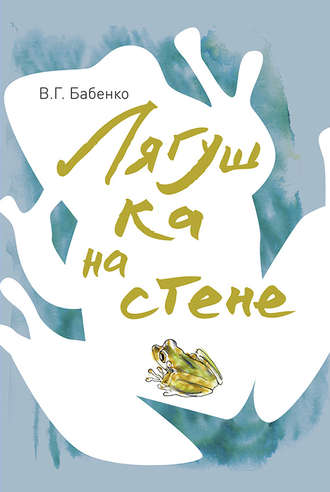
В. Г. Бабенко
Лягушка на стене
© Бабенко В.Г., текст, 1998, 2017.
© Товарищество научных изданий КМК, издание, 2017.
© Чайка Д., рисунки, обложка, 2017.
* * *
Предисловие
У меня очень плохой почерк. Просто отвратительный. В самом начале своей орнитологической деятельности я ленился вечером переписывать информацию, добытую за день, из полевого блокнота в общую тетрадь-дневник. А потом никак не мог разобрать не только отдельные слова, но и целые фразы. Поэтому сейчас я каждый вечер в экспедиции нахожу время и место, чтобы почерком, доступным в дальнейшем для моего же прочтения, написать своеобразный обобщающий отчет за день. У меня в рабочем столе хранится более 30 таких тетрадей – по числу дальних командировок. В них записаны довольно скучные для непрофессионала данные: где был встречен тот или иной вид, места обитания и даты, размеры гнезд, содержание желудков добытых птиц, численность различных видов и прочее.
Но там есть и другие записи. Они стоят не в основном тексте, а располагаются сбоку, на полях. Чаще всего это только одно или несколько слов типа «таймень», «старатели», «катер “Язь”», на за ними – неординарные личности, интересные события и приключения. Это, так сказать, побочный продукт экспедиционной работы, отсев, журналистика на общественных началах, впечатления, не относящиеся непосредственно к орнитологии, короче, записки на полях дневника, из которых я и попытался сделать книгу, показав «кухню» работы зоологов-полевиков, поведать, что случается с ними во время путешествий. О научной работе зоологов сами за себя говорят монографии, книги (в том числе и Красные), статьи, тезисы и отчеты. А вот как этот материал добывается и что остается «за кадром», известно немногим.
Компонуя свои заметки, я практически не привнес в них ничего от себя. Здесь уместно вспомнить Марксов термин «профессиональный кретинизм», означающий зашоренность любого узкого специалиста. Именно она и не позволила мне поступиться достоверностью, к которой за долгие годы приучала меня деятельность научного работника.
Все истории, написанные в этой книге – подлинные, все они случились со мной или моими друзьями, приятелями или знакомыми, разве что в некоторых местах я изменил названия кораблей, населенных пунктов, имена и фамилии. Мне оставалось только «сшить»
разрозненные эпизоды в единое повествование (в писательском ремесле я, конечно, дилетант, и поэтому внимательный читатель наверняка обнаружит и «швы» и «стежки»).
Должен заранее извиниться за некоторые повторы. Во-первых, в любой экспедиции есть начало, середина и конец, от этого никуда не денешься. Во-вторых, интересы зоолога-полевика, как только он покидает крупный город, почему-то сужаются и вращаются вокруг нескольких житейских, часто сугубо физиологических сфер. В третьих, «в поле» зоологи и все, кто с ними встречается, одеты удивительно убого и однообразно.
Отдельно приношу извинения за крайне ограниченный выбор спиртных напитков (что связано с дефицитом застойного периода) и особенно за вездесущую на Дальнем Востоке брагу, которая еще десяток лет назад могла по праву считаться подпольным народным пойлом.
И еще об одной детали я хотел бы упомянуть. О ружье. По своей специальности я орнитолог-фаунист и во время экспедиций собираю коллекции птиц. А рабочим инструментом мне служит двустволка Ижевского оружейного завода, которую я не снимал с плеча по паре месяцев в году. Для орнитолога ружье – это то же, что сачок для энтомолога или сеть для ихтиолога.
Я отчасти понимаю, почему даже коллеги-зоологи относятся с некоторой антипатией к стрелкам в птиц (хотя, к примеру, энтомологи переводят насекомых тысячами). Я не говорю о простых гражданах, которые не колеблясь прихлопнут таракана, зарядят мышеловку куском сала или вытащат на удочку карася, но надерут уши мальчишке (и правильно!), охотящемуся с рогаткой на воробьев.
Птицелюбие – это древнее, глубокое религиозно-этическое чувство, ведь и ангелы пернаты, и святой дух изображается в виде голубя. Но тем не менее, я не стал в рассказах искусственно заменять свое ружье на гербарную сетку ботаника или сачок энтомолога (хотя технически это было бы не трудно и ни один сюжет не пострадал бы). Каюсь, но мне до сих пор нравится трехкилограммовая тяжесть на правом плече и кисловатый запах пироксилина.
И последнее. События, которые описаны в этой книге, происходили давно. Сейчас не поедешь из Москвы на студенческую практику в Ленкоранский заповедник Азербайджана, на китов у нас в стране почти не охотятся, а народ во Вьетнаме не голодает. Всё это уже относится к истории. Это еще одна причина, побудившая меня сесть за пишущую машинку.
Гнездо стенолаза
Стену московской квартиры украшал вьетнамский охотничий арбалет. Маленький колчан, сделанный из отрезка бамбукового ствола, с небольшими, размером с карандаш, стрелами, лежал на полке серванта рядом с китайской бронзовой курильницей XII века, статуэткой Будды из Монголии и полинезийской инкрустированной перламутром маской из черного дерева. Но больше всего в этой комнате меня привлекали книги по орнитологии: старинные раритеты в кожаных тисненых переплетах с золотыми готическими буквами, скромные отечественные тома и роскошные современные зарубежные издания в глянцевых суперобложках.
Хозяин квартиры, Леонид Степанович, доктор биологических наук, отличался изысканностью манер, легким артистизмом, ровным характером и правильной речью с оттенком старомодного русского академизма. Он прекрасно сознавал уникальность своей библиотеки и, видимо, улавливал тот трепет, с которым я взирал на это богатство. Сизый дымок «Золотого руна» медленно тянулся вверх из английской вересковой трубки Леонида Степановича. Он встал с кресла и взял с полки книгу о птицах Юго-Восточной Азии.
– Посмотрите, – сказал он, – какая полиграфия! Качество печати начала века во многом превосходит современный уровень. Ведь кажется, что контуры рисунков выполнены тончайшей кисточкой. А между тем это отпечатано на типографской машине. И каждая иллюстрация всего тиража, хотя он и весьма небольшой, каждый контур птицы раскрашены вручную. Но это… – В трубке досадливо затрещали волокна табака.
Холеные ладони закрыли фолиант. Палец, украшенный изящным серебряным перстнем с черным камнем, слегка коснулся обложки, на которой золотом был оттиснут человечек – торговый знак издательства. В груди у человечка была аккуратная дырочка – след от пули.
– …Когда мне первый раз показали книгу, – продолжал Леонид Степанович, – именно из-за этого дефекта я и не хотел ее брать, хотя издание очень редкое. А ведь кто-то не пожалел такую книгу испортить. Но стрелок, вероятно, неплохой был, и оружие мощное. Так что эта библиографическая редкость с небольшой изюминкой.
Под серым пеплом в трубке засветился малиновый огонек, и вверх, как кобра из корзины факира, медленно пополз извитой тяж серебристого, пахнущего медом дыма. Я пододвинул к себе том и стал медленно листать тяжелые плотные страницы, рассматривая прекрасные старинные рисунки тропических птиц.
– Да, кстати, а вы бы не хотели взглянуть на некоторые, так сказать, оригиналы этих рисунков? Ведь вы, по-моему, еще не видели мои сборы из этого региона.
Отошла в сторону темно-зеленая портьера, прикрывающая нишу в стене. На стеллажах от пола до потолка стояли большие черные картонные коробки. Леонид Степанович расставлял их на столе торжественно и неторопливо. Крышки открылись. Содержимое коробок составило бы предмет гордости многих зоологических музеев мира. Сборы Леонида Степановича славились не только наличием редкостей, но и качеством препаровки. Тушки птиц располагались ровно, как солдаты прусской армии на плацу. Хвосты были тщательно расправлены, крылышки уложены, клювики однообразно вытянуты. Не думаю, что при жизни хоть одна птица была столь тщательно причесана.
В коробке с попугаями у бледно-розового какаду на груди расплылось какое-то серое пятно. Оно никак не вязалось с известной аккуратностью Леонида Степановича.
– Я его специально оставил таким, – пояснил он, видя мое недоумение. – Попугай ел плоды манго и весь испачкался соком.
Отдельно лежали кладки птиц. Из каждого яйца через небольшое отверстие было извлечено содержимое. Пустые скорлупы были легкими, как шарики от пинг-понга.
– Здесь довольно обычные виды, – рассказывал Леонид Степановыч, – утки, кулики, чайки. А в этой коробке у меня хранятся редкости. Вот, к примеру, эта птичка довольно часто встречается в горах, но гнездо ее добыть очень трудно – она селится в нишах и трещинах скал, в недоступных местах. Это гнездо стенолаза.
В коробочке, на подстилке из мха, сухой травы и шерсти, лежало четыре маленьких белых яичка с бледными лиловыми пятнышками.
* * *
– Так ты у него видел гнездо стенолаза, и он говорил, что его трудно было достать? – Миша улыбнулся. – Действительно, ему было трудно. А ведь это мы с товарищем держали веревку, по которой он спускался.
Миша – мой хороший знакомый. Он уже давно ведет биологический кружок в Доме пионеров, где с его помощью была собрана большая коллекция певчих птиц, аквариумных рыб, змей, ящериц и лягушек. Вот что я узнал от него о гнезде стенолаза.
Давно, когда Миша был совсем юным, его и еще двух студентов-биологов Володю и Леночку Леонид Степанович взял на полевую практику на Кавказ. Там он отстреливал и обрабатывал птиц, писал дневники. Студенты выполняли работу по своей теме, добывая в окрестностях лагеря мышей и полевок.
Однажды в долине горной речки Леонид Степанович обнаружил в скальном обрыве узкую щель, куда пара стенолазов таскала строительный материал – мох и овечью шерсть. Он позвал студентов, и они все вместе стали наблюдать, как небольшие птички с длинными тонкими изогнутыми клювами скользят по каменным отвесным глыбам, опираясь на полураскрытые крылья. Полет их, медленный и неровный, напоминал полет бабочек. Сходство усиливалось тем, что были хорошо заметны ярко-красные пятна на их крыльях. Птицы переговаривались тонкими звенящими трелями.
Как-то вечером, сидя у костра, Леонид Степанович объявил, что экспедиции предстоят альпинистские работы. Он послал Мишу в ближайшее селение. Через час тот вернулся с тридцатью метрами толстой веревки, которой горцы привязывали коров.
Мужская часть экспедиции подошла к обрыву. Леонид Степанович несколько раз обмотал веревку вокруг своего тела и велел студентам медленно спускать его вниз до уровня гнезда. Где находится этот уровень, должна была указать Леночка, стоявшая на другом берегу реки и следившая за ходом операции.
Светило весеннее горное солнце, шумела вода, медленно уходила вниз веревка. Раздались беспокойные крики стенолазов, тревожащихся у гнезда. Студенты внимательно смотрели на Леночку, которая изящно шевелила ручкой. Через несколько секунд горное эхо повторило два звука – испуганный визг студентки и горестный вопль Леонида Степановича. Ребята стали судорожно выбирать коровью привязь. Через несколько секунд «альпинист» показался на краю обрыва. Живой, без гнезда и насквозь мокрый. Леночкины сигналы были неправильно истолкованы, и студенты опустили орнитолога на всю длину веревки – прямо в реку.
Операция «Стенолаз» откладывалась и все ее участники устремились в лагерь. Там Леонид Степанович переоделся, подсел поближе к костру и выпил сто граммов спирта, предназначенного для фиксации амфибий. Однако даже позаимствованная у науки жидкость не помогла – начальник экспедиции простудился. Сердобольная Леночка, чувствуя свою вину, ухаживала за кашляющим и чихающим Леонидом Степановичем и самолично наклеила на его грудь перцовый пластырь.
Среди ночи из спальника орнитолога послышались стоны. Студенты проснулись. Леонид Степанович с горестной гримасой срывал со своей груди пластырь. Такое выражение лица было, вероятно, у Геракла, отравленного пропитанной ядом одеждой, которая, как известно, намертво приклеилась к телу героя. Леночка и тут пришла на помощь и стала отдирать пластырь. Но этим она лишь усугубляла страдания несчастного Леонида Степановича. Миша и Володя с трепетом наблюдали, как Леночка ковыряет ножницами в груди начальника. Студентка напоминала полевого хирурга, делающего операцию на сердце без наркоза. По ее окончании Леночка продемонстрировала результат своего портновско-хирургического творчества – кусок лейкопластыря, густо обросшего черными волосами. Начальник же после операции целомудренно закутался в простынь и тщательно застегнул пуговицы на рубашке до самого ворота.
Утром Леночка, Володя и Миша, позавтракав и оставив выздоравливающего орнитолога в палатке, пошли к альплагерю – договариваться со спортсменами о помощи со злосчастным гнездом. Через три часа студенты вернулись.
У костра спиной к ним сидел Леонид Степанович. Он обернулся, и молодые люди остолбенели. Лицо начальника было закутано шарфом, под которым угадывался огромный флюс – результат купания в ледяной воде. Леонид Степанович медленно размотал шарф. Над ущельем грянул хохот трех молодых глоток. Леночка очень мило повизгивала, Миша, пятясь задом, хрюкал, а Володя заливисто икал. Леонид Степанович печально улыбался, ожидая, когда его юные коллеги успокоятся и вновь придут на помощь. На щеке у Леонида Степановича висела механическая бритва. Начальник в отсутствие студентов решил первый раз с начала полевой жизни побриться. Для этого он воспользовался подарком, сделанным ему перед отъездом, – бритвой «Спутник». Но растительность на его лице была столь же обильна, как и на груди, и косить ее маломощным аппаратом было все равно что стричь газонокосилкой куст малины. Волосы попали в механизм, бритву заело, и она намертво приросла к лицу Леонида Степановича. Спасли его опять ножницы и ловкие пальчики Леночки. Через четверть часа освобожденный Леонид Степанович подошел к обрыву и, размахнувшись, забросил московский подарок в гремящий поток. Стенолазы сопровождали ее полет веселым щебетом.
Наутро пришли альпинисты, потолковали с Леонидом Степановичем и через десять минут достали ему гнездо.
История со стенолазом не была бы полной, если бы не один разговор в поезде «Симферополь – Москва». Я возвращался в Москву из командировки. В Крыму была ранняя весна, холодные пыльные ветры носились между корявых стволов виноградных лоз, распятых на проволоках. Перед самым отходом поезда в купе вошел уже немолодой человек с огромным рюкзаком. Состав тронулся. Мы, как положено путешественникам, разговорились. Как только мой попутчик узнал, что в горах я никогда не был, он стал рассказывать всякие ужасы про трещины в ледниках, перебитые камнепадом веревки, коварные снежные лавины и слепые горные туманы. Наконец он немного подустал от таких страстей и замолчал. Я, завладев инициативой, сообщил ему о своей профессии. Реакция альпиниста была неожиданной. Он насупился, с трудом выдавил из себя: «Орнитологов не люблю», – и замолчал.
Проводница принесла нам еще по стакану чая, и альпинист, потеплев, поведал причину своей ненависти к представителям этой в общем-то безобидной профессии.
– Было это лет двадцать назад в горах Тянь-Шаня, недалеко от Алма-Аты, в спортивном лагере «Чимбулак», – начал он. – Я, тогда молодой инструктор по альпинизму, вел группу по одному из самых трудных скальных маршрутов – по «Иглам Туюксу». Дорога вдоль берега Малой Алмаатинки была плохая, машины по ней тогда не ходили, подобраться к «Иглам» было не на чем, и поэтому весь путь приходилось преодолевать пешком. Ведь только недавно альпинисты вооружились легкими титановыми ледорубами, нейлоновыми веревками и капроновыми рюкзаками. Тогда же все вещи были тяжелее: ледорубы были железные с буковыми ручками, рюкзаки брезентовые, веревки сизалевые. Так что идти вверх было тяжко.
Мы вышли с рассветом и только к полудню начали восхождение. Миновав морену и ледник, мы оказались у скал, а там началась настоящая работа – веревки, страховки, крючья. Прошли три «иглы» – три вершины – и перед четвертой мы остановились передохнуть Вдруг слышим, кто-то за уступом разговаривает. Продвинулись еще немного и видим, что на небольшом скальном карнизе сидит какой-то субъект в телогрейке и кирзовых сапогах, рядом с ним примус, на примусе кипит чайничек, а у субъекта на коленях клеточка, в ней пищит общипанный птенчик. Любитель птиц сюсюкает с ним и кормит из баночки червячками.
Орнитолог оказался общительным и гостеприимным и предложил нам чаю. Пока мы отдыхали, он рассказал, что уже три дня лазает по горам, ищет гнездо редкой птицы (названия я не помню), и вот радость-то – сегодня нашел и взял птенчика в надежде его выкормить и воспитать. Потом энтузиаст сложил свое барахло в рюкзачишко, клеточку заботливо засунул за пазуху и с нами попрощался. Говорил, что очень торопится, что ему сегодня вечером обязательно нужно быть в Алма-Ате, птенчика пристроить. Это, мол, большая научная ценность. И посоветовал нам держаться всё время правой стороны, там, мол, скалы полегче. Собрался и, как был, в телогрейке и кирзовых сапогах, полез вверх и исчез за уступом. А мы перекусили, отдохнули, навьючились и пошли дальше с испорченным настроением, вбивая крючья и страхуясь.
Не люблю я после этого орнитологов. Еще раз я с ними встречался на Кавказе. Там какой-то профессор из Москвы нашел в скальной трещине гнездо птицы. Он сам его хотел достать, да не сумел. Ну, я ему и помог. А название этой птички я запомнил. Наше, альпинистское. Скалолаз.

Флинт
Стих грохот мотора, и громадная, окрашенная в буро-зеленый цвет машина замерла над бруствером. С траков гусениц на дно окопа медленно осыпались земля и желтые березовые листья. Дверь железной коробки вездехода открылась, и геологи, возвращающиеся в поселок с дальнего маршрута, тупо уставились на многорядную систему траншей и окопов, вырытых здесь вокруг охотничьей избушки на Западной Камчатке, вдалеке от населенных пунктов, на границе березового леса и тундры. Разведчики земных недр почувствовали, что обитатели зимовья всерьез приготовились к затяжным военным действиям.
На крыльцо вышел Юрик – лаборант нашей экспедиции. Он дымил трубкой, набитой махоркой. На плече у Юры сидела сова и смотрела на гостей единственным желтым глазом.
* * *
Нас троих забросил в эту глухомань случайный вертолет. Летчики твердо пообещали прилететь за нами через две недели. Но вертолет вместе с бравыми авиаторами так и не появился. Судьба сжалилась над нами, послав через полтора месяца геологический вездеход, тем самым сняв вопрос о нашей зимовке, тем более что все сроки командировки давно истекли.
Наша сова была найдена в первый же день недалеко от избушки. У нее дробью был выбит один глаз. Птица называлась ястребиной совой за длинный хвост и поперечно-полосатый рисунок на груди. «Тельняшка» и отсутствие одного глаза дали нам повод, не особо задумываясь, окрестить ее Флинтом. но, конечно же, не в честь известного советского орнитолога, а в честь его тезки – знаменитого пирата.
У совы из-за контузии возник новый, философский взгляд на мир. Она перестала бояться людей и могла часами сидеть на плече у кого-нибудь, а чаше всего у Юрика. У нее было свое место в углу избушки, куда сову помещали только под вечер. Флинт сидел там тихо, лишь светящийся желтый глаз выдавал его присутствие.
Беспомощную птицу решено было везти в Москву. Тут же возник естественный вопрос о кормежке Флинта. Первые дни эта проблема не стояла остро, поскольку к самому порогу зимовья подошел заяц. Мы не лицемерили и не сетовали на его неосторожность, так как и Флинту и нам понравилась зайчатина. Сова сдержанно брала кусочек сырого мяса мохнатой лапой, вооруженной когтями, похожими на рыболовные крючки четырнадцатого номера, и начинала есть, зажмуриваясь от удовольствия. Когда заяц кончился, появилась забота добывать пищу Флинту.
Нашему пленнику повезло. На Камчатке в тот год было очень много полевок. Такой резкий подъем интенсивности размножения отмечается раз в 4–6 лет. Численность полевок в этот период резко возрастает, они теряют осторожность и становятся более заметными. В окрестностях нашего зимовья стебли борщевика – огромной, до трех метров высотой, травы – были обгрызены полевками, словно здесь трудилось множество минибобров. Мы знали, что ястребиные совы питаются в основном мелкими грызунами. Но мышеловок у нас не было, а добыть без ловушек вездесущих, но неуловимо быстрых полевок мы не могли.
В лесу слышался шорох – сотни лапок шелестели опавшей березовой листвой. Иногда можно было увидеть и самих зверьков – они серыми ружейными пыжами проносились через поляны. Раз такую, неосторожно перебегающую через дорогу полевку мне удалось застрелить полузарядом мелкой дроби. Обнаружив, что пахнущего порохом зверька Флинт поедает с удовольствием, я стал специально на них охотиться. Грызуны посещали помойку у избушки: они искали, чем там поживиться. Вот здесь-то я и устроил засаду, затаиваясь неподалеку с ружьем наготове. Ожидание было напряженным, так как зверь всегда появлялся внезапно. Он выскакивал из зарослей и молниеносно с голодным писком исчезал в недрах помойки. Насытившись, полевка так же стремительно скрывалась под ближайшим кустом. Требовалась хорошая реакция, чтобы удачно выполнить стрелково-стендовое упражнение «бегущая мышь». Сидя в засаде, я пришел к выводу, что охотничий азарт вовсе не зависит от размеров добычи. Важно лишь, чтобы трофей действительно был нужен стрелку, а сам успех целиком зависел от выдержки и реакции охотника. А так все равно кого выслеживать – слона, волка или мышь.
Обещанный вертолет всё не появлялся, патроны кончались, и их оставили только для охоты на крупную дичь, вот почему ружейный промысел полевок пришлось прекратить. Мы вспомнили, каким способом ловят мелких грызунов в научных целях. В земле вырывают канавки глубиной и шириной 30–40 сантиметров и длиной несколько десятков метров. В концах земляного желоба вкапывают ведро или металлический цилиндр, из которого зверьки не могут выбраться. Наш лаборант Юра немного напутал размеры, и у него получились окопы полного профиля, соединенные ходами сообщений. Но полевки и в них ловились исправно. Теперь-то Флинт был сыт.
Хуже дело обстояло с нами. Вертолет всё не летел. Продукты кончались. Мы съели привезенный с собой хлеб и начали подбираться к запасам, которые хранились в зимовье с незапамятных времен – нескольким твердым, как бетон, громадным буханкам, превращенным мышами в настоящие хлебные дома с холлами, извилистыми коридорами, спальнями и прочими удобствами. Мы расчленяли мышиные жилища на отдельные блоки, выбирая из них самые съедобные, остальные прятали, надеясь (как впоследствии выяснилось, тщетно), что до них очередь не дойдет, и нас вывезут раньше.
Юра при возведении фортификационных сооружении наткнулся на культурный слой, образованный несколькими поколениями местных охотников. На этой археологической свалке была масса полезных вещей и, среди прочего, трехметровый кусок капроновой рыболовной сети. Мы привязали ее на палку, полученный таким образом флаг опустили в реку, и с этого момента угроза голодной смерти миновала.
Дежурный каждый день проверял сетку и вынимал из нее улов – пару трехкилограммовых рыбин лососевой породы под названием кижуч. Больше этой суточной прожиточной нормы река нам, к сожалению, не отпускала. Кижуч – проходная рыба, которая живет в море, а икру мечет в реках недалеко от устья. Этой рыбе не нужно больших жировых запасов – своеобразного топлива для подъема на большие расстояния вверх истечению реки, как, например, кете или горбуше. Поэтому кижуч – очень постная рыба, и уже через час после еды нас снова посещали мысли об обещанном, но не прилетевшем вертолете. Один Флинт, скоро ставший полноправным членом нашей экспедиции, не участвовал в послеобеденных разговорах о том, как бы нам отсюда выбраться. Сова была всегда сыта, так как запас полевок в тундре, а следовательно, и в Юриных окопах, был неисчерпаем.
Но голод голодом, а работа прежде всего. В экспедиции каждый занимался своим делом. Володя изучал осенний пролет птиц на Западной Камчатке. Он оплел все окрестные березы тонкими, почти невидимыми капроновыми сетями, как паук, а затем терпеливо выпутывал из них птиц, чтобы потом, промерив, взвесив и окольцевав, отпустить их на свободу.
Юрик был по штатному расписанию лаборантом и помогал нам в работе. Он оказался страшным домоседом. В первый же день, едва переступив порог избушки, он обрезал ножом задники своих прекрасных новых туфель, превратив их таким нехитрым способом в домашние шлепанцы, а также отодрал рукава у своей куртки, сделав из нее удобную душегрейку. После этого он затопил печку и стал готовить рагу из того самого излишне любопытного зайца. Всю экспедицию он занимался кулинарными экспериментами, редко выходя из избушки. В свободное время он сидел на крыльце, читая «Письма Плиния Младшего», или же смотрел на далекие сопки, на падающие березовые листья, дымя трубкой, которую он сначала набивал «Нептуном», а потом, когда табак кончился, махоркой. Мы старались не отвлекать Юрика научной работой, считая, что в экспедиции приготовление пищи – самая ответственная и важная задача.
Я облазил все окрестности, собирая птиц для Зоомузея, стараясь добыть что-нибудь покрупнее, так как для научных целей требовалась только шкурка, мясо же доставалось нам. Куропаток было мало, к тому же у меня был более опытный конкурент – лисица. Она жила неподалеку и каждое утро делала трехкилометровый обход по охотничьей тропе, которая проходила под проводами линии телефонной связи, тянущейся над тундрой. Спозаранку куропатки летели с мест ночевок на ягодники, и одна-две разбивались о провода. Несколько раз я пытался опередить лисицу, но она всегда успевала раньше, на что указывали свежие перья найденных и съеденных ею птиц.
Мы сидели в избушке уже ровно месяц. Продукты почти полностью кончились, и мы доедали остатки мышиных хлебных домов. Лишь Флинт растолстел. Он весь день дремал в углу избушки, а под вечер, когда мы укладывались спать, разевал розовую пасть, мигал желтым глазом и слабым верещанием требовал полевок. Их-то у нас было пока в изобилии.
Наш зоопарк постепенно пополнялся. Однажды мы совершили далекую вылазку на берег Охотского моря и сеткой поймали шесть камнешарок – пестрых короткоклювых коренастых куличков, похожих на миниатюрных уточек. Птицы названы так за одну интересную особенность поведения. В поисках пищи – мелких рачков, моллюсков, насекомых, пауков – они переворачивают прибрежные камешки, поддевая их клювом и отбрасывая в сторону.
Мы развесили на шестах у самой воды сетку-паутинку и, не торопясь, пошли к стайке камнешарок. Как и все представители куличиного племени, они не отличались особым интеллектом. Глупые птицы, не взлетая, уходили от нас пешком, по пути отшвыривая камешки, как команда футболистов в пестрых майках, разыгрывающая сложную комбинацию. Когда они очутились недалеко от ворот – нашей сетки, мы вмешались в игру, спугнув стаю. Птицы повисли в ячейках ловчей снасти. Камнешаркам подвязали крылья, чтобы они не могли летать. В избушке мы отгородили им угол, а для развлечения положили несколько камешков. Кулики, казалось, были помешаны на футболе – целый день из угла слышались тихий топот лапок и шуршание по полу камешков – птицы отрабатывали сложные пасы.
Зато третий наш экспонат тихим нравом не отличался. Раз в сетку, погнавшись за синицей, влетел сокол-чеглок. Его мы держали взаперти, в ящике с полотняными стенками, чтобы он не видел людей. Дело в том, что как только в поле зрения сокола попадал человек, он разражался пронзительными криками, возмущаясь своим пленением. После непродолжительной паузы птица орала уже в другой тональности, требуя есть. Он, как и Флинт, ежедневно получал порцию полевок.
Близкая зима припорошила далекие сопки снегом. Солнце расстилало на полянах золотые ковры, а в тени деревьев лежали серебряные покрывала из сухой заиндевелой травы. Светило каждый вечер умирало у ребристого горизонта, пылая немыслимыми красками. Однажды Юрик, самый поэтичный из нас, не выдержал и, выпросив у Володи два карандаша – синий и красный и тетрадный листок в «клеточку», полез на крышу избушки рисовать закат.
* * *
Мы покормили наших спасителей-геологов жареным кижучем, а IOрик отдал им остатки махорки. В вездеход были погружены все вещи, коллекции, клетки с камнешарками и чеглоком. Лишь Флинт, как равноправный член экспедиции, сидел на рюкзаке и смотрел единственным глазом вперед на дорогу, на хлюпающие под гусеницами болота, на темные озерки, на глупых, уже белеющих на зиму куропаток, вылетающих из-под тупого рыла машины на улицы поселка, до которого мы наконец-то добрались.
Вездеход с ревом несся по главному проспекту. Поселок выглядел празднично – на стенах домов, на подоконниках, на бельевых веревках висели кумачовыми флагами распластанные подвяливающиеся тушки рыбы. Гуляющие пацаны ели фантастические бутерброды с красной икрой, намазанной на хлеб двухсантиметровым слоем, не компенсирующей, впрочем, хроническую нехватку здесь фруктов. Парни равнодушно смотрели на текущую через поселок речку, где на перекатах теснились блестящие рыбьи спины, или лениво бросали камни, стараясь попасть в плывущего у берега страшного зубаря – самца горбуши.
В тот же день мы самолетом местной линии добрались до Петропавловска-на-Камчатке. После утрамбованных спальников, прокопченного потолка, соседства с самодельным зоопарком и проблематичности питания гостиница «Авача» была для нас земным раем. Мы ввалились в светлый холл пиратской толпой. Флинт, как и положено, был впереди: он сидел на плече у Юры. Пока мы заполняли документы, сова неподвижно сидела на брошенной на полированный стол безрукавке нашего лаборанта. Изредка какой-нибудь спешащий человек ловил желтый взгляд Флинта, испытанно останавливался, встряхивался, как будто отгоняя от себя наваждение, и, углубившись в свои деловые мысли, шел дальше. Устроившись в номере, помывшись в ванне и разместив птиц, мы поехали в аэропорт за билетами.
Тем временем горничная, посетившая наши апартаменты, начала свое знакомство с орнитофауной Камчатки. В ванне резвилась стайка камнешарок, гоняя по эмалированной поверхности пробку. В комнате излишне любопытная сотрудница гостиницы неосмотрительно открыла створки тумбочек. Из первой на нее осуждающе посмотрел сонный Флинт, из второй на бедную женщину закричал, жалуясь на свою неволю, чеглок.
К моменту нашего возвращения вся гостиница знала, что мы в номере содержим уток, а также филинов и орлов, бросающихся на людей. Но гнев администрации нам был уже не страшен – мы взяли билеты на утренний московский рейс.







