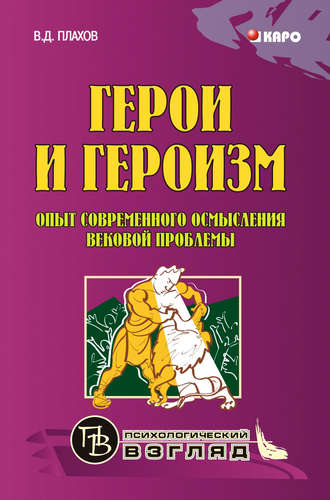
В. Д. Плахов
Герои и героизм. Опыт современного осмысления вековой проблемы
Четыре рода героизма. Героическая мифология. Типы мифологических героев
Исторический опыт позволяет нам выделить четыре рода героизма. Каждый род, в свою очередь, включает достаточно специфичные виды героизма.
Первый род образуют архетипические герои. Второй род объединяет мифологических героев. Третий род – это род реальных героев, живших и живущих в сменяющихся поколениях и проявляющих себя, заявляющих о себе, как принято говорить, de facto, а в ряде случаев, о чем мы уже упоминали, и de jure. О таких героях, дабы отличать их от предыдущих, есть смысл говорить как о мирских[5]. Четвертый род может быть и должен быть представлен как «квази». Он включает мифических героев и откровенных лжегероев. Более или менее подробное рассмотрение всех четырех названных родов героизма как социокультурного феномена составляет важную часть нашего исследования. И прежде всего мы обратимся, как того требует логика, к первому роду, наименее изученному и содержащему множество научных загадок. Это род архетипических героев. Среди ученых, обративших внимание на этот род героев, необходимо указать К. Юнга, П. Радина, Дж. Хендерсона (Хендерсена). Архетипические герои – самые древние. Их формирование обусловлено действием бессознательных механизмов. И первое место в числе архетипических героев, бесспорно, занимает Трикстер, описанный в трудах П. Радина и К. Юнга. Вот как представляет Трикстера основоположник аналитической психологии К. Юнг: «Трикстер – предтеча Спасителя, и подобно последнему является Богом, человеком и животным в одном лице. Он – и нечеловек, и сверхчеловек, и животное, и божественное существо, главный и наиболее пугающий признак которого – его бессознательное. По этой причине его покидают товарищи (очевидно, люди), что, по-видимому, указывает на отставание его уровня сознания от их. Он настолько бессознателен по отношению к самому себе, что его тело не является единым целым; две его руки бьются одна с другой. Он отделяет от себя свой задний проход и поручает ему специальное задание. Даже его пол, несмотря на фаллические признаки, не определен: он может стать женщиной и выносить ребенка. Из своего пениса он создает всякого рода полезные растения, что указывает на его исконную сущность творца, так как мир создан из тела Бога.
С другой стороны, он во многих отношениях глупее животных и раз за разом попадает в дурацкие переделки. Хотя на самом деле он не злой, он совершает ужасающие жестокие поступки просто из-за бессознательности и покинутости. Его заточение в животном бессознательном подтверждается случаем, когда его голова застряла внутри черепа лося, а следующий эпизод показывает, как он вышел из этого положения – засунув голову сокола себе в прямую кишку. Правда, почти сразу после этого он возвращается в прежнее состояние, упав под лед; его раз за разом обманывают животные, но в конце ему удается провести коварного койота, и это возвращает ему свойство спасителя. Трикстер представляет собой первобытное „космическое“ существо, обладающее божественно-животной природой: с одной стороны, превосходящее человека своими сверхчеловеческими качествами, а с другой стороны – уступающее ему из-за своей неразумности и бессознательности. Он также не ровня животным ввиду своей чрезвычайной неуклюжести и отсутствия инстинктов. Эти недостатки свидетельствуют о его человеческой природе, которая не так хорошо приспособлена к окружающей среде, как животные, но взамен этого обладает перспективой значительно более высокого развития сознания благодаря огромной тяге к знаниям»[6].
Исследования, проведенные П. Радиным, показали, что Трикстер был героем малоизвестного североамериканского племени индейцев виннебаго. Однако Юнг и другие ученые полагают, что, претерпевая различные трансформации, Трикстер как героический образ имеет повсеместное распространение[7].
Второй род связан с героической мифологией, весьма обстоятельно описанной в мировой и отечественной литературе, анализ которой позволил нам сделать ряд интересных выводов. Самые первые мифологические герои – это первопредки, боги и полубоги. Их героический статус соотнесен с функциями творения, созидания, одаривания, наделения, организации. Поэтому герои практически всех известных древних мифов добывают для людей жизненные блага (огонь, растения, орудия труда), упорядочивают времена года и погоду, помогают организовать человеческую жизнь и побеждают силы хаоса во всеобщем мироустройстве.
Обращает на себя внимание такой факт. Человеческая первоистория еще не накопила достаточного нравственного опыта[8], поэтому мифологический герой, как утверждает Т. А. Апинян, в первую очередь должен был обладать ловкостью, храбростью, хитростью и прочими качествами, востребованными в жестоком первобытном мире. К таким качествам присовокупляется физическая сила, необходимая в мужском мире, где все проблемы разрешаются силовым способом. Именно поэтому мифологические герои демонстрируют дикие, необузданные страсти. Но в последующем с развитием культур, мировых религий утверждаются, как пишет Апинян, «кардинальные типы» – храбрецов, защитников, богатырей, изгнанников, борющихся с судьбой.
Мифологические герои разделяются на типы:
– «человеческие» (например, Прометей или Гермес);
– «аморфные» (например, «дема» маринд-аним или «куги» у папуасов Новой Гвинеи);
– «зооморфные», «орнитоморфные» и прочие «нечеловеческого вида»;
– «получеловеческие» с какими-либо деталями фантастических образов.
Т. А. Апинян предлагает объединить два последних типа и назвать их обобщенно «трансформером», которому присущи одновременно и человеческие, даже личностные, черты, и черты животных. Типичным примером здесь служат Пан и сатиры в древнегреческой мифологии[9].
В целом для героической мифологии характерны легендарность, аллегоричность, те или иные мотивы аномалии (ненормальности, необычности, сверхъестественности), амбивалентность. Что же касается последней особенности, то советский исследователь А. Ф. Косарев пишет, что действия мифологического героя «уравновешиваются, как правило, противодействием его двойника-антипода (обычно близнеца-брата), который либо разрушает созданное его братом, либо создает нечто прямо противоположное. Оба брата являются творцами, но один – творец всего положительного, созидательного (порядка, света, тепла, социальных норм, брачных правил, ценных пород животных и растений и т. п.), а другой – творец всего отрицательного, разрушительного (беспорядка, тьмы, холода, антисоциальных действий, кровосмешения, хищных животных и насекомых-паразитов). Таковы, в частности, меланезийские братья То Кабанана и То Карвуву. Первый создает равнинный рельеф и прибрежных жителей, красивых женщин, ценную рыбу, барабан для праздничных танцев, тогда как второй создает горы и овраги, враждебных горных жителей, развратных и безобразных женщин, акулу, пожирающую ценную рыбу, барабан для похорон. Имеет своего брата-антипода и Прометей – его зовут Эпиметей. Нередко антиподы-братья изображаются как старший и младший, умный и глупый, честный и плут, серьезный и озорник. При этом разрушительные действия младшего брата трактуются не как сознательно поставленная цель, а как результат его неумелости, глупости или озорства»[10].
Итак, мы обозначили серьезнейшую проблему, которая стала предметом своеобразного осмысления уже древними народами, – проблему антигероя. Несколько позже мы посвятим этой проблеме специальный раздел. Пока же продолжим обсуждение уже начатой темы о четырех родах героизма. Третьим таким родом, как уже было сказано, служит фактический героизм, или род реальных героев. Рассмотрим его более подробно.
Реальные герои в эпоху цивилизации. Героизм и нравственность
Становление и дальнейшее развитие цивилизованных государств привело, помимо прочего, к появлению героизма, который мы связали выше с реальной феноменологией, или, другими словами, с действительным жизненным проявлением утвердившегося в повседневности статусного порядка и, соответственно, с образованием такой социальной структуры, в которой свое определенное место занял герой как de facto – de jure. Нельзя не заметить, что этот исторический факт, факт появления реальных героев, живых людей, действительно существующих личностей, которых отличают, как мы теперь знаем, особый социальный статус, социальная роль и семантический статут, оказался в мировой науке за границами внимания. Поэтому мы не только констатируем одновременность и ковариантность цивилизационного развития и рождение реального героизма как исторических процессов, но и намерены проследить их закономерности.
В самом деле, феномен героизма как реального социокультурного проявления, в котором находит выражение отклонение от привычного, рутинного, повседневного социального бытия-быта, отклонение от рядового стереотипного поведения есть плод цивилизационного развития общества. Именно в эту историческую эпоху, эпоху цивилизации, появляются реальные личности, которых называют героями, что в действительности означает отнесение социумом отдельных индивидов и отдельных групп людей к определенному статусу системной организации данного общества. Именно в эту историческую эпоху формируются адекватные каждой конкретной культурной системе семантические статуты героев. Именно в эту историческую эпоху утверждаются адекватные каждой конкретной культурной системе героические типы, которые ниже станут предметом нашего более пристального внимания. Пока же сформулируем очень важный принцип всей феноменологии героизма – принцип соотнесенности героизма и нравственности.
А. Шопенгауэр писал, что героев и святых порождает нравственность. Действительно, героизм – глубоко нравственное явление. Безнравственность и героизм несовместимы. Можно быть великой личностью, гением, но не быть героем. И демаркационная линия здесь – нравственность. Великий человек может быть безнравственным, герой – нет. Цезарь, Наполеон, Петр Первый, безусловно, великие деятели, но героями их не назовешь.
Многочисленные исторические исследования позволяют составить нравственный портрет русского царя Ивана IV. Насилие, убийства, казни, пьяные оргии, разврат, доходящий до скотоложества, – вот только некоторые моменты жизни и правления Ивана Грозного. Современный отечественный историк Р. Г. Скрынников в очерке «Иван Грозный»[11] приводит такой вполне рядовой пример. Стрелецкий командир Никита Голохвастов, известный своей отчаянной храбростью, вынужден был уйти в монастырь, чтобы избежать гнева царя. Но монашеская ряса не спасла стрельца. Грозный повелел привести его и пообещал, что поможет бравому иноку поскорее «улететь на небо». Голохвастова посадили в бочку с порохом и взорвали. Такой характер носили некоторые «героические» деяния первого русского царя. Основатель Российского государства, прославившийся историческими победами и политическими достижениями, вряд ли может быть причислен к сонму героев в истинном смысле этого слова и причина такой оценки – в его чудовищной безнравственности.
П. А. Сапронов в книге «Феномен героизма» (СПб., 1997) пишет, что герой – первый среди равных, героическое завоевывается человеком через битву, поединок с экзистенциально равными индивидами. Понятно, что эта борьба не допускает коварства, обмана, низменных, недостойных статуса подлинного героя средств. Герой не может опуститься в достижении героического до подлости, ловкачества, коварства, обмана, бесчестия, плутовства, двуличия. Напротив, борьба, которую он ведет, все его поступки должны возвеличить его, возвысить над омутом повседневности. И ничто не должно запятнать его подвига. Ничто не должно бросить тень на его имя. Всякое отступление от морали, уступка безнравственности снижают ценность поступка и в конце концов личности в целом. Поэтому первым критерием героического служит благотворность, благотворение, благодать, благо во имя общества, человека. Добронаправленность – суть подвига как формы человеческого поведения. Подвиг социально эвфункционален. Именно поэтому можно и нужно говорить о нем как о приносящем общественную пользу. И каким бы по содержанию ни был героический акт, в силу своего изначально положительного значения он представляет собой нравственную ценность. Кроме того, героизм служит в обществе средством, способом утверждения нравственности – это важнейшая социальная функция рассматриваемого феномена.
Наконец, подвиг, героизм – формы и способы нравственного самоутверждения личности. Ведь сущность нравственности – в ее противостоянии «злу» (безнравственности), противодействии и одолении экзистенциальной (социальной) деструкции. И герой – тот, кто борется и одолевает «зло» в самом широком спектре его проявлений и значений. Это могут быть и агрессия, и насилие, и экологические бедствия, и несчастный случай (пожар), и мифическая сила, и «грех» и т. д. Общий принцип, которым будем руководствоваться в дальнейших рассуждениях, гласит: понятие героизма при всех условиях заключает в себе нравственный смысл.
Героический этос. Бунт как вызов «норме». Феномен антигероя
В 1944 году в гитлеровской Германии была издана книга, которая так и называлась «Героический этос» (Heroisches Ethos). Очевидно, нельзя не признать факта, что во многих культурных системах исторически формируется и утверждается этос, имеющий такое название. И даже не один этос, а несколько этосов. Причем вторая ситуация более типична. Так, в годы Гражданской войны в России одновременно существовали героические этосы, соответствующие «красной» и «белой», то есть пролетарской, рабоче-крестьянской трудовой и буржуазно-помещичьей эксплуататорской, этике, которая образовывала своеобразную идеологию этоса. П. А. Сапронов в упомянутой выше книге «Феномен героизма» писал, что до революции в России было несколько этосов: крестьянский (трудовой), дворянский и сакральный. Каждый этос имел соответствующую героическую направленность.
В средневековье героизм олицетворяло рыцарство. Э. Дешан, писатель ХIV века, достаточно подробно воспроизводит требования к рыцарскому поведению. Вступивший в рыцарский орден должен был вести жизнь, отличную от всех остальных, а это значило регулярно молиться, избегать греха, высокомерия и низких поступков. Он должен был защищать церковь, вдов, сирот, всемерно заботиться о своих подданных, никого не лишать собственности, быть храбрым и воевать лишь за правое дело. В числе других (говоря вообще, весьма многочисленных) требований-императивов значатся: участие в путешествиях, сражения в турнирах в честь дамы сердца, избегание всего недостойного и соблюдение этикета. Кроме того, в обязанность рыцаря вменялись любовь к своему сюзерену и преданность ему. Рыцарь должен был быть всегда справедливым, щедрым, вращаться в обществе достойных и учиться у великих и храбрых военачальников.
Сражаться и любить! – вот главная заповедь (парадигма) рыцарского этоса. Славу рыцарю приносила не столько победа, сколько достойное поведение в бою. Героическая гибель в сражении – вот самое прекрасное завершение карьеры, о которой должен был мечтать каждый рыцарь. Немощная старость и естественная смерть – самая ужасная участь доблестного мужа. Использование слабости противника не приносило рыцарю славы, а убийство безоружного врага покрывало рыцаря позором.
В годы Великой Отечественной войны в нашей стране сформировался свой, советский, героический этос. Исследование его представляет насущную научную задачу. По личным наблюдениям автора, школьником пережившего блокаду Ленинграда и участвовавшего в обороне военно-морской крепости Кронштадт, этот этос имел выраженную специализацию, то есть при общих чертах героического этоса советских людей героизм моряков, летчиков, артиллеристов, разведчиков, тружеников тыла имел специфику. Даже среди моряков особой лихостью, например, отличались «катерники», которые и форму-то носили с только им присущим шиком.
О героическом этосе советских моряков можно составить сравнительно полное представление по произведениям Вс. Вишневского, Б. Лавренева, Вс. Азарова и других писателей и поэтов – участников Великой Отечественной войны, а также по газетным и журнальным публикациям того времени. Многие черты солдатского героического этоса воспроизведены в поэтической форме А. Твардовским в его бессмертной поэме «Василий Теркин». О героическом поведении советских воинов можно судить по новелле Ал. Толстого «Русский характер», по «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого и другим литературным произведениям.
О существовании достаточно специфичного этоса командного состава Красной (Советской) Армии свидетельствуют пьеса А. Корнейчука «Фронт», а также многочисленные мемуары видных советских военачальников – маршалов Г. К. Жукова, А. М. Василевского, К. К. Рокоссовского, Н. Н. Воронова, адмирала флота СССР Н. Г. Кузнецова и других.
На основе всего сказанного выше мы должны сформулировать общий этологический принцип, согласно которому при определенных исторических и социальных условиях в отдельных культурных системах формируется и существует адекватный каждой культуре (субкультуре) героический этос. Так было в Древней Спарте, так было в средневековой рыцарской Европе, так было в социалистической России. Однако, подчеркнув, что изучение героического этоса составляет одну из центральных задач науки этологии, мы обязаны указать на необходимость разработки этологической компаративистики и соответственно проведения сравнительного анализа героических этосов. Этот анализ представляет собой серьезную работу, требующую исторической и культурологической эрудиции. В перспективе мы планируем подобные исследования, а пока же рассмотрим, как соотносится тот же рыцарский этос с конкретными культурными условиями на примере японского этоса «бусидо».
«Бусидо (буквально „путь воина“), – пишут советские исследователи В. А. Пронников и И. Д. Ладанов, – представляет собою учение о рыцарском поведении. Бусидо – это, с одной стороны, моральный кодекс самураев, а с другой – изначальный дух японской нации, превратившийся со временем в традицию»[12]. Определяя таким образом бусидо, авторы отмечают, что как кодекс самураев бусидо никогда не систематизировался: ни в учебниках, ни в сводах правил или законов. И тем не менее значение бусидо в японской жизни от этого не уменьшилось. Оно прочно укоренено в сердцах огромных масс людей и в целом нации, причем и по настоящее время.
Основные установки бусидо формировались естественно-историческим путем в глубинах народного сознании, в народной психологии и в последующем получили, так сказать, материальное (письменное) закрепление в книге «Хагакурэ», что буквально означает «скрытый под листьями». Целый ряд положений «Хагакурэ» по своему происхождению связаны с «Афоризмами Набосима» («Набэсима ронго»), автор которых Хидзэн учил, что небесное благоволение достигается не роскошью, не золотом, а верностью и мужеством. Вместе с тем в ряду первозначимых черт самурайского героического этоса стоят знания, самосовершенствование, честь, доблесть, преданность, спокойное принятие смерти и даже презрение к ней. «Самураи, – подчеркивают В. А. Пронников и И. Д. Ладанов, – были сотканы из национального честолюбия, их всегда обуревала страсть поставить Японию вперед всех»[13].
Центральной идеей «Книги воина» (именно такой смысл окончательно был закреплен за «Хагакурэ»), считают названные авторы, является заимствованная из конфуцианства идея «верности долгу». «В кодексе бусидо, – пишут они, – долг и честь предписывают соблюдать верность, благородство, мужество». И тут же приводится изречение Конфуция: «Видеть то, осуществление чего требует долг, и не сделать, есть отсутствие мужества»[14].
С понятием долга в героическом этосе самураев тесно связана клятва. Как указывает академик Н. И. Конрад, в Японии клятва входит в основной фонд национально-монархической идеологии. Она же, клятва, клятва верности, служит во многих случаях идейным и идеологическим обоснованием харакири (самоубийства), получившего в годы Второй мировой войны статус героического подвига, свершаемого во имя Родины, во имя императора, подвига камикадзе («камикадзе» в буквальном переводе: «божественный ветер» – аллюзия «божественной помощи японскому народу»). Вот одно из писем двадцатидвухлетнего камикадзе мичмана Итиро Хаяси к матери: «Дорогая мама, пожалуйста, не тоскуй по мне. Какое счастье погибнуть в бою! Мне посчастливилось получить возможность умереть за Японию… До свидания, дорогая. Проси Небо принять меня к себе. Я буду опечален, если Небо отвернется от меня. Молись за меня, мама!».
Герой вне связи с нравственностью – не более как «авторитет» (лидер). Именно с такими героями мы встречаемся в преступном мире, криминальной субкультуре. Это герои, живущие по законам (нормам) своей особой морали, под которой мы понимаем в данном случае этос, и не просто этос, а этос античеловечный, асоциальный, деструктивный и потому осуждаемый и отвергаемый. Было бы, однако, серьезной ошибкой ограничивать область существования «авторитетов» исключительно преступным миром. «Авторитет» заявляет о себе и в сфере бизнеса, и в сфере политики, и в сфере искусства и т. д. И здесь мы подходим к более общему понятию – понятию антигероя.
Появление антигероя в человеческом сознании – мы уже встречались с раздвоением героического мира в сознании древних людей на «добрый», «положительный» (Прометей, То Кабанана) и «злой», «отрицательный» (Эпиметей, То Карвуву) – объясняется противоречивостью вообще всего сущего, диалектической связью и взаимопереходами противоположностей, чем отмечены не только материальные объекты, но и идеальные процессы и образования.
Названные нами два вида героев, героев-антиподов, то есть героев «хороших» и героев «плохих», героев возносимых и героев осуждаемых, героев благих и героев заклятых, героев великих и героев низких, отличаясь огромным феноменологическим разнообразием, соотнесенным с культурными системами, тем не менее сопровождают человечество на протяжении всей его более чем двухтысячелетней истории. И мы должны признать, что антигерой – это тоже социальный статус, то есть здесь имеет место та же ситуация, с которой мы встречались, рассматривая социальную природу героя. Однако, если герою отводятся в человеческом сознании, субъективном мнении верхние (высшие) иерархические уровни, то антигерой обречен на низшие страты (вспомним, о ком и когда говорят в России «низкий человек», «опуститься до такой низости») и даже категорический отказ в нравственности вообще (феномен безнравственного поведения). Все это возможно потому, что антигерой, точно так же как и герой, есть определенный культурный образ, складывающийся в человеческом сознании и реифицируемый в различных материальных предметах, символах и знаках. В этом случае также используются и произведения искусства, и литература, и дискурс. Одним словом, все доступные средства воздействия на ум (разум), чувства и даже бессознательную сферу человека, призванные управлять, – будь то область религии или политики, этики или эстетики – индивидуальным и групповым поведением, а следовательно, обеспечивать востребованный или издревле установленный статут героя/антигероя, и тем самым социальный порядок, тождественный организации данной культурной системы. Напомним, что согласно кибернетике, элементарный порядок складывается путем утверждения и отрицания, «да» и «нет», «1» и «0». Поэтому образ антигероя с его негативным семантическим статутом является весьма полезной «находкой» самой человеческой эволюции с ее социобиоинтенцией. Этот образ служит средством борьбы с системной дезорганизацией, инструментом утверждения социального порядка, поскольку используется в качестве преграды системным отклонениям, не только нежелательным, но и в целом ряде случаев приводящим к гибельным последствиям. Здесь действует уже известный нам общий закон: субъективное осуждение, отрицательные оценки, презрительные эпитеты, которые необходимо содержит в себе образ антигероя (напомним, что все подобные образы, как правило, на феноменологическом уровне сопровождаются руганью, проклятиями, весьма нелестными сравнениями, отрицательными эмоциями, карикатурами), объективно направлены на устранение беспорядка (дезорганизации), хотя субъект этого в подавляющем большинстве случаев не осознает. И если герой служит воплощением разрешения на те или иные отклонения, субъективно оцениваемые в рамках данной культуры как «положительные», если герой, иначе говоря, это социальное «да», это «плюс», это «единица», это «выигрыш», то антигерой это социальное «нет», «нет» отклонениям, воспринимаемым и оцениваемым в обществе как «отрицательные». Антигерой это «минус», это «проигрыш», это «потеря», это «погибель», если продолжить речь об онтологических отклонениях в их метафорических образах. Да и вообще герой и антигерой суть метафорические образы социальных отклонений. Они «изобретены» человечеством дабы уберечь социальную организацию от разрушительной энтропии. Только, если герой призван делать это прямо и в подавляющем большинстве случаев открыто, то антигерой выполняет то же дело чаще всего окольно, навыворот (тут нельзя не вспомнить гениального Конфуция с его учением о «мире навыворот»).
Об общей экзистенциальной природе героя и антигероя свидетельствуют следующие факты. Теперь нам хорошо известно, что в различных культурах имеют место образы героев мифологических и реальных, но точно так же, следует теперь заметить, что в тех же культурах имеют место образы антигероев мифологические и реальные. Для примера в числе первых может быть назван Вельзевул – «князь бесовский». В числе вторых – Калиостро.
Мы уже отмечали, что антигерой, как и герой, имеет соответствующий (негативный) семантический статут, опять же созданный и воссоздаваемый в человеческом сознании, в общественном мнении посредством искусства, литературы, нарративов, средств массовой информации и т. д. Откроем энциклопедический словарь «Христианство». Читаем: «Иуда Искариот. Предатель Христа… Он открыл синедриону местопребывание последних дней Иисуса»[15]. Более обширно раскрывается статут Иуды Искариота как предателя, корыстолюбца, сребролюбца, лицемера в изданной в 1891 году «Библейской энциклопедии»[16]. Иуда из Искариота – типичный антигерой. Его имя стало нарицательным и даже синонимом предательства, измены, отступничества, оборотничества. Во всем христианском мире «поцелуй Иуды» – символ двуличия, лицемерия, безнравственности. Его образ вызывает чувства негодования, презрения, отвращения, чем, собственно, и достигается необходимый результат: поставить преграду распространению данной разновидности отклонения от христианского догмата, христианской морали (этоса), а вместе с тем внести в общество (в христианскую общину, христианскую конфессию) требуемый порядок и требуемое единство.
В современную эпоху, кроме всего прочего, происходит активная переоценка ценностей, оставленных ей в наследство всей предшествующей культурой. Смысл происходящего нередко передается термином «бунт»[17]. В общественной жизни бунт выражается в политических акциях, в массовых, главным образом молодежных, движениях (хиппи, битники, «новые левые» и пр.). В науке, философии, религии он проявляется в новых, «нетрадиционных» учениях (З. Фрейд, Дж. Кришнамурти и др.), в художественной литературе, поэзии – в модернистских течениях (футуристы В. Хлебников, Д. Бурлюк и др.), в театральном искусстве – в «театре абсурда» (Э. Ионеско и др.), в живописи – в «авангарде» (К. Малевич, В. Кандинский и др.), в музыке – в «роке», «фолке», «фри» (Э. Пресли, Б. Дилан, группы «Битлз», «Роллинг Стоунз» и др.), в бытовой (сексуальной) сфере – в движениях сексуальных меньшинств.
У истоков своеобразной идеология бунта, несомненно, стоит Ф. Ницше с его идеей «переоценки ценностей» и тезисом «свободный человек безнравственен». Достаточно четкие очертания идеология бунта получила в трудах Ж. Батая, связывавшего человеческую свободу с «суверенностью» и «трансгрессией». Позаимствовав последнее понятие у Гегеля, французский философ и социолог использует его именно в смысле бунта – бунта против сугубо условных, принятых и соблюдаемых норм. Трансгрессия – латинская транскрипция бунта, бунта против нравственных и вообще мировоззренческих констант. Трансгрессия – это вызов человеческой «нормальности».
Антигерой – личность, свободная от моральных ограничений в достижении своих «сверхцелей». В получившем мировую известность эссе «Литература и зло» Ж. Батай пишет в связи с трансгрессией: «Нарушение запретов… требует мужества и решительности. Если у человека есть мужество, необходимое для нарушения границ, – можно считать, что он состоялся»[18].
Антигерой – феномен цивилизованного общества (цивилизации). И этот феномен, которого не знало первобытное общество, следует рассматривать в органической связи с процессами, обобщенно называемыми нами «героизацией порока». Именно такое отношение наблюдается к де Саду как личности и его творчеству со стороны некоторых французских сюрреалистов, на что обращает внимание тот же Батай[19]. С нашей же точки зрения, де Сад – классический пример антигероя. А на то, что антигерой, действительно, есть продукт цивилизации, указывают многочисленные факты. В современном искусстве, что называется, на каждом шагу мы встречаемся с эстетизацией и этизацией патологии, в средствах массовой информации (телевидение, кино, бульварные журналы и пр.) – с популяризацией деструктивности, криминала. Вспомним формулу Бодлера: «Цветы зла», метафору уже упоминавшегося Батая: «Солнечный анус», браваду Маяковского: «Пощечина общественному вкусу». Беда, а правильнее сказать зло, во всех подобных случаях заключается в том, что невинный, как это может показаться на первый взгляд, эпатаж переходит рамки допустимой в искусстве условности и становится модусом реального поведения, причем не одного-единственного индивида, а значительных масс людей, целых поколений. И в том, что патофилия, вместо того чтобы вызывать подобающие осуждение, чувство омерзения у людей, возносится в ранг подвига, нельзя не увидеть зловещий симптом, в связи с которым сразу вспоминаются данные К. Хорни и Э. Фроммом определения современного общества как «больного», «пораженного деструкцией».
Несколько лет назад в нашей стране была издана переведенная на русский язык книга «Секс Пистолз» о скандально известном рок-ансамбле. В каком же виде представлены здесь похождения его участников – наркоманов, хулиганов, извращенцев? Романтически-героическом! Форма изложения материала, фотографии явно рассчитаны на сочувствие, более того – восхищение, которые могут возникнуть только у морально неокрепшего читателя.


