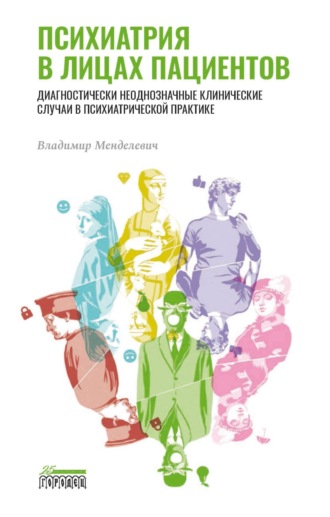
В. Д. Менделевич
Психиатрия в лицах пациентов. Диагностически неоднозначные клинические случаи в психиатрической практике
Артем не скрывает от своих знакомых наличие «особенности». С его слов, те терпят, когда он им постоянно говорит «подожди», и ждут. «С ними мне комфортнее, чем с незнакомыми. Когда я один, мне легче, чем с людьми. Но даже когда я один, особенность у меня все равно немного есть. Говорить с человеком по телефону мне проще, чем вживую. Потому что можно всегда положить трубку».
Артем считает, что он мог бы легко и сразу отказаться от своей особенности, если бы ему сказали, что завтра он совершенно точно умрет: «Тогда я действительно ничего не буду проверять в течение дня. Какая разница, если я что-то упущу? Я не могу представить себе другой ситуации, чтобы мне удалось так легко избавиться от особенности». Отмечает, что в настоящее время «особенность» находится на довольно низком уровне и что он живет «нормальной жизнью», когда «легко удается постоянно удерживать ноль». Однако в периоды стрессов «особенность» обостряется: был даже эпизод, когда Артем мысленно неоднократно говорил себе: «ноль, ноль, ноль», чтобы его «не упустить».
Наиболее сильное обострение, по мнению Артема, было в период, когда он учился на пятом курсе МГУ. В то время он не мог нормально говорить по телефону с мамой, «брал в руки телефон, заносил палец, чтобы позвонить, и подолгу проверял ноль, прежде чем позвонить. А в момент, когда говорил по телефону, мозг мог переполняться от информации», и приходилось бросать трубку. Такое состояние однажды продолжалось несколько часов.
Вспоминает, что был случай, когда он проснулся как обычно, распечатал какие-то документы, вышел из салона печати, сел на лавочку и долго прокручивал события. «Проходящие люди меня постоянно сбивали». Потом, так и «недопрокрутив их», он пошел домой и продолжил их прокручивать там. Так продолжалось трое суток. В итого он не спал все эти дни, ничего не ел и практически не пил воды. По прошествии этого времени, не сумев до конца «все прокрутить», решил все же лечь спать. Наутро «все-таки до-прокрутил события, по результатам выписал из них в компьютер определенное количество дел, ну а потом разобрал эти дела».
Психический статус и динамика состояния. В кабинет вошел неуверенной походкой, ссутулившись. Выглядит диспластичным, неуклюжим, волосы в беспорядке. Сообщил, что обращение к психиатру связано с настоятельной рекомендацией родственников, хотя и у него «есть к специалисту некоторые вопросы». Попросил побеседовать с ним наедине, а не в присутствии тети и мамы. Речь тихая, малоинтонированная. В глаза собеседнику практически не смотрит. Мимика скупая, но эмоциональные реакции присутствуют и носят синтонный (соответствующий ситуации) характер. Внимательно слушает врача, но в большей степени ориентирован на то, чтобы максимально точно донести до собеседника суть своей проблемы. Излагает информацию подробно, системно. В руках держит телефон, куда периодически заносит какие-то фразы врача, звучащие в процессе беседы. Внимателен к тому, что говорится, но не склонен переспрашивать. Считает, что его не до конца понимают (даже врач). Реагирует, если его перебивают и задают несущественные вопросы. Настроение неустойчивое, раздражается, когда разговор идет не по его плану. Записывает в телефон то, что говорит врач. «Я действительно веду себя странно в той части, что иногда говорю людям «подожди», торможу и прочее. Но это происходит, на мой взгляд, довольно редко».
Сообщает, что в первую очередь озабочен своей «особенностью». Неоднократно возвращается к этой теме, подробно рассказывает о том, как он «удерживает ноль дел». Заглядывает в глаза врача, пытаясь обнаружить признаки того, что тот его правильно понял. К теме «особенности» возвращается вновь и вновь, отвергая точку зрения о том, что это навязчивость. «Как я понимаю, навязчивость – это когда человеку постоянно приходят какие-то мысли или он постоянно совершает какие-то действия, ненужность которых он в принципе сознает. Так вот, моя проблема в том, что я медленно воспринимаю реальность, и мне периодически нужно брать паузу. Я хочу стать эффективнее. Быстрее думать, быстрее воспринимать реальность. Хочу, чтобы «ноль дел» стало моим обычным состоянием, чтобы я не сомневался».
К необходимости терапии демонстрирует двойственное отношение. С одной стороны, подтверждает, что проблема «удерживания нуля» присутствует, является мучительной и от нее хотелось бы избавиться («идеально, если бы по волшебству»). С другой, говорит о том, что когда он ранее ходил к психиатрам, то у него была надежда вылечиться, но теперь он разочаровался в специалистах: «все врачи говорят разное, будет ли какой-нибудь эффект от разного лечения, совершенно неясно». Задает вопрос о конечной цели терапии: «Какой именно будет эффект от психотропных лекарств? Я после этого смогу удерживать «ноль», не думая о нем постоянно, как все нормальные люди? Или же я не буду постоянно сомневаться в «нуле»?»
Особенно Артема волнует вопрос о том, «нет ли опасности сойти с ума» и не сможет ли его «особенность» перерасти в шизофрению. Готов лечиться, но не верит в то, что лекарства могут помочь. «Систему дел» не считает патологической. Мышление обстоятельное, со склонностью к гипердетализации. Признаков бреда или галлюцинаций нет. Интеллект высокий. Считает, что с появлением «особенности» стал менее продуктивен: забросил доработку «бота» и в связи с этим стал меньше зарабатывать. Не считает себя особо замкнутым, приводя примеры из жизни.
Не согласен с заключениями психиатров, которые говорили ему о наличии шизофрении и настаивали на необходимости лечиться. Имел неоднозначный опыт приема психофармакологических средств. Так, через пять дней после приема назначенного врачом амисульприда (солина) в дозе 200 мг в сутки в сочетании с антидепрессантом из группы СИОЗС по ночам стали появляться выраженная тревога, учащенное сердцебиение, затруднения дыхания. В одну из ночей возник страх, что он задохнется и умрет. Однако утверждает, что одновременно на какое-то время «особенность, возможно, уменьшилась» и «возможно, производительность увеличилась»: «Я, как и все нормальные люди, перестал воспринимать свое постоянное нахождение дома за компьютером и в размышлениях как норму, мне такое времяпровождение стало скучным, и я перестал его смаковать». Принимал лечение менее двух недель. По собственной инициативе отказался от дальнейшего лечения психотропными лекарствами, несмотря на незначительное улучшение состояния. После этого по настоянию родственников обратился к другим психиатрам, которые сообщили ему о том, что причиной его состояния стала стрептококковая инфекция. Начал принимать антибиотики, а также назначенную транскраниальную магнитную стимуляцию, БОС, целебрекс и танакан. Терапия в течение двух недель эффекта не дала. В настоящее время лечения не принимает.
Психологическое исследование. Нарушение операциональной стороны мышления, заключающееся в существенном искажении процессов обобщения. Обобщение с опорой на латентные признаки. При выполнении методики «сравнение понятий» испытуемый обнаружил сходство между всеми несравнимыми понятиями: «Река/птица – оба природа», «Ботинок/карандаш – оба продукты жизнедеятельности», «Стакан/петух – оба помещаются в комнате», «Ветер/соль – оба относятся к природе». Шкала шизотипического расстройства (SPQ) = 22,5 (норма). По субшкалам: идеи отношения – 0, избыточная социальная тревожность – 5,5, странные убеждения или магическое мышления – 0, необычный опыт восприятия – 1, странное или эксцентричное поведение – 5, отсутствие близких друзей – 6,5, странная речь – 0,5, уплощенный аффект – 2, подозрительность – 2.
На электроэнцефалограмме признаки выраженной дезорганизации биоэлектрической активности головного мозга. По данным МРТ, признаки умеренно тесной задней черепной ямки. Данных за очаговые изменения, объемные процессы, гидроцефалию не выявлено.
Обсуждение
Дискуссионность клинического случая Артема С. и противоречивые диагностические заключения в отношении его психической патологии обусловлены, с одной стороны, специфическим сочетанием высокого интеллекта и творческой продуктивности пациента с критической оценкой имеющихся у него психотических или псевдопсихотических мыслительных нарушений, с другой – тем, что проблематичным представляется отграничение осознанно выбранной пациентом системы жизни в виде поведенческих ритуалов с ананкастной симптоматикой.
Доминирующими в клинической картине психического расстройства следует признать расстройства мышления (гипердетализация, аморфность и обсессии), аутизм и компульсии. Вследствие этого круг дифференциальной диагностики включает шизоидное расстройство личности, шизофрению, шизотипическое расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство и синдром Аспергера. Часть из перечисленных диагнозов выставлялись пациенту до настоящего обращения, в частности шизофрения и шизотипическое расстройство, по поводу которых проводилось лечение с использованием психофармакологических лекарственных средств.
Некоторые психопатологические симптомы, обнаруживаемые в клинической картине заболевания Артема, внешне сходны с типичными для шизофренического спектра расстройствами. К ним, в частности, можно отнести аморфность мышления (особенно при описании пациентом проблемы «удерживания нуля»), подтвержденную в патопсихологических экспериментах на основании обнаружения нарушения операциональной стороны мышления в виде существенного искажения процессов обобщения и опорой на латентные признаки. Кроме того, основанием для постановки диагноза «шизофрения» и «шизотипическое расстройство» становились и другие выраженные ассоциативные нарушения, в частности обсессии, носящие у Артема «вычурный», оторванный от реальной жизни характер. Речь идет о навязчивых мыслях, о необходимости постоянно удерживать в голове «ноль дел». Следует отметить, что периодически эти обсессии достигали крайней степени выраженности, вызывали беспокойство и страх, приводили к грубой дезорганизации деятельности пациента и внешне отражали «явную неадекватность поведения» (со слов родственников). Психиатры, выставлявшие Артему диагноз «шизофрения», расценивали данные эпизоды как проявления ассоциативных нарушений – ментизма («наплывов мыслей») и диссоциации психических процессов. Однако выскажем предположение о том, что «вычурными» обсессии в данном случае могут быть признаны исключительно при поверхностном анализе. Фактически они логически и смыслово связаны с субъективно наиболее значимой частью повседневной деятельности пациента – сохранением и поддержанием «систем дел». В таком случае понятным становится появление навязчивого страха утратить ставшую за многие годы устойчивой систему, которую сам пациент называет «смыслом [своей] жизни».
Основанием для постановки диагноза «шизотипическое расстройство» для. других психиатров, осматривавших пациента, служили аутизация пациента, его социальная отгороженность, плохой контакт с окружающими, чудаковатость во внешнем виде, эксцентричность поведения и эмоциональная отрешенность. Несмотря на то что диагноз «шизоидное расстройство личности» Артему не ставился, в клинической картине его расстройства можно было обнаружить некоторые типичные проявления: ангедонию, эмоциональную холодность, уплощенную аффективность, неспособность проявлять теплые, нежные чувства по отношению к другим людям, слабую ответную реакцию как на похвалу, так и на критику, повышенную озабоченность фантазиями и интроспекцией, нечуткость к превалирующим социальным нормам и условиям, отсутствие близких друзей и доверительных связей. Возможно, данный диагноз не ставился потому, что перечисленными критериями не исчерпывалась клиническая картина заболевания.
Диагноз «обсессивно-компульсивное расстройство» можно было предполагать у Артема на основании типичных для данного расстройства проявлений в виде тягостных, неприятных навязчивых мыслей, расцениваемых пациентом как собственные, которым он безуспешно сопротивляется [3]. Спецификой навязчивостей в анализируемом случае следует признать то, что пациент готов с ними «мириться», не стремясь к активному поиску избавления, в частности к терапии.
С нашей точки зрения, список предполагаемых диагнозов в анализируемом случае целесообразно расшить за счет включения в него синдрома Аспергера,[4] которому в последние годы уделяется все большее внимание в психиатрической литературе. Известно, что данный диагноз относится к аутистическому спектру расстройств и выставляется преимущественно в детском возрасте [5, 6]. При взрослении пациентов он обычно переквалифицируется в аутистическое (шизоидное) расстройство личности [6]. Однако в последнее время специалистами все чаще ставится вопрос о допустимости первичной диагностики данного расстройства в период ранней взрослости [2, 14, 20]. В соответствии с критериями DSM синдром Аспергера диагностируется на основании обнаружения у пациента нарушений социальной коммуникации, эмпатии, неравномерности психического развития, стереотипизации поведения, интересов, активности на фоне нормального развития интеллекта, речи и других способностей. Полный перечень критериев включает следующие феномены (курсивом выделены признаки, обнаруженные у Артема):
1. Качественное затруднение социальных взаимодействий, демонстрируемое как минимум двумя признаками из следующих:
Выраженные нарушения в использовании многочисленных несловесных нюансов поведения (контакт глазами, выражения лица, тело, осанка и жесты).
Неспособность развить отношения со сверстниками до уровня, соответствующего общему развитию.
Отсутствие спонтанного побуждения разделять радость, интерес или достижения с другими людьми.
Отсутствие социальной или эмоциональной взаимности.
2. Ограниченные, повторяющиеся и стереотипные шаблоны поведения, интересы и занятия, демонстрируемые как минимум одним признаком из следующих:
Всепоглощающее увлечение одним или несколькими стереотипными наборами интересов, аномальное либо в интенсивности, либо в сосредоточении.
Негибкое следование конкретным ежедневным рутинам и ритуалам.
Стереотипные и повторяющиеся моторные движения.
Постоянная сосредоточенность на частях предметов.
3. Нарушение приводит к клинически значимым недостаткам в социальной, профессиональной или других важных сферах деятельности.
4. Клинически не значимая общая задержка развития речи.
5. Клинически не значимая задержка в когнитивном развитии или в развитии навыков самообслуживания.
Признанный научный факт, что расстройства аутистического спектра, в частности синдром Аспергера, не могут приравниваться к шизофрении или шизотипическому расстройству [4,10-12,15], несмотря на определенные их сходства [7]. Разработаны критерии дифференциации синдрома Аспергера (СА) и шизоидного расстройства личности (ШРЛ). Отмечается, что для пациентов с СА типично конкретное целеориентированное мышление, тогда как при ШРЛ мышление абстрактное, отвлеченно-философское, а также меньшая креативность, но большая комбинаторность. У аутистов, в отличие от «шизоидов», сохраняются побуждения к контактам, но ограничена возможность их налаживания, сохранена потребность во взаимодействии, но «отключена» эмпатия, и многие из них способны к глубокой привязанности [1,16].
Клиническая картина психического расстройства Артема С. во многом сходна с основными критериями диагностики синдрома Аспергера. Основной его чертой с детства было нарушение социальной коммуникации и стереотипизация поведения. При этом он отличался эмоциональной привязанностью к близким, высоким интеллектом и математическими способностями. В период обучения в лицее был достаточно общителен (участвовал в выпусках стенгазеты, иных общественных мероприятиях, выступал на публике). Основной его особенностью с детского возраста стала разработанная им «система дел», в соответствии с которой строилась вся его жизнь. При этом не обнаруживалось дезадаптации, снижения продуктивности или эмоционального дискомфорта. Артему удавалось зарабатывать деньги и продолжать успешно учиться. Никаких иных психопатологических симптомов до подросткового возраста не наблюдалось (если «систему дел» позволительно назвать психопатологической). Эпизодически появлялись детские страхи и опасения.
В дальнейшем на фоне «системы дел» появилась «особенность», к которой сам пациент относился не так, как к «системе дел». Проблему «удерживания нуля» Артем считал и считает тягостной, мешающей, инородной. Со свойственной ему склонностью к систематизации жизни он подошел и к решению данной проблемы: выработал четкие ритуалы, позволяющие ему «удерживать ноль» и избегать эмоционального дискомфорта. Периодически в ситуациях стресса ритуалы не помогают, что приводит к фрустрации, тревоге и страхам. Однако ни в одном из подобных эпизодов Артем не утрачивал контроля за ассоциативным процессом, никогда не утверждал, что данные обсессии носили «сделанный» или «навязанный» характер.
Можно утверждать, что в клинической картине заболевания обследованного никогда не появлялись симптомы, типичные для шизофрении: не отмечалось ни бредовых идей, ни псевдогаллюцинаций, ни качественных расстройств мышления (разорванности, соскальзываний, резонерства, разноплановости и др.). Выявленные в процессе патопсихологического исследования нарушения операциональной стороны мышления, заключавшиеся в существенном искажении процессов обобщения и опоре на латентные признаки, следует признать особенностями мышления человека, обладающего высоким интеллектом, творческими математическими способностями и специфическими отклонениями нейропсихологического развития. Кроме того, считается, что синдрому Аспергера могут быть присущи признаки аморфности мышления, выражающиеся в утрате смысловой целостности рассуждений, в застревании на мелочах, повышенной обстоятельности, чрезмерной и непродуктивной рефлексии. У пациентов отсутствует или сведена к минимуму способность многостороннего осмысления фактов, существенно редуцированы внутренний диалог и способность на основании критического анализа выдвигать и осуществлять вероятностную оценку гипотез [8].
По мнению F-G. Lehnhardt и соавт. [17], дифференциальная диагностика синдрома Аспергера с иными расстройствами должна базироваться на анализе следующих клинических феноменов (таблица 1).
Таблица 1. Дифференциации синдрома Аспергера с иными психопатологическими расстройствами, характеризующимися нарушением социальных взаимоотношений

В соответствии с представленными дифференциально-диагностическими критериями психическое состояние Артема С. с большой степенью вероятности соответствует критериям диагностики синдрома Аспергера. Однако следует отметить, что клиническая картина заболевания обследованного представляет собой сочетание базисных (первичных) психических и поведенческих нарушений в виде типичной для синдрома Аспергера аутизации и гипердетализации жизни («системы дел»), а также вторичного расстройства – «особенности», которую следует отнести к проявлениям обсессивно-компульсивного расстройства.
Таким образом, дифференциальный анализ клинического случая 25-летнего математика Артема С. позволяет выставить ему двойной диагноз: «синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство». В литературе отмечается, что для синдрома Аспергера скорее правилом, чем исключением является высокий уровень коморбидности. По данным различных авторов, депрессивные расстройства при этом диагностируются у 28%, СДВГ – у 28%, тревожные расстройства – у 22% [13], а различные обсессии – от 15% соматических до 60% контаминационных [9,18,19]. Представленный случай следует признать трудным в плане дифференциальной диагностики, эффективной терапии и коррекции.
Литература
1. Бобров А. Е., Сомова В. М. Нарушения коммуникации у больных с синдромом Аспергера // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. 2013; 3: 17-24.
2. Быховский О. Б. Возрастные особенности синдрома Аспергера // Мир психологии. 2014; 3: 267-273.
3. Крылов В. И. Навязчивые состояния (психопатологические аспекты диагностики и систематики) // Психиатрия и психофармакотерапия. 2007; 6: 15-19.
4. ОзгунА., СейланМ. Э. Аутизм взрослых – отличия от шизофрении (клинические наблюдения). Российский психиатрический журнал. 2005; 5: 21-23.
5. Пашковский В. Э. В поисках аутизма. Неврологический вестник. 2017; 1: 40-48.
6. Расстройства аутистического спектра: диагностика, лечение, наблюдение. Клинические рекомендации (протокол лечения). Н. В. Симашкова, Е. В. Макушкин. 2015. [Электронный ресурс] URL: http://psychiatr.ru/news/411 (дата обращения: 31.01.2023).
7. Смулевич А. Б. Малопрогредиентная шизофрения и пограничные состояния. М., 2009. 256 с.
8. Сомова В. М. Отдаленные этапы нарушений психического развития с картиной высокофункционального аутизма: Автореф. дис.... канд. мед. наук. М., 2013. 23 с.
9. Bejerot S. An autistic dimension. A proposed subtype of obsessive-compulsive disorder. Autism. 2007; 1 (2): 101-110.
10. Dossetor D. R. All That Glitters Is Not Gold: Misdiagnosis of Psychosis in Pervasive Developmental Disorders – A Case Series. Clin Child Psychol Psychiatr. 2007; 12 (4): 537-548.
11. Fitzgerald M. Schizophrenia and autism / asperger’s syndrome: overlap and difference. Clinical Neuropsychiatry. 2012; 9 (4): 171-176.
12. Goldstein G., Minshew N. J., Allen D.N. et al. High-functioning autism and schizophrenia. A comparison of an early and late onsetneurodevelopmental disorder. Archives of Clinical Neuropsychology. 2002; 17: 461-475.
13. Helles A. Asperger syndrome in males over two decades. Gothenburg, Sweden. 2016: 82.
14. Helles A., Wallinius M., Gillberg I. C. et al. Asperger syndrome in childhood – personality dimensions in adult life: temperament, character and outcome trajectories. BJPsych Open. 2016; 2:210-216.
15. Hurst R. M., Nelson-Gray R.O., Mitchell J. T. et al. The Relationship of Asperger’s Characteristics and Schizotypal Personality Traits in a Non-clinical Adult Sample. J Autism Dev Disord. 2007; 37: 1711-1720.
16. Lugnegard T., HallerbackM. U., Gillberg Ch. Personality disorders and autism spectrum disorders: what are the connections? Comprehensive Psychiatry. 2011.
17. Lehnhardt F-G., GawronskiA., PfeifferK. etal. The Investigation and Differential Diagnosis of Asperger Syndrome in Adults. Dtsch Arztebl Int. 2013; 110 (45): 755-763.
18. MazzoneL., Ruta L., Reale L. Psychiatric comorbidities in asperger syndrome and high functioning autism: diagnostic challenges. Annals of General Psychiatry. 2012; 11:16.
19. Russell A. J., Mataix-Cols D., Anson M. et al. Obsessions and compulsions in Asperger syndrome and high-functioning autism. British Journal of Pssychiatry. 2005; 186: 525-528.
20. SintesA., Arranz B., Ramirez N. et al. Asperger Syndrome Can the disorder be diagnosed in the adult age? Aetas Esp Psiquiatr. 2011; 39 (3): 196-200.


