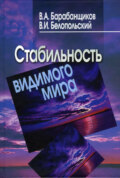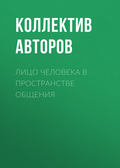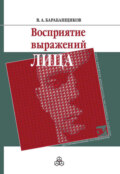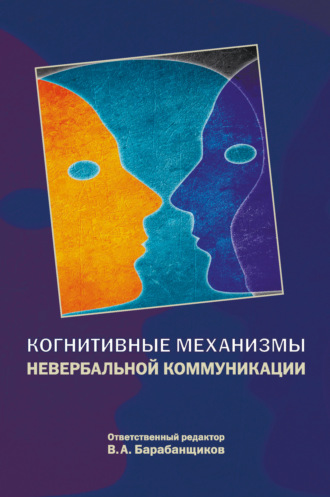
В. А. Барабанщиков
Когнитивные механизмы невербальной коммуникации
1.7. Восприятие «этнического лица»
В конце 60-х гг. прошлого века впервые был экспериментально исследован антропологический феномен, получивший название «эффект другой/своей расы» или «кросс-расовый эффект» (Malpass, Kravitz, 1969): в условиях межрассовой коммуникации лучше распознаются лица представителей своей расы. Общей причиной этого явления считается тот факт, что в онтогенезе опыт общения с людьми своей расы/этноса значительно превосходит опыт общения с представителями других этнических групп (Lingyun et al., 2007; Харитонов, Ананьева, 2012).
В наших исследованиях специфика проявления «эффекта другой расы» изучалась в разных этнокультурных контекстах. В организации исследований мы исходили из представлений о категориальности восприятия, показанной, в частности, в исследованиях эмоциональных экспрессий лиц (Жегалло, 2007). Мы также опирались на данные о существовании характерных групп кластеров зрительных фиксаций на экспрессивных элементах изображений лиц (экзонах) – изостатических паттернов (Ананьева, Барабанщиков, Харитонов, 2010) и на представления о характере референции языковых единиц в выбранном нами типе экспериментальных задач – топо-семантической специфике вербального кодирования значимых для решения коммуникативной задачи элементов изображения. Экспериментально изучалось индивидуальное решение дискриминационной АВХ-задачи, опознание этнических лиц по вербальному описанию, совместное опознание изображений лиц диадой испытуемых. Использовалась процедура морфинга – построения переходного ряда между фотографиями лиц европеоида (русский) и монголоида (тувинец), а также прием построения «обобщенного лица»: усредненного по восьми фотографиям изображения лиц европеоидов и моноголоидов – с последующим морфингом переходного ряда. В парных экспериментах общение испытуемых происходило на языке обследуемого контингента.
Исследование эффекта категориальности восприятия обобщенных (усредненных) изображений лиц разного расового типа (европеоидов и монголоидов), показало, что тувинцы чаще, чем русские, определяли женское изображение, состоящее на 60 % из русского лица и на 40 – из тувинского, как русское (87 % распознавания у тувинцев и 75 % – у русских). В то же время русские испытуемые также чаще, чем участники-тувинцы, распознавали изображение, состоящее на 60 % из лица другой расы, как относящееся к тувинской расе (90 % против 79 %). Это означает, что граница перехода к преобладанию расовых признаков другой расы более очевидна для обеих рас, чем граница перехода к преобладанию признаков своей расы. В распознавании расового типа для тувинцев характерны более резкие границы перехода (Ананьева и др., 2015).
Исследование совместной идентификации диадой испытуемых нативных и морфированных изображений лиц монголоидной и европеоидной рас продемонстрировало эффекты сходные с эффектом индивидуальной категориальности восприятия лиц разных рас, но не для всех стимульных рядов. Сравнительный анализ диалогов участников исследования позволил выделить зоны лица, которые наиболее часто обсуждаются в ходе решения задачи. Как в диалогах, так и в паттернах движений глаз обе группы испытуемых уделяли наибольшее внимание зонам «волос», «лба» и «челки», что очевидным образом объясняется диагностической силой этих элементов при определении расовой принадлежности лица. Для испытуемых-тувинцев практически по всем зонам интереса среднее число зрительных фиксаций преобладает – за исключением зон «переносица» и «нос», где эта величина оказалась больше для русских участников. Эпизоды «совместного внимания» обнаружены как для русских, так и для тувинцев. Однако только для русских испытуемых среднее количество зрительных фиксаций при правильных ответах статистически значимо.
Идентификация фотоизображений с вербальными описаниями, происходящая в ситуации реального живого диалога (Леконцев, Ананьева, Харитонов, 2015), успешно выполнялась практически всеми участниками исследования. Наименее точно соотносились описание монголоида с изображением монголоида, что свидетельствует в пользу классического проявления «эффекта другой расы».
При обработке данных этого исследования была реализована попытка использования элементов топо-семантического анализа (Ананьева, Харитонов, 2011) и представлений об изостатических паттернах для анализа соотнесения воспринимаемых изображений лиц и звучащего текста. С использованием кластерного анализа, методом К-средних для каждой экспериментальной ситуации были выделены группы участников исследования со сходными изостатическими паттернами рассматривания фотоизображений лиц. Проведенный анализ показал, что в коммуникативной ситуации, несмотря на устойчивость обобщенного изостатического паттерна, основное влияние на распределение частных фиксационных кластеров по лицу оказывает звучащий текст. Выявлены эпизоды различной референции формально соответствующих языковых единиц в зависимости от языка общения. Так, например, для европейцев азиатские лица являются желтыми, в то время как тувинцы называют желтыми (сарыг) европейцев. Однако, если в первом случае отсылка идет скорее к характерному цвету кожного покрова, то во втором – к цвету волос, с точки зрения тувинца являющемуся доминирующим признаком европейца. В свою очередь, это в значительной мере определяет, в какую часть лица будет смотреть слушающий.
При сравнении результатов индивидуального решения дискриминационной АВХ-задачи и экспериментов по совместной идентификации лиц диадой испытуемых обнаружено удовлетворительное соответствие конфигурации паттернов обобщенных кривых категориальности восприятия и успешности решения задачи на идентификацию в парном эксперименте. Сравнение решения АВХ-задачи русскими и тувинцами показывает небольшой сдвиг пика эффективности перцептивного различения к монголоидному полюсу в обоих случаях, однако эффект категориальности сильнее выражен у тувинцев.
Согласно выполненным исследованиям процедура решения дискриминационной ABX-задачи может использоваться как диагностический метод. Речь идет о выявлении перцептивных категорий, неочевидных для исследователя. Так, обнаружилось, что в небольшой популяции тувинцев-тоджинцев кривая категоризации дала «провал» вместо подъема в средней части переходного ряда. Другими словами, на теоретической границе категорий европеоид-монголоид различение было не лучше, как это предполагается классическими исследованиями категоризации, а хуже, что позволило предположить, что тоджинцы выделяют в стимульном материале не две, а три этнические группы. В этих экспериментах на монголоидном полюсе переходного ряда стимульного материала использовалась фотография лица казаха. Дополнительное изучение популяции позволило установить, что для Тоджинского района Тывы характерна интрузия казахского населения, что, вероятно, и сформировало дополнительную перцептивную категорию. При использовании этого переходного ряда, а также ряда русский-тувинец в других тувинских популяциях обнаруженный эффект воспроизведен не был.
Таким образом, «эффект другой расы» на перцептивном уровне выступает как сложно организованное системное явление. Этно-и социокультурный контекст и индивидуальная история общения с представителями других этнических групп играют существенную роль в характере актуального восприятия этнического лица.
1.8. Динамика восприятия выражений лица
Распознавание выражения лица в короткие интервалы времени (здесь-и-сейчас) совершается в форме визуального контакта наблюдателя с виртуальным коммуникантом, опосредованным поиском и использованием экзонов, перманентным переструктурированием и достраиванием зрительного образа натурщика. Окуломоторная активность обеспечивает этот процесс, отражая его протекание в своих функциональных возможностях. Зрительные фиксации реализуют ряд функций (коммуникативную, когнитивную, регулятивную), характеризуются определенным предметным содержанием (интенциональность, оперативные единицы восприятия), местом в структуре решаемой задачи, сложностью обработки информации (концентрация/распределение внимания, нагрузка) и отношением к ней наблюдателя. Развертывание перцептивного процесса проявляется в маршрутах обзора лица, подчиненных его структуре и требованиям задачи.
Доминантность восприятия, или преимущественная фиксация сторон лица, является системным эффектом, обусловленным совокупным действием разнотипных детерминант. Она имеет знак (правосторонняя/левосторонняя, верхняя/нижняя) и величину (степень асимметрии фиксаций сторон), которые характеризуют функциональную нагрузку отдельных половин лица в процессе решения перцептивной задачи. При экспозиции сильных экспрессий эффект доминантности отсутствует, при экспозиции слабых – носит правосторонний характер. Наиболее ярко доминантность выражена в вертикальном измерении: количество фиксаций и их продолжительность в верхней половине лица в полтора раза превышает соответствующие показатели в нижней. При экспозиции сильных эмоций величина эффекта увеличивается, при экспозиции слабых – уменьшается. Доминантность выражает меру интереса (внимания) к одной из сторон лица и тем самым характеризует общую стратегию его восприятия.
Прямая связь между расположением и длительностью фиксаций в какой-либо половине спокойного лица и продуктивностью его распознавания отсутствует. Подчиняясь собственным закономерностям, глазодвигательная активность обеспечивает поиск диагностических признаков экспрессии, их сопоставление, установление различий, соотнесение с целым изображением. Она реализует процесс визуального мышления – зрительного анализа, синтеза, сравнения, обобщения фотопортретов, их соотнесение с коммуникативным опытом наблюдателя, выдвижение и проверку перцептивных гипотез и др.
Распределение фиксаций по зонам интереса зависит от интенсивности экспрессий. Если при сильной экспрессии признаки модальности эмоций (α- и β-экзоны) и/или новый взгляд на выражение лица ищутся преимущественно в области левого глаза и рта, то при слабых экспрессиях поиск выходит за пределы зон интереса, а значения этих зон становятся более однородными. При сильно выраженных эмоциях зрительные фиксации различных зон интереса относительно постоянны (tср = 271 мс). При слабо выраженных эмоциях эта величина возрастает (tср = 280 мс) и зависит от местоположения фиксаций на поверхности лица. Продолжительные фиксации связаны с зоной рта (tср = 320 мс), короткие – с областью носа (tср = 249 мс) и левого глаза (tср = 259 мс). Динамика временного режима выполнения отдельных фиксаций говорит о разной содержательно-смысловой нагруженности зрительных фиксаций при восприятии сильных и слабых экспрессий.
Маршруты обзора пролегают внутри изображения лица и носят циклический характер. Амплитуды саккад соразмерны локализации глаз, носа и губ. При восприятии базовых экспрессий с разной частотой реализуются пять разновидностей изостатических паттернов окуломоторной активности: «треугольный» (70 %), «топический» (11,5 %), «линейный вертикальный» (7,5 %), «диагональный» (7 %) и «линейный горизонтальный» (4,5 %). Разнообразие вариантов зарегистрированных паттернов и их сочетаний говорит о стиле окуломоторной активности конкретного наблюдателя, обеспечивающем индивидуальное своеобразие выполнения перцептивно-коммуникативных задач.
Восприятие лица в целом и его отдельных элементов носит зональный характер: выделение одного и того же признака экспрессии допускает различную направленность глаз – оперативную зону фиксации. Размер этой зоны зависит от способа восприятия, которым пользуется наблюдатель. Охватывающий (амбиентный) способ восприятия позволяет контролировать состояние лица в целом или его большие участки; как правило, взор локализуется в центрах тяжести поверхности лица (нос/переносица). За некоторым исключением, эти области лишены экспрессивных признаков и сами по себе не информативны. Сканирующий (фокальный) способ восприятия опирается на использование узкого функционального поля зрения, соотнесенного с расположением отдельного элемента лица. Это создает возможность последовательного осмотра информативных элементов (глаз, носа, рта) и их соотнесения, что проявляется в цикличности маршрутов обзора. При выполнении перцептивно-коммуникативной задачи способы восприятия легко сменяют друг друга, а их сочетание позволяет оперативно формировать и перестраивать впечатления о состоянии натурщика.
При окклюзии правой или левой сторон лица взор (>95 % фиксаций) останавливается на открытых элементах – глазах, переносице, носу и губах. При окклюзии верхней половины на скрытые зоны лица попадает 13,4 % фиксаций, при окклюзии нижней – 6 %.
Фиксации области глаз реализуют коммуникативную и когнитивную функции восприятия и отличаются сравнительно большой продолжительностью осмотра, высокой частотой и длительностью отдельных фиксаций. Фиксации рта реализуют преимущественно когнитивную функцию; им соответствуют высокие значения всех показателей окуломоторной активности. Низкие и очень низкие значения двигательных показателей свойственны фиксациям переносицы, реализующим регулятивную функцию. Фиксации в области носа выполняют и когнитивную, и регулятивную функции, занимая в ряду окуломоторных показателей промежуточное положение. Фиксации скрытых частей фотоизображения располагаются в опорных пунктах представляемого лица – в функциональном (зона переносицы) и структурном (зона носа) «центрах тяжести», немногочисленны и кратковременны. Их основная функция – обеспечение ориентировки в условиях перцептивной задачи и согласование видимой и скрытой половины фотоизображения.
Распознавание экспрессий «разбалансированного» лица в отличие от обычного характеризуется: большим временем осмотра, меньшей частотой и большей длительностью отдельных фиксаций. Стратегии рассматривания модифицированного лица в условиях сильной и слабой экспрессии различаются, но иначе, чем при экспозициях обычного лица. При исключении или перемещении элементов лица занимаемое ими прежде место фиксируется редко; внимание перераспределяется между видимыми элементами, продолжительность фиксации которых увеличивается. Взор наблюдателя останавливается на элементах лица, реально присутствующих в поле зрения, где бы они ни располагались.
При прямой эгоцентрической ориентации (0°) лица восприятие сильных экспрессий опирается на экзоны как правой, так и левой половин, восприятие слабых – на экзоны преимущественно правой. И в том, и в другом случае чаще и длительнее рассматривается верхняя часть лица. В условиях ортогональной ориентации экспрессии (90°, 270°) доминантной становится та сторона, которая в зрительном поле наблюдателя располагается сверху (при повороте на 90° – правая, при повороте на 270° – левая); доминирование достигается за счет увеличения числа зрительных фиксаций и их средней продолжительности. В условиях инверсии лица для сильных эмоций имеет место эффект левосторонней доминантности, для слабых – усиливается правосторонняя доминантность. Несмотря на изменение эгоцентрической ориентации фотопортретов, привычная стратегия восприятия экспрессий сохраняется, хотя и подвержена коррекции, вызванной анизотропностью зрительного поля. При любых поворотах лица доминантность его верхней части усиливается (увеличивается число фиксаций и их длительность).
Для одной и той же эгоцентрической ориентации окуломоторные показатели восприятия сильных и слабых эмоций имеют сходную структуру. С ростом угла поворота средняя продолжительность отдельных фиксаций сокращается (информационная нагруженность падает), а интерес к нижней части лица – число фиксаций – возрастает. При всех углах наклона наиболее короткие фиксации связаны с зонами носа и переносицы, которые осматриваются наблюдателями за наименьшее время. Направленность взора наблюдателя подчиняется преимущественно структурным элементам лица, конституирующим эмоциональные выражения (зоны глаз и рта).
Рассматривание перевернутых (180°) экспрессий характеризуется укороченной средней длительностью фиксаций: наиболее продолжительные связаны с зоной рта, короткие – с областью носа и левого глаза. Контролируемые показатели окуломоторной активности в условиях прямой (0°) и обратной (180°) эгоцентрической ориентации экспрессий совпадают.
При поворотах лица на 90° и 270° наиболее короткие фиксации связаны с областью носа, наиболее продолжительные – с зонами либо правого глаза (поворот лица на 90°), либо левого (поворот на 270°). В отличие от прямой и инвертированной экспозиций, в условиях ортогонально повернутого лица чаще и длительнее фиксируется тот глаз, который в зрительном поле наблюдателя располагается сверху.
При всех исследованных поворотах лица доминирующую роль играют «треугольные» (Y-образные) изостатические паттерны. В условиях инверсии экспрессий доли «линейных горизонтальных» и «топических» движений сокращаются, а доли «линейных вертикальных» и «диагональных» возрастают. При ортогональной ориентации лица (90°, 270°) сокращение «треугольных» паттернов также происходит за счет увеличения «диагональных» и «линейных вертикальных» циклических движений.
Прямой связи между точностью оценок экспрессий и показателями окуломоторной активности в условиях разной «разбалансированности» или эгоцентрической ориентации лица не обнаружено. Окуломоторные предикторы точности оценок существуют, но носят не общий, а парциальный характер, связанный с модальностью отдельных эмоций и условиями их экспозиции. Роль универсальных детерминант восприятия экспрессий лица играют зоны глаз, носа и рта, организующие окуломоторную активность наблюдателей. Наиболее ярко различия восприятия черно-белых и цветных изображений экспрессий лица отражаются в показателях окуломоторной активности наблюдателей. На начальных этапах опознания (первая фиксация) необходимая информация извлекается из цветного изображения быстрее, чем из черно-белого, но получение дополнительной информации, в том числе ее детализация, связано с увеличением продолжительности фиксаций, что для черно-белых изображений не наблюдается. При экспозиции цветных фотографий эффект правосторонней доминантности выражен сильнее, а доминантность верхней части лица слабее, чем для черно-белых. Наконец, для цветных изображений характерна высокая взаимосвязь зон осмотра: преобладание возвратно-циклических переходов между областями каждого из глаз и рта; в восприятии черно-белых изображений преобладают парциальные способы рассматривания, в которые циклически вовлекаются лишь две из трех основных зон.
1.9. Функциональные возможности восприятия эмоциональных состояний человека по выражению его лица
Зона эффективного восприятия выражений лица, в пределах которой точность распознавания мимики при сохранении направленности глаз остается сравнительно высокой, выходит за пределы центральной области зрительного поля, охватывая значительную часть ближней периферии. Она имеет характерный размер, форму и внутреннюю структуру, меняющиеся в зависимости от условий выполнения перцептивной задачи. Высокий уровень распознавания экспрессий сохраняется при эксцентриситете лица 10° слева и справа от точки фиксации. В нижней половине зрительного поля он ограничен 2,5°, в верхней – 7,5°. Наибольшая средняя эффективность опознания зарегистрирована в левой части зрительного поля (0,91), наименьшая (0,75) – в нижней.
Характеристики зоны эффективного восприятия зависят от модальности экспрессий. Максимальная протяженность имеет место при экспозиции «радости», минимальная – «страха». Центральная часть зрительного поля не всегда оказывается наиболее продуктивной. Для «удивления», «гнева», «страха» и «отвращения» с ростом эксцентриситета лица адекватность оценок снижается. Экспрессия радости точнее воспринимается на периферии 7,5°. Спокойное лицо одинаково точно оценивается как в центре, так и при смещении на 10° вправо либо вверх.
Вероятность (частота) выполнения целенаправленной саккады в зоне эффективного восприятия зависит от эгоцентрической локализации лица. При экспозиции изображений в центральной части зрительного поля макросаккады практически отсутствуют. Для эксцентриситета 2,5° средняя вероятность появления саккад составляет 0,8, причем в горизонтальном направлении выше, чем в вертикальном. При эксцентриситете 5–10° высокая вероятность (0,94–0,95) появления саккады связывается с экспозицией лица в левом, правом и верхнем полуполях зрения; вероятность выполнения саккады «вниз» на 11–13 % меньше. Частота саккад коррелирует с уровнями точности распознавания эмоционального состояния натурщика.
С ростом эксцентриситета лица средняя латентность саккад снижается со 170 мс (2,5°) до 148 мс (10°). Наименьшая величина латентного периода связана с расположением лица на основной горизонтали в левой половине поля зрения, наибольшая – с его расположением на основной вертикали в нижней части поля зрения. Существует обратная корреляция между латентностью саккад и точностью распознавания экспрессий.
Зависимость латентного период от модальности экспрессий зарегистрирована только для эксцентриситета 10°. Самая короткая латентность соотносится с проявлениями радости и спокойным состоянием (140–142 мс), т. е. с выражениями лица, обладающими самой высокой аттрактивностью.
Выявленные закономерности говорят о том, что определение не только местоположения и размера, но и выражения лица (по крайней мере, в общей форме) совершается до выполнения саккады; в ходе ее реализации и последующей фиксации лица перцептивное содержание уточняется, а при необходимости корректируется. Целенаправленный поворот глаз включен в перцептогенез выражения лица в качестве исполнительного звена – своеобразного триггера, который переводит складывающийся образ на более высокую ступень организации. Соответственно, и сам фиксационный поворот совершается не механически, рефлекторно, а строится в зависимости от локализации лица в поле зрения и модальности переживаемой экспрессии.
Во время скачков глаз возможность адекватного восприятия выражений лица сохраняется. Средняя частота верного распознавания экспрессий при средней скорости саккады 225°/с выше случайной и равна 0,61. Лучше всего в данной ситуации распознаются проявления радости (0,81) и страха (0,71), сравнительно плохо – «гнев» (0,54) и «печаль» (0,56); хуже всего – спокойное состояние (0,43). В силу сходства паттернов экспрессий устойчиво путаются «радость» и «страх», «гнев» и «отвращение», «печаль» и «гнев» и др.
Тактовая структура окуломоторной активности (фиксация – саккад – фиксация) не нарушает пространственно-временную динамику зрительного процесса. Перцептогенез выражения лица совершается не только в период устойчивой фиксации взора, но и на пике скорости быстрых движений глаз (около 400°/с), причем как в центре, так и на ближней периферии (±10° от центральной точки фиксации) зрительного поля. В процессе распознавания сложных социально значимых объектов имеет место не столько подавление зрительной способности, сколько локальное снижение эффективности предметного восприятия, вызванное эксцентрическим расположением лица.
Независимо от того, где во время саккады находится изображение лица, наблюдатели локализуют его в одних и тех же узких участках поля зрения (0,6° в правой части, 1,8° – в левой), прилегающих к будущей точке фиксации. Внутри каждого из участков объективный порядок расположения тест-объектов относительно визуализированной цели сохраняется, но субъективное расстояние между ними сокращается в разы. Величина компрессионного эффекта соответствует значениям, описанным в других работах. Нарушений константности зрительного направления (стабильности видимого мира) в подавляющем большинстве случаев не происходит.
Выделяются три фазы зрительного процесса, последовательно сменяющие друг друга. До выполнения саккады (0–200 мс) средняя точность распознавания экспрессий (0,65) соответствует точности распознавания выражения лица, расположенного на периферии в 10°. Во время саккады (около 50 мс) точность опознания резко возрастает (до 0,76); имеет место не подавление тест-объекта, а его фасилитация. В начале новой фиксации (0–150 мс после завершения саккады) высокая эффективность распознавания достигает максимума (0,91), а ее значения стабилизируются. Разрывов либо резких падений зрительной способности не выявлено; перцептивный процесс совершается непрерывно.
Основной детерминантой адекватного распознавания экспрессий во время саккад является величина эксцентриситета лица: независимо от формы окуломоторной активности, чем меньше рассогласование между зрительным направлением объекта фиксации и текущим направлением глаз, тем точнее оценки. Разным состояниям окуломоторной системы соответствуют разные структуры категориальных полей; с ростом адекватности восприятия их размер сужается. Скачок глаз создает объективные условия перехода образа экспрессии на более высокий уровень организации. Перцептогенез выражения лица происходит гетерохронно: если ранняя и поздняя стадии, привязанные к фиксациям, пролонгированы во времени, то развертывание средних стадий, сопровождающих скачок глаз, носит взрывной характер.