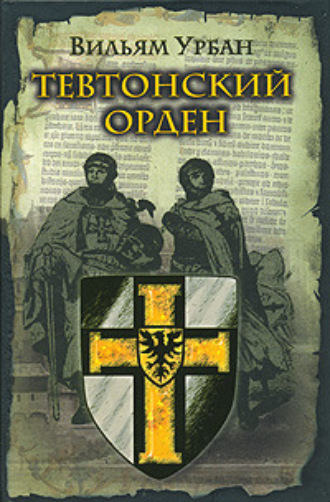
Вильям Урбан
Тевтонский орден
Глава восьмая
Литовское Испытание
Экспансия Литвы
В середине XIII века тевтонские рыцари добились обращения в христианство своего смертельного врага – Миндаугаса – и короновали его как первого короля Литвы. Они совершили это, как обычно происходило в этих краях, убедив литовского вождя, что лучше иметь крестоносцев союзниками, чем врагами. С помощью ордена или, благодаря исчезновению угрозы вторжения на его земли братьев-рыцарей с севера и запада Миндаугас смог расширить свои владения в сторону Руси, которой угрожали татары. Литовское княжество выросло широкой дугой с северо-востока на юго-запад.
Брызги воды с рук священника и необходимость изредка выслушивать службы на непонятном языке под непривычную музыку были для Миндаугаса единственным неприятным моментом в смене религиозных убеждений (не считая необходимости объяснить свое решение жрецам и знати). Не будучи многоженцем и не придерживаясь какой-либо религиозной доктрины, языческой или христианской, Миндаугас жил практически прежней жизнью. Этот скептицизм не слишком нравился тевтонским рыцарям – обращение, основанное на политике, зиждется на очень зыбкой почве. И в начале 60-х годов XIII века Миндаугас счел, что неудобства перехода в христианство перевешивают преимущества. Он вернулся к язычеству практически с тем же энтузиазмом, с которым ранее пал в объятия католической церкви, – это казалось ему лучшим способом примирится с теми из литовской знати, кто восхищался, глядя как самогитийские язычники громят войска крестоносцев. Впрочем, смена религии ненадолго помогла Миндаугасу: вскоре он был убит своими врагами из числа соплеменников. Однако его отречение от католической церкви кардинально изменило ход истории в Прибалтике, который, как одно время казалось, был предопределен. Преемники Миндаугаса оставались язычниками еще более века в основном потому, что большинство их подданных верило, что их боги приносят им победу в бою, а также потому, что многочисленные русские подданные литовской короны предпочитали временно находиться под властью язычников, чем принять помощь католиков. Гедиминас (родился в 1257 году, Великий князь с 1316 по 1341 год) был исключительно прагматичным правителем. Его наследники также следовали этому правилу. Возможно, нигде больше в Европе не правила династия, столь последовательно подчинявшая свои поступки собственным интересам. Они не желали рисковать своим положениям в русских землях, обратившись в католичество, но позволяли католикам верить, что готовы принять католицизм и лишь агрессия Тевтонского ордена мешает им спасти свою душу.
Литовские правители именовали себя Великими князьями, этот титул был знаком их русским подданным. Но теоретический титул мало что значил. Большинство сторонников и слуг оставались верными династии Гедиминаса из-за семейных связей, должностей и наград, а не из религиозных традиций. Многие из литовской знати получили православное крещение, чтобы удовлетворить чаяния русских жителей в городах, где они правили или командовали гарнизонами. Многие женились на христианках, как православных, так и католичках. Но остальные оставались язычниками. Без сомнения, язычество имело для них немало привлекательных сторон, в числе которых было то, что Литвой продолжали бы править литовцы. Важно было и то, что самогиты признали бы только язычника-правителя из центральной части Литвы. Слабого христианского правителя они отвергли бы так же, как отвергли и могущественного Миндаугаса. Язычество отнюдь не умирало в Самогитии, напротив, ему следовали со всей страстью, подобной той, что испытывают подчас необразованные и не склонные к терпимости фундаменталисты нынешних дней.
Когда язычники вернулись к власти, они сожгли католический собор в Вильнюсе, засыпали его руины песком и возвели там капище Перкунаса. Это капище, посвященное богу-громовержцу, было, вероятно, столь же внове язычникам, как и христианский собор, так как традиционно язычники проводили свои обряды в священных рощах. Возможно, это объясняет причину того, что каменное сооружение не имело крыши, представляя собой ступенчатую пирамиду с 12 ступенями, ведущими к огромному алтарю. Там, вероятно, стояла деревянная статуя бога, а жрецы поддерживали постоянный огонь. Из этого можно сделать предположение, что язычество представляло собой динамично развивающееся верование, перенимающее некоторые черты соперничающих с ней религий.
Наследники Гедиминаса гордились своей терпимостью к другим религиям. Они, конечно, верили в своих богов, но вовсе не желали навязывать свою религию другим или даже предлагать ее им. Великие князья Литвы позволяли францисканским монахам держать в Вильнюсе часовню для нужд католических купцов и посланников. Лишь однажды францисканцы пострадали за веру, приняв мученическую смерть. Еще более терпимо литовские правители относились к православным священникам по той причине, что многие их подданные были православными. Некоторые из татарских телохранителей князей были мусульманами и жили своими обособленными сообществами. Такая политика – когда правительства договаривались с лидерами меньшинств, которые уже сами следили за выполнением спускаемых сверху законов и указов, просуществовала в Восточной и Центральной Европе до самой Второй мировой войны.
Этот прагматизм литовских князей не должен вводить нас в заблуждение. Средневековая терпимость к обособленным группам не то же самое, что современная терпимость к личности или терпимость мусульман к иноверцам, за которой слишком часто кроется лишь позволение тем жить людьми второго сорта. Для своего времени это была великодушная терпимость, достойная хвалы.
Попытки крестоносцев возобновить священную войну
Раздор в рядах крестоносцев положил конец той череде успехов, что характеризовала конец XIII века. Как только магистр Пруссии получил под свой контроль дикру (дикие пущи между Литвой и Мазовией.– Пер.), а магистр Ливонии покорил земгальцев, обе части ордена перешли к оборонительной стратегии. Тому были веские причины. Польша продолжала объединяться, Рига и ее архиепископ снова были на грани мятежа, сама католическая церковь была в смятении из-за похищения Бонифация VIII и переноса Святого Престола в Авиньон. Ситуация в Священной Римской империи также была слишком нестабильной, чтобы Великий магистр мог установить крепкие личные связи, подобные тем, что связывали орден с Оттокаром Богемским.
Благоразумные герцоги и архиепископы предпочитали оставаться в своих владениях, ожидая исхода событий.
В результате тевтонские рыцари не могли собрать коалицию, подобную той, что одерживала победы всего несколькими годами раньше. Рижане и их архиепископ стали для них врагами, а немецкая знать в Ливонии, как, впрочем, и местные племена, были озабочены междоусобицей в этих краях. Крестоносцы из Германии и Польши годами не появлялись в этих землях Правители Мазовии и Галиции с Волынью, что участвовали в кампаниях в Судавии, не были заинтересованы в продолжении войны к северу от Немана. А орден уже не мог собрать в Самогитии силы, достаточные, чтобы подавить язычников, поддерживавших мятежи в Пруссии и Ливонии.
Самотиты постепенно начали делать ставку на князя Витениса (1295-1316), причем ни одно решение не принималось без того, чтобы жрец не бросил жребий, испрашивая у богов совета. Теперь объединенные войска язычников ударили по принявшим христианство местным жителям Земгаллии, Курляндии и Самландии, а орден практически ничего не мог с этим поделать. Эта проблема стала столь серьезной, что после 1300 года каждый новый Великий магистр отправлялся в северные земли, чтобы на месте изучить, как обстоят дела. И каждый из них, в свою очередь, приходил к выводу, что проблему можно решить не военными, а политическими путями. Решением проблемы было бы устранение из рядов вражеской коалиции архиепископа Риги и его сограждан. А это было легче сделать из Авиньона, чем из Мариенбурга, поэтому Великие магистры регулярно возвращались в Империю, чтобы посоветоваться с ведущими политическими и церковными деятелями.
Патрули ордена, охранявшие границы Пруссии от вторжений и совершавшие небольшие рейды в литовские земли, заставляли часть язычников стеречь собственные поля и деревни. Основными базами орденских патрулей был Рагнит, расположенный на левом берегу Немана примерно в шестидесяти милях от устья реки, и, удаленный почти на такое же расстояние от него Кенигсберг на реке Прегель, а также замок у Мемеля, охранявший устье Курляндского залива и прибрежную дорогу в Ливонию. Эти три пункта образовывали треугольник, обозначавший присутствие крестоносцев в долине реки. Поддерживаемый еще одним хорошо укрепленным замком у Тильзита ниже по течению реки, гарнизон Рагнита нес на себе основную тяжесть пограничной войны. Для рейдов за дикру кастелян Рагнита призывал протекторов Самландии и Натангии с их местными войсками. Основным методом ведения войны было угонять скот, жечь дома и посевы и захватывать в плен всех, кто не успел укрыться в лесах. По меркам тех лет такая война была внешне в рамках морали. В эпоху, когда крепости были практически неприступны, а войскам приходилось платить из добычи, изматывание противника было единственно практичной стратегией. Более того, все оправдывали свои жестокие поступки достойной целью – покончить с набегами на христианские земли и уничтожить язычество.
Подобные патрули несли службу также на южной и восточной границах Ливонии. Базировались они в Гольдингене[54], Митау[55], Динабурге, Розиттене[56], Мариенхаузене[57] и Нойхаузене[58]. Ливонский магистр к тому времени переселил земгаллийцев на север, на земли вокруг Литвы, а их родные края превратились в пустоши, чащобы и болота, по которым странствовали лишь опытные и безжалостные разведчики обеих сторон. Никто, кроме них, больше не появлялся в этом регионе. Зимой, чтобы установить связь с Пруссией, ливонскому магистру приходилось посылать всадников через Курляндию, а потом вдоль побережья к Мемелю. Передавать же послания через капитанов судов, отправлявшихся из ливонских портов, было рискованно, потому что Рига постоянно враждовала с орденом, а купцы придерживались своих интересов.
Проповедники крестовых походов годами втолковывали христианам, что враги Креста – враги и Господами человека. Следовательно, язычники, мусульмане, схизматики и еретики не имели права на существование. Они были опасны для христианства, и их нужно было уничтожать «как паршивую овцу, дабы спасти здоровых». Сомнения, если они и возникали в головах людей, быстро разрешались представителями церкви, которые провозглашали, что любая война между христианами и неверными – война справедливая и достойное средство для защиты и распространения христианства. Цитируя блаженного Августина, они заявляли, что сама жизнь язычников греховна, вне зависимости от их дел – добрых или злых, потому что все, что они ни делают, они творят, не зная истинного Господа. Язычников даже не стоило бы приводить к христианству силой, им лишь следовало позволять выжить, как иудеям, в надежде, что их потомки со временем будут обращены и потому спасены. Тем временем язычникам не позволялось играть в обществе какую бы то ни было роль, исполнение которой могло бы вызвать восхищение христиан. Так что христианам следовало лишать язычников власти и имущества, гордости и престижа. Из этого следовало, что язычники Самогитии не имели права на независимое государство, особенно такое, где бы они преследовали христиан и мешали миссионерам. Именно на основе этих рассуждений в 1226 году император Фридрих II издал Золотую буллу в Римини, отдавая Пруссию и прочие языческие земли Тевтонскому ордену, а папа Александр IV (1254-1261) наградил их всеми землями, что они смогут покорить. Более того, поскольку язычники были опасными врагами христианства, часто совершавшими набеги на Польшу, Пруссию и Ливонию, папа благословил вечный крестовый поход, а императоры побуждали знать и рыцарей принять крест против язычников. Религиозным долгом всех христиан было помочь одолеть опасных язычников. Доминиканские монахи, эти проповедники любого крестового похода, состоявшие в самом престижном ордене того времени, говорили потенциальным добровольцам, что в тот момент, когда крестоносцы поражают врагов Господа, души последних отправляются прямо в ад[59].
Но гораздо проще было проповедовать крестовый поход и набирать крестоносцев, чем поймать самогита, чтобы убить его. Жители этой области Литвы переселились с востока в низины к северу от Немана и почти достигли побережья. Они жили в осушенных долинах, которые были расположены среди пересеченной местности. Их укрывали болота, полные комаров, и густые леса: это создавало вокруг них естественный барьер. Эти чащобы и трясины были практически безлюдны и не тронуты деятельностью человека из-за религиозных верований, включавших лесных богов и духов в обширный пантеон. Из-за боязни нападений воинственных соседей самогиты устраивали обширные засеки, отчего леса вокруг мест их обитания становились еще более непроходимыми. После появления Крестоносцев эти места превратились в то, что стало называться дикрой. Небольшие отряды, часто состоявшие из местных жителей, веками страдавших от литовских набегов, уничтожали отдельные поселения. Самогиты в отличие от литовцев центральных областей не имели эффективной системы сбора налогов или военной службы, которые бы позволили поддерживать отдельные замки как базы для разведывательных отрядов. В течение нескольких лет западные поселения, уязвимые для нападений из Мемеля и Курляндии, были заброшены, а уцелевшие жители переселились вглубь лесов. Заброшенные поля вскоре снова стали лесами. Со временем вдоль границы, разделявшей прусские в ливонские христианские земли и Литву, протянулась так называемая дикра – полоса диких лесов, достигавшая девяноста миль в ширину, через которую вели лишь редкие тропы.
Витенис Литовский
К 1309 году орден снова держал ситуацию в Ливонии под контролем. Тевтонцы не одолели ни рижан, ни Витениса, однако и не проиграли им. Ситуация была настолько стабильной, что магистр Ливонии даже мог послать свои войска в Западную Пруссию, сначала чтобы изгнать оттуда герцога Бранденбурга, а затем – польские гарнизоны. К 1311 году он был готов вновь вернуться к литовской проблеме и нанести удар по Гардинасу (Гродно) – ключевому пункту в верхнем течении Немана, охранявшему большинство прямых путей по рекам и сухопутных дорог в Волынь и Мазовию, а также дороги, ведущие через область озер в Пруссию.
К этому времени Витенис уже стал могущественным правителем. Сторонники и даже тевтонские летописи именуют его королем, хотя папа и император признавали его лишь Великим князем (королевские титулы предназначались лишь христианским правителям). Витенис положил конец эпохе убийств и междоусобных войн и закрепил свою власть победами в Ливонии. Он был способным правителем и хитроумным военачальником. Часто он разделял свои войска и вел часть войск сам, а остальные отряды посылал в других направлениях, так что противнику приходилось гадать, где будет нанесен главный удар. При множестве путей, которые приходилось охранять рыцарям ордена, эта тактика часто приносила успех. У Витениса были и христианские союзники – горожане Риги и архиепископ города, для которых он часто делал вид, что готов вот-вот принять христианство. Присутствие францисканских монахов при его дворах в Вильнюсе и Тракае придавало достоверность этим ухищрениям. Тем не менее, хотя он позволял и русским подданным, и католикам исповедовать свою веру, он по-прежнему был предан язычеству. Любой намек на решение сменить веру – и опасность покушения, и так серьезная, еще больше возросла бы. Усилилось бы и сопротивление самогитов его претензиям на власть по всей стране. Витенис, будучи язычником, воплощал опасения христиан, страшившихся непредсказуемых и опасных действий, сверхъестественной хитрости и коварства. Всеми этими достоинствами он обладал в полной мере. Витенис не смог бы править Литвой без непоколебимой отваги и желания сравняться в хитроумии и жестокости с худшими своими врагами и лучшими друзьями. В своем варварском величии и простоте он был идеальным языческим королем, достойным противником крестоносцев.
Даже тевтонские рыцари возносили хвалу отваге и искусству Витениса, ибо они с гордостью считали себя более чем равными ему в этом. В 1311 году у них появился шанс проявить свою доблесть. В феврале Витенис совершил набег на Самландию и Натангию, перебив многих пруссов и захватив около пятисот пленников. Из опыта крестоносцы знали, что такие нападения почти невозможно предотвратить (лучшее, что можно было сделать,– это организовать наблюдение и предупреждать население о вторжении, чтобы мирные жители могли укрыться в своих убежищах, а ополчение успело собраться в определенных пунктах). Как только о набеге Витениса доложили маршалу ордена, он поспешил из Кенигсберга со своими мобильными силами и, собрав ополчение, последовал за войском Витениса. Он знал, что войско, идущее в набег, особенно уязвимо сразу же после того, как его силы разделяются, чтобы порознь возвращаться домой, и отдал приказ напасть на язычников, когда те пировали и делили добычу и пленных. Победа, одержанная крестоносцами, стала одной из величайших в этом веке.
Со своей стороны, рыцари совершали по меньшей мере один набег каждую зиму, когда их кавалерия действовала эффективно на замерзших реках и болотах, а литовцы не могли укрываться в засадах среди снега так же легко, как среди пышной летней зелени. Зимой 1311/12 года шесть рыцарей повели четыреста ополченцев из Натангии через пущи Судавии к Гродно, форсировав болота, считавшиеся непроходимыми, где проплутали два дня. Литовцы, тщательно охранявшие обычные пути, были застигнуты врасплох. Пруссы грабили литовские поселения, жгли, убивали и хватали пленных, убивая на месте тех, кто не выдержал бы долгого и трудного пути. Затем войско крестоносцев вернулось кратчайшей дорогой. Эта страшная месть за прошлые страдания вызвала новую вспышку ненависти у литовцев.
Современные национальные историки иногда забывают о взаимной вражде местных племен. Желание отомстить своим исконным врагам помогало крестоносцам собирать войска, организовывать набеги и находить работников для строительства укреплений. Эта вражда также приводила к ужасной жестокости.
Нападение на Гродно было прямым вызовом Витенису, чей престиж основывался на его военных победах и чьим основным божеством был бог войны. Уже в апреле он в свою очередь вторгся глубоко в Пруссию с силами, которые летописцы, по своему обыкновению преувеличивая, оценили в восемь тысяч человек. Пройдя через озерный край в период оттепели, Витенис избежал встречи с патрулями ордена и князя Мазовецкого, а затем, стремительно пройдя Эрмлянд, оказался у замка Браунсберг[60], мимо которого прошествовал, выкрикивая оскорбления стоявшему на стене епископу. Его воины разорили все поселения на побережье. Согласно донесениям христиан, особенную ярость вызывали церкви, в которых Витенис разрушал алтари, низвергал распятия и топтал их ногами, плевал на облатки, а затем сжигал сами здания. В один день он захватил свыше тысячи пленников, связанных и скованных, а вечером издевался над ними, вопрошая: «Где же ваш Бог? Что же он не помог вам, как наши боги помогают мне сейчас и всегда?»
Если эта цитата верна, Витенис радовался слишком рано. В действительности его войско находилось в серьезной опасности. Эрмлянд располагался далеко к западу от Литвы, и чем глубже литовцы проникали в Пруссию, тем больше времени было у местного ополчения, чтобы собраться, и тем легче было догнать медленно двигавшееся, отягощенное добычей литовское войско, чьи следы было легко найти на снегу. Именно в это время Великий командор собирал большую армию в пункте, расположенном на пути, по которому Витенис должен был возвращаться.
Генрих фон Плотцке большую часть прожитой жизни (полсотни лет!) мечтал о такой возможности. В его распоряжении находилось восемьдесят рыцарей и несколько тысяч ополченцев. Если удача не отвернется от него, он сможет разбить вторгшееся войско и, возможно, убить или пленить их короля.
Витенис также верил в удачу, но он понимал, что она благосклонна лишь к умелым и отважным воителям. Когда он увидел приближавшееся войско христиан, он приказал строиться для битвы на холме, за импровизированной стеной из деревьев и изгородей. Он, должно быть, решил, что христиане не решатся наступать на укрепленную позицию, а если дело дойдет до осады, у него есть угнанный скот, чтобы кормить своих людей, в то время как у христиан не могло быть с собой много припасов.
Фон Плотцке разгадал замысел врага, и хотя предпочел бы более подходящее для своей кавалерии поле битвы, он был готов сражаться в пешем строю. Гунтер фон Арнштайн – наверное, самый отважный рыцарь из своего поколения – получил приказ «прощупать» оборону язычников. Пробная атака была отбита, причем от сорока до шестидесяти человек были убиты, однако Гунтер изучил расположение и количество вражеских войск. Выслушав доклад Гунтера, фон Плотцке отдал приказ об общей атаке.
Поэт-крестоносец описывает нам волнующую сцену: когда христианские воины приблизились к позициям врага, они услышали вопли женщин и детей, зовущих своих родичей из прусского ополчения, ответные возгласы прусских воинов, крики людей, идущих в жестокую битву. Эту летопись, должно быть, не раз читали вслух в трапезной, как было принято во время еды, чтобы наставлять в добродетели рыцарей и их оруженосцев. Такие пассажи, подчеркивающие рыцарские деяния, отвагу, справедливость, милосердие к несчастным и служение церкви и Деве Марии, дают нам возможность заглянуть во внутренний мир рыцаря-крестоносца. К сожалению, у нас отсутствует литовский эквивалент этой хроники. Языческие источники традиционно были устными, а не письменными, и они почти пропали для нас.
Когда христианское войско построилось для штурма, Витенис разглядел знамена своих противников и понял, с кем он столкнулся. Он знал, что успех на поле боя зависит не от числа, а от умения. Глядя на яркие знамена кастелянов и знамя гроссмейстера – черный крест на белом поле,– хорошо осведомленные язычники поняли, что им противостоят лучшие из тевтонских рыцарей. Поэтому, как только атака началась, наименее отважные литовцы (или, по крайней мере, наиболее здравомыслящие и благоразумные) начали ловить своих лошадей и торопливо бросились в бегство. Тем временем пленные женщины, вырвавшись из своих пут, устроили сумятицу в тылу. Витенис исчез и спасся, в то время как тысячи его сторонников пали в завязавшейся битве. Христиане захватили почти три тысячи лошадей, тысячи мечей и копий, освободили пленных и вернули все награбленное литовцами. В плен попал канцлер Витениса. Один из летописцев сложил гимн этой победе: «О благородные рыцари Господа! Господь должен воздать вам честь на земле и небесах». Генрих почтил этот день основанием женского монастыря в Торне.
Несмотря на одержанную победу, в ходе событий мало что изменилось. У ордена не была достатачно сил, чтобы закрепить ее. Витенис сумел улизнуть живым, перегруппировал свои силы, воодушевил подданных на решительную защиту своих крепостей и приказал всем не ввязываться в рискованные действия. Чуть позже, когда молодой кастелян Герхард фон Мансфельд храбро вторгся с небольшими силам на территорию Литвы, язычники вынудили его отступить. Боясь засады, они не приняли его предложения честной битвы, не спросили его имя и предупредили, что он долго не проживет, если будет приходить к ним со столь, малочисленным отрядом.
Было ясно, что заметные успехи возможны лишь в том случае, если будут взяты ключевые замки, а это было делом непростым, особенно в Литве, где крепости располагались за труднопроходимыми лесами и болотами и для их осады припасы и осадные орудия пришлось бы везти на большие расстояния. Более легким путем были подкуп или измена.
Второй способ работал лучше. Как уже упоминалось, в плен к Плотцке попал канцлер Витениса, кастелян Гродно. Его можно было бы вернуть за выкуп или обменять на кого-нибудь из пленников-христиан. Впрочем, этого могло и не случиться, так как Витенис мог решить избавиться от потенциально соперника и найти тому замену. Так что с кастеляна взяли обещание сдать Гродно в обмен на свободу. Как бы там ни было, требовалось действовать, быстро, чтобы он мог объяснить свое запоздалое возвращение тем, что прятался а лесах или заблудился по пути. Как и следовало ожидать, кастелян не выполнил свою часть сделки. Вместо этого он предал христиан, рассказав обо всем Витенису и приготовил засаду возле Гродно.
Генрих не пренебрегал опасностью. Он знал, что казначей мог оказаться хитрым лжецом. Мы не знаем, что сказал казначей, чтобы убедить Великого магистра и его советников, однако мы знаем, что измена была обычным делом в ту эпоху, что собственное поместье было важнее, чем верность своему роду, и что честолюбие часто оказывалось сильнее, чем верность. Хотя, следует заметить, языческий кодекс чести придавал особое значение сохранению верности клятвам, и, несомненно, Генрих знал, чем добиться от своего пленника крепкой клятвы. Он даже пообещал ему признать его в будущем вождем Литвы. В общем, Генрих имел веские основания доверять своему пленнику. Однако у него было столько же оснований не слишком ему верить.
Генрих провел свою армию почти до Гродно, когда его разведчики наткнулись на некоего старика. Под пытками он открыл им, что литовцы укрылись в засаде неподалеку от реки и поджидают, когда половина христианской армии перейдет реку, чтобы напасть на крестоносцев. Генрих пощадил старика, как и обещал, и повернул со своей армией назад.
Новый поход фон Плотцке предпринял в мае следующего года. Он созвал сто сорок братьев-рыцарей и собрал большое конное ополчение, около двух тысяч пехотинцев, а также большое количество местных рыцарей. Все эти войска, вероятно, двинулись вперед разными маршрутами через реки, озера и болота, переправляясь через водные преграды на маленьких лодках. Когда конница крестоносцев приближалось к Гродно, в густом лесу они наткнулись на четырех литовских разведчиков. Убив троих, они захватили в плен четвертого и узнали от него, что их приближение осталось незамеченным. Витенис чувствовал себя в безопасности до такой степени, что послал пятьдесят человек, в число которых и входило четверо разведчиков, для подготовки охотничьего лагеря. Генрих истребил этот передовой отряд, а затем перешел Неман. Оставив двенадцать рыцарей и пеших ополченцев охранять корабли, он принялся истреблять в окрестностях всех язычников, невзирая ни на возраст, ни на пол. Было захвачено семьсот пленников, а мертвым «только Господь знает счет».
Эти победы сделали Генриха фон Плотцке серьезным кандидатом на место умершего Великого магистра Зигфрида фон Фойхтвангена, однако надежды на избрание рухнули, возможно, из-за захвата Данцига и Западной Пруссии, возможно, из-за деспотического нрава Генриха. В любом случае его кандидатура не подходила выборщикам из Германии, которые и продвинули на это место Карла фон Триера. Генрих фон Плотцке получил в утешение пост Великого командора и позднее – маршала.
Карл фон Триер выбирает Самогитию целью наступления
Карлу фон Триеру исполнилось к тому времени сорок шесть лет. Для столь высокого поста в ордене он был довольно молодым человеком. Но он хорошо говорил по-французски, а его латынь, по общему мнению, была столь хороша, что его любили слушать даже его противники. Поэтому он был идеальной фигурой для того, чтобы вести дела в Авиньоне с папой, французом по происхождению. А это было немаловажное обстоятельство, учитывая расследования, проводившиеся против ордена папскими легатами. Поскольку основное внимание ему приходилось уделять отношениям со Святым Престолом, фон Триер хотел снизить темп войны против Литвы. Он хотел заключить мир с королем Ладиславом Польским и решить проблемы в Ливонии. Такая политика не пользовалась популярностью среди рыцарей Пруссии. Единственная возможность склонить их к согласию – самому отправиться на восток и лично обратиться к ним.
После завершения поездки в Пруссию для изучения ресурсов ордена и обсуждения вариантов возможной стратегии новый Великий магистр приказал возобновить приостановленное наступление на Гродно. Он решил сконцентрировать свои силы для нападения на Самогитию в надежде обеспечить безопасный и короткий сухопутный проход в Ригу и положить конец опустошительным нападениям язычников на Курляндию и Земгаллию.
В апреле 1313 хода Карл фон Триер загрузил в Кенигсберге свои суда припасами, снаряжением и людьми и послал их вверх по Неману, через Балтийское море и Курляндский залив. Другие войска двигались сушей к Рагниту. Хотя во время шторма погибло четверо рыцарей и около четырехсот воинов и моряков, а также множество припасов и строительных материалов для новой крепости, это не помешало фон Триеру продвинуться со своими войсками на тридцать миль вверх по реке, где он выстроил наплавной мост. Когда тот был готов, священники возглавили крестный ход и отслужили мессу перед тем, как рабочие перешли мост и заложили большой деревянный замок, названный Кристмемелем. Именно он должен был стать базой для наступления в сердце Самогитии.
Вскоре после этого крестоносцы напали на литовские замки, стоявшие выше по течению. Сам Великий магистр возглавил штурм замка Бизена, наведя переправу из лодок и доставив осадные орудия. Этот штурм не увенчался успехом. Тем временем кастелян Рагнита проплыл дальше, к Велюну. Он хотел штурмовать стены прямо с большого военного корабля, но сильный порыв ветра выкинул судно на сушу на подходах к замку. Эффект неожиданности был утрачен, и лишь после отчаянной схватки команда корабля смогла отбиться от язычников и увести судно обратно в Рагнит.
Эти нападения обеспокоили Витениса. Особенно он опасался большого корабля, который угрожал теперь всем прибрежным замкам на Немане. Великий князь отдал приказ одному из своих вассалов уничтожить судно как можно быстрее.
Литовский командир приказал сотне всадников следовать в Рагнит, в то время как шестьсот пеших воинов отправились вниз по реке на сотнях маленьких лодок. Приближающийся отряд язычников был замечен разведчиками, но те двигались столь быстро, что достигли Рагнита раньше, чем весть о них. Следующую часть их плана, было не так легко выполнить. Хотя язычники застали корабль стоявшим на якоре посреди реки всего с четырьмя лучниками на борту, он был настолько велик, что литовцы не могли забраться на борт, к тому же лучники поражали их одного за другим. Это нападение могло закончиться поражением литовцев, если бы к лучникам пришла, помощь, но в критический момент боя литовская кавалерия отбила попытку вылазки из замка. Вскоре после этого нападавшие перерезали якорный канат, и корабль заскользил, вниз по течению, сопровождаемый флотилией литовцев. Когда судно село на мель, язычники смогли поджечь его. Великий магистр не стал восстанавливать корабль. Очевидно, он решил, что от него не будет пользы, как предполагалось, даже летом. А зимой корабль такой величины, может оказаться скованным льдом или быть разрушен плавучими льдинами.


