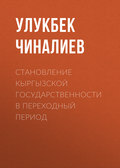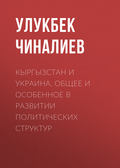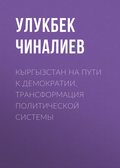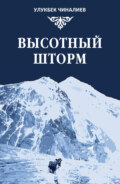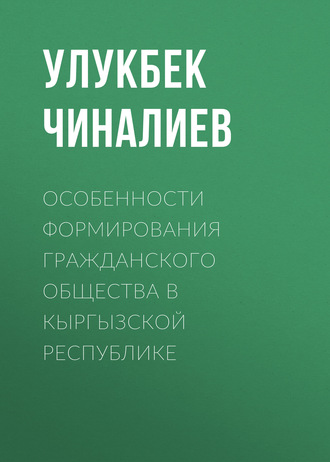
Улукбек Чиналиев
Особенности формирования гражданского общества в Кыргызской республике
Подобной точки зрения придерживаются и авторы коллективной монографии «Гражданское общество. Мировой опыт и проблемы России» [19]. Они отмечают, что определяющим для гражданского общества являются не взаимодействие индивидов, их единение и сотрудничество в сравнительно малых обществах с развитым самоуправлением, а его отношения с государством, воздействие на него. И как раз здесь гражданское общество на Западе добилось наиболее значительных успехов (в частности, в формировании демократического государства) не только в XVIII в., но и в последующие эпохи вплоть до нашего времени. Другое дело, что как научное понятие гражданское общество вплоть до недавнего времени (70-е годы XX в.) не фигурировало в западной литературе, и это можно в значительной мере объяснить как раз тем, что гражданское общество давно уже стало реальностью в западном мире, реальностью, которая представляется естественной и не нуждающейся в теоретическом осмыслении.
В последние годы в западной литературе отмечается повышение интереса к проблеме гражданского общества. По-видимому, это связано с началом перехода человечества в новый этап своей эволюции, связанной не только с развитием научно-технической революции, но и с возрастанием значения демократии и гуманизма. Развитие гражданского общества – это, по сути, расширение практики самоуправления во всех сферах общественной жизни, повышение роли личности в политике.
Основным элементом гражданского общества выступает личность, а также ее ассоциативные связи и отношения с другими людьми. В гражданском обществе люди, их группы и организации обладают реальной, гарантированной государством возможностью свободно объединяться для достижения общих хозяйственных, политических, научных, культурных и иных целей. В отличие от коллективности традиционного общества, которая поддерживается обычаем, преданием, традицией и т. п., сложившейся в развитых странах ассоциативный тип коллективности обеспечивается осознанием принадлежности людей к общей культуре, единства их интересов и устремлений, рациональности выбранных средств и методов достижения цели деятельности. Такой тип коллективности предполагает самостоятельность человека, его независимость от внешней опеки, способность рассчитывать на собственные силы. В ходе становления и развития гражданского общества произошла замена архаичных, традиционных форм регулирования жизнедеятельности людей рациональными, установленными самими гражданами и гарантированными государством институтами и нормами. Развитие структур общественной самодеятельности граждан стимулировало появление оснований для правовой регламентации общественных отношений. Гражданское общество, таким образом, стало формой организации общественной жизни, основанной на соблюдении индивидами, их объединениями и государством сознательно установленных взаимных прав и обязанностей.
Свободная и независимая личность в гражданском обществе вступает в соответствующие отношения с другими людьми, прежде всего в экономические, политические и духовные. Следовательно, гражданское общество в структурном отношении можно представить в виде диалектической совокупности трех сфер – экономической, политической и духовной.
Экономическая сфера – это прежде всего отношения собственности. Политическая сфера – это отношения, которые возникают в связи с удовлетворением политических интересов и свобод путем участия в разного рода партиях, движениях, гражданских инициативах, ассоциациях. Духовная сфера – это отражение процессов функционирования и развития гражданского общества в общественном и индивидуальном сознании в виде научных теорий, концепций и в форме будничного сознания, жизненного опыта, традиций. Гражданское общество представляет собой систему обеспечения жизнедеятельности социальной, социокультурной и духовной сфер, их воссоздания и передачи ценностей от поколения к поколению. Интересы и потребности выражаются через посредство таких институтов гражданского общества, как семья, система образования, церковь, научные, профессиональные и другие объединения, ассоциации, организации, политические партии (кроме правящей), независимые средства массовой информации и др.
В политологии имеются и несколько иные подходы к пониманию структуры гражданского общества. Например, российский политолог Ю. Ирхин полагает, что для гражданского общества характерно как наличие множественных горизонтальных связей, так и существование нескольких их уровней или слоев [20]. Основу гражданского общества, по его мнению, составляют экономические отношения, основанные на многообразии форм собственности при соблюдении интересов личности и общества в целом. Экономический плюрализм создает необходимые предпосылки для преодоления существующего отчуждения человека от средств производства. Гражданское общество только тогда проявляет свою жизнеспособность, когда его члены обладают конкретной собственностью или правом на использование и распоряжение собственностью, произведенным ими общественным продуктом по своему усмотрению. Владение собственностью может быть частным или коллективным, но при условии, что каждый индивид действительно является собственником. Наличие собственности служит основополагающим условием свободы личности в любом обществе.
Следующий уровень – это социокультурные отношения, включающие семейно-родственные, этнические, религиозные и другие устойчивые связи. Гражданское общество основывается на многообразной, разветвленной социальной структуре, отражающей все богатство и разнообразие интересов множества социальных групп и слоев, их представителей. Причем это многообразие находится в динамике, образуя и прерывая вертикальные и горизонтальные связи.
Верхний слой гражданского общества – это отношения, связанные с индивидуальным выбором, политическими и культурными предпочтениями, ценностными ориентациями. Этот слой составляют различные группы по интересам, политические партии, движения, клубы, группы давления и т. п. Тем самым обеспечивается культурно-политический плюрализм, предполагающий отрицание идеологических стереотипов, обеспечивающий свободное волеизъявление всех граждан. Именно этот слой гражданского общества включает в себя наиболее социально активные институты, тесно соприкасающиеся с государственно-политической системой.
Развитое гражданское общество является неотъемлемым элементом социума. Поскольку в каждом социуме существует множество субъектов общественной жизни, со всеми ими оно вступает в сложные, порой противоречивые отношения. Гражданское общество воздействует на общественные дела, в том числе и на государственную власть. В правовых государствах с демократическим режимом гражданское общество обеспечивает равновесие между жизненным и системным мирами и выступает как бы посредником между индивидом и государством, обеспечивает индивиду социальную защиту, создает условия для его самореализации, удовлетворения разнообразных интересов и потребностей. В этом и состоит главное предназначение гражданского общества.
Как вытекает из всего сказанного, гражданское общество возникло на определенном этапе развития человечества, в силу объективной необходимости, при наличии определенных условий. Эти условия включают как общецивилизационные (общий уровень развития человеческой цивилизации), так и внутригосударственные особенности. Развиваясь в русле общечеловеческого прогресса, каждое государство имеет свои, присущие ему социально-политические условия, которые определяют темпы и уровень формирования гражданского общества и его институтов.
Формирование гражданского общества в каждом государстве предполагает наличие определенного ряда общих условий, обеспечивающих установление характерных для гражданского общества взаимоотношений государства, социальных групп и личностей. К таким условиям политологи, например В. Мельник [21], относят:
в экономической сфере – равноправие всех форм собственности, многоукладную рыночную экономику, открывающую возможности для деловой активности и предприимчивости, для свободной и творческой трудовой деятельности граждан. Различные формы собственности и разнообразные способы хозяйствования, находясь в сравнительно равных условиях и конкурируя друг с другом, составляют экономические предпосылки гражданского общества;
в политической сфере – реальные гарантии прав и свобод человека и гражданина, обеспечивающие всем равный доступ к участию в государственных и общественных делах. В качестве основополагающих для гражданского общества признаются также такие ценности, как верховенство права, разделение властей, свободные, равные, прямые и тайные выборы, многопартийность, местное самоуправление, свободное функционирование средств массовой информации;
в социальной сфере – равноправие различных социальных классов, групп, слоев и общностей, справедливость, солидарность и партнерство в отношениях между ними, наличие широкого слоя независимых от государства собственников. Устойчивое социальное положение и образ жизни данных субъектов общественных отношений создает предпосылки стабильного функционирования общества в целом;
в духовной сфере – свободное самоопределение человека в его мировоззрении, идейных позициях и духовных устремлениях, плюрализм идеологий, мнений и идей, критическое отношение к действительности, рационализм, толерантность, гуманизм. Признание данных установок и принципов в качестве непреложных общественных ценностей является необходимой предпосылкой формирования развитого гражданского общества.
Исключительно важной предпосылкой формирования гражданского общества является закрепление с согласия всех социальных сил основополагающих общественных ценностей в Конституции и законодательстве страны. Речь в данном случае идет об объединяющей роли Конституции в жизни общества, и если Конституция отражает интересы лишь какой-либо части общества в ущерб другим, то она перестает служить задачам общественной консолидации, постоянно провоцирует социальные коллизии, и каждая смена субъекта политической власти влечет за собой переделку Основного Закона, что неизменно ведет к усилению противостояния, порождает хаос.
В развитых странах мира во второй половине XX в. сформировался определенный тип гражданского общества, для которого характерны приоритет частной собственности и частнособственнических интересов, наличие значительного среднего класса, высокий уровень жизни, политический плюрализм и большое количество разнообразных общественно-политических организаций, своеобразный социально-психологический и политический менталитет и др. Это общество находится в постоянном сложном, противоречивом, диалектическом единстве с государством. В рамках развитого гражданского общества западного типа сложился своеобразный тип личности, раскованной, внутренне свободной, независимой и инициативной.
Что же касается новых государств, возникших на постсоветском пространстве, то представляется очевидным вывод о сложном и длительном характере становления здесь гражданского общества. Эти страны переживают переходный период, в них причудливо переплетаются некоторые свойства и черты как тоталитарного, так и авторитарного и демократического режимов. В силу этих обстоятельств возникают серьезные трудности, связанные с завершением разгосударствления и приватизации, утверждением примата частной собственности, ограничением вмешательства государства в отношения собственности и в экономическую жизнь, с формированием достаточно широкого слоя свободных, экономически независимых граждан, осознавших себя полноправными субъектами общественно-политической жизни, с формированием правового государства, утверждением принципов демократии во всех сферах государственной и общественной жизни, обеспечением всем гражданам всей полноты политических прав и свобод, в том числе юридического равенства, государством, с ликвидацией пережитков тоталитаризма, советской коллективности и государственного патернализма, с повышением уровня жизни и др.
Завершая рассмотрение политологической теории гражданского общества, считаем необходимым сделать три примечания. Первое сводится к мысли известного немецкого социолога Р. Дарендорфа о том, что «в идеале гражданских обществ никто не строит, они развиваются самостоятельно» [22]. Однако это не означает, что новые демократии, возникшие на постсоветском пространстве, могут ждать, пока все случится само собой. Необходима, по его словам, какая-то намеренность, для начала необходимо строить независимые организации и институты как промежуточное звено между правительством и индивидом.
Второе примечание касается предупреждения абсолютизации гражданского общества. Оно далеко не совершенно и не всегда безопасно. Выдвигая подчас чрезмерные или необоснованные требования к государству, гражданское общество всегда будет раздражать правительство, которое по этой причине будет призывать к порядку, стремясь покончить с «хаосом», даже применяя силу.
Третье примечание состоит в том, что гражданское общество как объективная реальность всегда остается незавершенным, ибо его суть в открытости, свободе. Поэтому даже применительно к странам развитой демократии политологи избегают оценивать сформировавшееся там гражданское общество с позиций завершенности. Гражданское общество постоянно находится в движении, развитии.
Однако, несмотря на наличие внутренних противоречий, развитое гражданское общество обеспечивает общественный консенсус, согласие между различными социальными субъектами относительно основополагающих общественных ценностей. Вот почему каждое государство, вставшее на путь демократии, стремится создать условия, обеспечивающие формирование гражданского общества.
Раздел II. Создание в Кыргызской Республике предпосылок и условий для формирования гражданского общества
В своем социально-экономическом и политическом развитии Кыргызстан в силу объективных причин в течение длительного времени значительно отставал от многих других стран.
Начиная со второй половины XIX в. кыргызские территории входили в состав Российской империи, которая, по определению многих политологов, относилась к числу стран так называемой запоздавшей модернизации. Здесь элементы гражданского общества стали заметно вырисовываться лишь к концу XIX в. в результате отмены крепостного права и реформы 60-х годов. Однако кыргызские территории оставались в стороне от этих процессов. Кыргызское население в своем большинстве продолжало вести кочевой и полукочевой образ жизни, главным его занятием оставалось скотоводство. Промышленность не получила должного развития и оставалась кустарной и полукустарной. Интеллигенция была малочисленной и преимущественно инонациональной. Возникшие в начале XX в. отдельные самодеятельные организации были немногочисленными, аморфными и в значительной степени несли на себе религиозный отпечаток. Среди кыргызов были живучими родоплеменные пережитки и традиции.
Октябрь 1917 г. разрушил наметившуюся в России традицию гражданского общества. В новом, советском социуме создавался новый социальный порядок, фактически исключавший формирование гражданского общества.
Как уже отмечалось выше, реальное основание гражданского общества – развитая рыночная экономика. В советском социуме она была не просто неразвитой, а в принципе исключалась. С развитием советского социума, по мере усложнения его структуры и углубления разделения труда, усиливались потребности как в рыночных связях обмена, так и в становлении товарного производства. Однако при сохранении нормативного порядка (плановая экономика) эти потребности так или иначе подавлялись или устранялись. А если обменные связи между предприятиями, отраслями, ведомствами имели место, то эти операции создавали явление т. н. бюрократического рынка. Но подобные явления ни в коей мере нельзя оценивать как рождение экономического основания гражданского общества, ибо здесь имел место обмен без товарного производства. Можно было уловить лишь некоторые сдвиги в экономическом основании советского социума, например, в декларировании автономности предприятий, их переходе на хозрасчет в последние годы советской власти.
Важной предпосылкой формирования гражданского общества является наличие свободных, экономически независимых граждан, обладающих и свободно распоряжающихся частной собственностью.
В СССР экономическую основу государства составляла социалистическая собственность на средства производства, она существовала в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности [1]. Государственная собственность объявлялась общим достоянием всего советского народа. Ее составляли земля, ее недра, воды, леса, основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, имущество созданных государством торговых, коммунальных и других предприятий, основной городской жилищный фонд. Граждане, фактически создавшие и приумножавшие эту собственность, были отчуждены от нее. Распоряжалось ею, по определению, государство, но фактически ею управляли соответствующие ведомства через свой бюрократический аппарат. Отчуждены были граждане и от колхозно-кооперативной собственности, которой управляла хозяйственная бюрократия. И на государственных предприятиях, и в колхозах и совхозах граждане были простыми наемными работниками, не имеющими никакого отношения к управлению производством и, что очень важно, к распоряжению результатами труда.
Конституция СССР и соответственно конституции союзных республик допускали существование личной собственности, основу которой должны были составлять трудовые доходы граждан [2].
Однако, провозгласив право личной собственности и ее охрану государством, то же государство всячески ограничивало личную собственность, устанавливало всевозможные препоны (например, ограничивались размеры приусадебных участков, жилых и дачных построек, количество животных в сельском домашнем хозяйстве, количество автомобилей в личной собственности и т. п.). Таким образом, в СССР изначально не мог существовать свободный, экономически независимый от государства собственник.
Своеобразной в советском социуме была политическая сфера, она напрочь делала невозможным формирование политических основ гражданского общества. Своеобразным было социалистическое, а в позднейшей формулировке – общенародное государство. Советское государство было лишено своей автономной логики, полностью подчинялось партии и не было разделено внутри себя на отдельные ветви власти. В то же время государство носило тотальный, всеохватывающий характер, оно подчинило себе все и всех и выступало в виде некоего монстра, отделенного от общества.
Что касается общественных объединений, то они замыкались на единолично правящей коммунистической партии. Будучи подчиненными партии и огосударствленными, они действовали как механизмы, направленные против становления политических условий гражданского общества. Они не развязывали инициативу, а наоборот, подавляли политическую активность граждан. К сказанному необходимо добавить, что в условиях засилья насаждавшейся сверху идеологии не могло быть и речи о плюрализме идеологий как одном из условий формирования гражданского общества. Малейшие отклонения от «единственно верной» идеологии жестоко преследовались. Поэтому не приходится говорить о раскрепощении сознания человека, укреплении его чувства собственного достоинства и т. п.
Своеобразной была ситуация со средствами массовой информации, которые, по определению В. Ленина, должны были быть не только коллективным пропагандистом и агитатором, но и коллективным организатором, заниматься коммунистическим воспитанием масс и проводить в жизнь политику партии и государства. Все средства массовой информации в СССР были либо партийными, либо государственными. И хотя формально существовали органы печати профсоюзов (газета «Труд») и некоторых других общественных организаций (например, ДОСААФ), все они работали под руководством партийных органов. Любой печатный орган мог быть учрежден лишь по разрешению ЦК КПСС. Государственными, т. е. подчиненными партии, были радио и телевидение. Все издания, газеты и журналы, радио- и телепередачи подлежали государственной цензуре. Лишь в ходе перестройки с цензурой было покончено. Выполняя волю партии и государства, средства массовой информации активно включались во всевозможные партийно-государственные кампании, шельмовали «отщепенцев», в прямом смысле занимались оболваниванием масс. Они тенденциозно подавали информацию, искривляли се в выгодном для партии и государства плане. Естественно, такие средства массовой информации не могли содействовать развитию общественной активности, формированию гражданского общества.
Отдельного рассмотрения требует проблема личности как основы гражданского общества. В советском социуме сложился довольно своеобразный тип личности. По инициативе И. Сталина она была провозглашена «винтиком», который целиком идентифицировал себя с массой, хотя между нормативными «винтиками» периода «оттепели», а тем более перестройки имелись существенные отличия. Личная невыраженность индивида-винтика означала, что он способен на восприятие любой ценностной ориентации, обеспечивающей ему определенный статус в социальной массе. Если добавить к этому низкий уровень политического сознания и политической культуры (при всеобщей грамотности и сравнительно высоком уровне образования), отсутствие надлежащей, объективной информации, идеологическую заангажированность средств массовой информации, то понятно, что такой индивид не мог составить основу гражданского общества. Поэтому вряд ли можно согласиться с утверждением авторов коллективной монографии «Гражданское общество. Мировой опыт и проблемы России» [3] о том, что на уровне такой единицы советского массовидного образования, как индивид, в советском обществе был сделан наиболее заметный сдвиг в направлении к гражданскому обществу.
Все сказанное выше о советском социуме относительно отсутствия в нем необходимых условий для формирования гражданского общества, естественно, относится и к Кыргызстану как составной части бывшего СССР. Однако это утверждение следует сопроводить двумя замечаниями. Первое состоит в том, что, как уже отмечалось, за годы советской власти в Кыргызстане было сделано довольно много для развития экономики, науки, образования, культуры, здравоохранения, что не могло не сказаться на количественном росте рабочего класса, формировании национальной интеллигенции, на материальном и моральном состоянии граждан, формировании определенного типа общественного сознания. Кыргызское общество свое будущее видело в рамках той политической системы, которая утверждалась в СССР.
Второе замечание касается определенной удаленности республики от политического центра. Речь, естественно, идет не о географической, а о политической удаленности. В СССР сложилось так, что все важнейшие политические и общественные процессы и движения возникали в центре (Москва, в определенной мере Ленинград), а зачастую и ограничивались центром. К окраинным республикам, к которым относился и Кыргызстан, доходили лишь отголоски правозащитных, диссидентских и других движений. Здесь даже в годы перестройки позиции правящей партийно-государственной номенклатуры оставались весьма сильными, местная элита твердо придерживалась ортодоксальных партийных установок, что создавало дополнительные трудности для подъема общественного сознания и развития общественной самодеятельности. Определенные подвижки наметились лишь в конце 80-х гг., а в полной мере обозначились после обретения Кыргызстаном независимости.
В постсоветский период в Российской Федерации и некоторых других бывших советских республиках некоторые авторы из числа ностальгирующих по советским временам пытаются доказать, что в рамках советской общественно-политической системы, в частности, в периоды «оттепели» и перестройки, уже были заметны ростки гражданского общества, и если бы, по их мнению, развитие советского социума продолжалось линейно, без катаклизмов демократических преобразований, в конечном итоге гражданское общество сформировалось бы, хотя оно имело бы «социалистические» особенности.
Мы не разделяем такую точку зрения, хотя теоретически допускаем, что советский социум в процессе своего развития мог бы породить альтернативные ему силы и тем самым проявить способность к самопреобразованию. Но эту возможность надо считать маловероятной или вообще исключенной, о чем свидетельствуют три неудачные попытки самопреобразования (нэп, «оттепель», перестройка) и полная неспособность КПСС – ведущей и руководящей силы советского общества – к самореформированию в ходе перестройки. Исходя из этого, мы должны согласиться с М. Чешковым [4], который полагает, что зарождавшиеся в недрах советского социума агенты гражданского общества не способны были стать альтернативой советскому типу социальной организации. Это означает также, что зарождение гражданского общества не может происходить на базе советской организации, зарождение гражданского общества может быть лишь продуктом распада советского социума или, вернее, его саморазложения. Однако, добавляет М. Чешков, из этого вовсе не следует, что самораспад советского общества сам по себе генерирует рождение гражданского общества. Распад советского общества свидетельствует лишь об исторической исчерпанности этого типа социальной организации, о (по Н. Бердяеву) конечности и запредельности российского коммунизма. Поэтому на постсоветском пространстве речь может идти не о возрождении или восстановлении гражданского общества, а о становлении этого типа социальной организации.
В постсоветских государствах гражданское общество стало формироваться лишь в результате начала радикальных форм в экономической и политической сферах после обретения ими независимости. Здесь, по мнению политологов, формируется переходный тип гражданского общества, имеющего определенные особенности [5]. В обобщенном виде эти особенности можно свести к следующему.
Первое. Зарождение элементов, компонентов и оснований гражданского общества во всех постсоветских государствах происходит более или менее синхронно, что объясняется как единством советского наследия, так и общностью задач, которые ставит и решает каждый социум.
Второе. Новая социальная организация на постсоветских пространствах зарождается не в порядке естественно-исторического развития (как это имело место на Западе), а привносится извне и накладывается на традиционные (советские и досоветские) формы организации социумов.
Третье. Становление субъектов, институтов, отношений нового типа социальной организации идет крайне неравномерно. Становление его оснований (рынок) и условий (система представительной демократии) не коррелируется жестко с процессом образования социальных субъектов и их организаций.
Четвертое. Для постсоветских социумов характерна асимметрия во взаимосвязи «государство – гражданское общество»: становление первого обгоняет становление второго и фактически обуславливает его рождение. В этих социумах нет того параллелизма в становлении обеих частей этой связки, который был характерен для Европы XVI–XIX вв. [6].
Таким образом, становление гражданского общества в постсоветских странах идет сложно и противоречиво, о чем свидетельствует и опыт Кыргызской Республики.
Встав на путь строительства собственной государственности и создания новой социальной организации общества, Кыргызстан встретился с большими трудностями. В наследие от предыдущего строя новое государство получило разорванную плановую экономику, находившуюся в глубоком кризисе. Население республики было отчуждено и от собственности, и от власти. Общественная самодеятельность и самоорганизация не были развиты. Общественное и политическое сознание находилось на чрезвычайно низком уровне. Граждане не ощущали себя субъектами общественной жизни.
Естественно, при формировании нового типа социальной организации не могло быть и речи об использовании советского опыта, ведь он, как сказано выше, напрочь отрицал возможность и даже необходимость формирования гражданского общества. Не могло быть и речи о возврате к кыргызской традиционности, отягощенной родоплеменными пережитками и традициями. Речь шла о формировании принципиально новой для Кыргызстана организации социума, базирующейся на принципиально новой основе. Но эту основу, обеспечивающую формирование гражданского общества, предстояло еще создать.
Прежде всего нужна была структурная перестройка всего народного хозяйства на началах рыночных отношений, разгосударствления и приватизации государственной собственности, что ограничивало бы вмешательство государства в экономическую жизнь, способствовало повышению эффективности производства и формированию нового слоя собственников, экономически свободных и независимых от государства.
Молодое кыргызское государство энергично приступило к реализации этих задач. Еще до обретения независимости и в первые годы после 31 августа 1991 г. кыргызский парламент принял ряд актов, направленных на перестройку экономических отношений. К ним, в частности, относятся Программа стабилизации народного хозяйства республики и перехода к рыночной экономике, законы «Об общих началах разгосударствления, приватизации и предпринимательства», «О предпринимательской деятельности», «О крестьянском хозяйстве», «О земельной реформе», «О сельскохозяйственной кооперации», «О банках и банковской деятельности», «Об общих началах внешнеэкономической деятельности» и др. Ряд указов по регулированию экономических отношений был издан президентом.
Однако благие пожелания реформаторов не привели к быстрым результатам. Принимаемые законы и другие акты в большой мере носили отпечаток советской традиционности, были половинчатыми, а их реализация сопровождалась многими ошибками, когда, например, поспешно приватизировались и дробились высокорентабельные предприятия. Несмотря на существенную финансовую помощь от Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международной ассоциации развития и других международных организаций, политика разгосударствления и приватизации не привела к ожидаемому быстрому оживлению в экономике. Более того, к 1995 г. объем ВВП сократился вдвое по сравнению с 1990 г. [7] И хотя в последующие годы тенденцию падения ВВП удалось остановить и даже обеспечить некоторый его рост, к уровню 1990 г. экономика еще далеко не приблизилась.
Драматическая ситуация складывалась в аграрном секторе экономики. Уже в 1991 г. после соответствующего указа президента началось форсированное разрушение колхозов и совхозов, земля дробилась небольшими участками от 0,5 до 5 га, общественный скот и сельскохозяйственная техника были розданы крестьянам, что привело к резкому сокращению валовой продукции. В апреле 1992 г. президент издал новый указ, предписывавший вновь объединить крестьянские хозяйства в колхозы. Выполнить это решение не удалось, в экономике стали преобладать мелкие фермерские хозяйства, продемонстрировавшие в первые годы чрезвычайно низкую эффективность. В результате всех этих процессов только с 1993 по 1995 г. производство зерна сократилось на 38,6 %, резко сократилось поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, количество птицы [8]. Лишь с 1996 г. положение в сельском хозяйстве начало улучшаться, однако последствия допущенных ошибок и просчетов сказываются до сих пор.