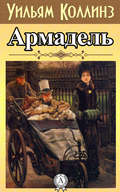Уилки Коллинз
Когда опускается ночь
Пролог к третьему рассказу
Печальным был для меня тот день, когда мистер Ланфрей из Роклей-плейс, узнав, что здоровье его младшей дочери требует более теплого климата, переехал из своего английского поместья на юг Франции. Поскольку я вынужден постоянно перебираться с места на место, у меня много знакомых, однако мало друзей. В основном дело в моем призвании – такова его природа, и я это прекрасно понимаю. Люди не виноваты, что забывают человека, который, покидая их дом, не в состоянии точно сказать, когда снова объявится в их краях.
Мистер Ланфрей был редким исключением из этого правила и всегда меня помнил. Я бережно и благодарно храню доказательства его дружеского интереса к моему благополучию в виде писем. Последнее из них – приглашение приехать погостить к нему на юг Франции. Сейчас я едва ли в состоянии воспользоваться его добротой, но люблю время от времени перечитывать его письмо, поскольку в счастливые минуты могу и помечтать, что в один прекрасный день приму приглашение.
Мое знакомство в качестве художника-портретиста с этим джентльменом сулило мне с профессиональной точки зрения не слишком много. Меня пригласили в Роклей-плейс, то есть в Поместье, как его обыкновенно называли местные жители, чтобы написать небольшой акварельный портрет француженки-гувернантки дочерей мистера Ланфрея, жившей в доме. Услышав об этом, я сразу заключил, что гувернантка намерена уволиться и покинуть дом, а ее воспитанницы хотят оставить ее портрет себе на память. Однако дальнейшие расспросы показали, насколько я заблуждался. Покинуть дом собиралась старшая дочь мистера Ланфрея, которой предстояло сопровождать мужа в Индию, и именно для нее был заказан портрет, который должен будет напоминать о доме и о ее лучшей и ближайшей подруге. Помимо этих частностей, я узнал, что гувернантка, которую до сих пор называли «мадемуазель», на самом деле старушка, что мистер Ланфрей много лет назад, после смерти жены, познакомился с ней во Франции, что она стала полновластной хозяйкой дома, а три ее воспитанницы считали ее второй матерью с тех самых пор, как отец вверил их ее заботам.
Эти обрывки сведений заставили меня с нетерпением ждать встречи с мадемуазель Клерфэ – так звали гувернантку.
В тот день, когда мне было назначено явиться в уютное поместье Роклей-плейс, я задержался в пути и прибыл на место лишь поздно вечером. Мистер Ланфрей встретил меня с радушием, ставшим ярким примером неизменной доброты, которую мне довелось видеть от него в дальнейшем. Я сразу был принят как равный, словно друг семьи, и в тот же вечер был представлен дочерям хозяина. Эти три юные дамы не просто были элегантны и обаятельны, но и могли бы послужить тремя чудесными моделями для портретов, что гораздо важнее, – особенно новобрачная. Ее молодой супруг поначалу показался мне довольно заурядным – он был молчалив и застенчив. Когда меня представили ему, я огляделся в поисках мадемуазель Клерфэ, но ее нигде не было, а вскоре мистер Ланфрей сообщил мне, что вечер она всегда проводит у себя.
Наутро за завтраком я снова ожидал увидеть мою модель – и снова напрасно.
– Мама, как мы ее называем, наряжается, чтобы позировать вам, мистер Керби, – сказала одна из юных дам. – Надеюсь, вы не считаете ниже своего достоинства писать шелк, кружева и драгоценности. Милая старушка, совершенство во всех прочих отношениях, обладает и совершенным вкусом в одежде и хочет непременно предстать на портрете во всем великолепии.
После подобных объяснений я был готов увидеть нечто незаурядное, однако, когда мадемуазель Клерфэ наконец явилась и объявила, что готова позировать, реальность превзошла все мои самые смелые ожидания.
Ни до, ни после не случалось мне видеть такой изысканный наряд в сочетании с такой живостью ума и тела в преклонные годы. Мадемуазель оказалась маленькой и тоненькой, с идеально белым лицом и кожей, покрытой густой затейливой сеточкой самых мелких на свете морщинок. Ясные черные глаза – настоящее чудо молодости и жизнерадостности. Они сверкали, сияли, вбирали в себя и охватывали все и вся вокруг с такой быстротой, что простая седая прическа казалась неестественно чинной, а морщинки – словно бы искусным маскарадом, призванным создать впечатление старости. Что же касается ее наряда, мне редко приходилось сталкиваться с настолько сложной задачей для художника. На мадемуазель было серебристо-серое шелковое бальное платье, которое при каждом движении отливало новыми цветами. Оно было жесткое, как доска, и шелестело, будто листва на ветру. Голова, шея и декольте были задрапированы облаками воздушного кружева, нежнее которого мне не доводилось видеть, и оно подчеркивало все достоинства мадемуазель донельзя изысканно и благопристойно и при этом то и дело поблескивало в неожиданных местах, поскольку было расшито тонкими, словно из волшебной сказки, узорами из золота и самоцветов. На правой руке у мадемуазель было три узких браслета со вплетенными в них волосами трех ее воспитанниц; на левой – один широкий с миниатюрой на застежке. На плечи мадемуазель была кокетливо наброшена темно-коричневая шаль с золотым шитьем, в руках – прелестный небольшой веер из перьев. Когда она вышла в этом наряде – с ослепительной улыбкой и кратким реверансом, – наполнив комнату ароматом духов и грациозно играя веером, я тут же утратил всякую веру в свои способности портретиста. Самые яркие краски в моей коробке потускнели и поскучнели, а сам я почувствовал себя немытым, нечесаным, невзрачным неряхой.
– Скажите, мои ангелочки, – молвила маде-муазель, обращаясь к воспитанницам с прелестнейшим французским акцентом, – разве я сегодня не конфетка из конфеток? С должным ли великолепием я несу груз своих шестидесяти лет? Разве не воскликнут индийские дикари: «Ах! Вот это роскошь! Вот это роскошь! Умеет же она нарядиться!» – когда наш ангелочек покажет им мой портрет? А этот господин, искусный художник, знакомство с ним для меня даже больше честь, чем удовольствие, – нравится ли ему такая натурщица? Находит ли он меня очаровательной с головы до пят, приятно ли ему будет рисовать меня?
Она снова присела передо мной в кратком реверансе, приняла томную позу в предназначенном для нее кресле и осведомилась, похожа ли она на дрезденскую фарфоровую пастушку.
Юные дамы заливисто рассмеялись, и мадемуазель присоединилась к общему веселью – не менее задорно и значительно более звонко. В жизни не было у меня модели непоседливей этой чудесной старушки. Только я хотел приступить, как она вскочила с кресла и с возгласом: «Grand Dieu![22] Я забыла с утра обнять своих ангелочков!» – подбежала к воспитанницам, приподнялась перед каждой на цыпочки, прикоснулась указательными пальцами к их щекам и наскоро расцеловала – и снова уселась в кресло прежде, чем английская гувернантка успела бы произнести: «Доброе утро, мои дорогие, надеюсь, вы хорошо спали этой ночью».
Я приступил снова. Мадемуазель вскочила во второй раз и перебежала через комнату к псише.
– Нет! – услышал я ее шепот. – Я не растрепала прическу, когда целовала своих ангелочков. Можно вернуться и позировать.
Она вернулась. Я успел поработать самое большее пять минут.
– Постойте! – воскликнула мадемуазель и вскочила в третий раз. – Ведь мне нужно посмотреть, как продвигается дело у нашего мастера! Grand Dieu! Почему же он еще ничего не нарисовал?!
Я приступил в четвертый раз – и старая дама в четвертый раз вскочила с кресла.
– Мне необходимо размяться, – объявила мадемуазель и легкими шагами прошлась по комнате из конца в конец, напевая себе под нос французскую песенку: так она отдыхала.
Я уже не знал, что и поделать, и молодые дамы это заметили. Они окружили мою неуправляемую натурщицу и взмолились о милосердии ко мне.
– В самом деле! – воскликнула мадемуазель, в знак изумления вскинув руки с растопыренными пальцами. – Но в чем же вы упрекаете меня? Я здесь, я готова, я к услугам нашего мастера. В чем же вы меня упрекаете?
Тут я, к счастью, задал случайный вопрос, который заставил ее на некоторое время успокоиться. Я поинтересовался, какой портрет она хочет – в полный рост или только лицо. В ответ мадемуазель разразилась комически-возмущенной тирадой. Она посчитала меня человеком одаренным и отважным, и если я и вправду таков, то должен быть готов изобразить ее всю до последнего дюйма. Наряды – ее страсть, и я оскорблю ее до глубины души, если не воздам должное всему, что на ней сейчас надето, – и платью, и кружевам, и шали, и вееру, и кольцам, и каменьям, а главное – браслетам. При мысли о вставшей передо мной неподъемной задаче я застонал, но почтительно поклонился в знак согласия. Одного поклона мадемуазель было недостаточно, и она пожелала ради собственного удовольствия обратить мое пристальное внимание – если я окажу ей любезность и подойду к ней – на один из ее браслетов, тот, что с миниатюрой, на левом запястье. Это подарок ее самого драгоценного друга, и на миниатюре изображено его прелестное, обожаемое лицо. Если бы я только мог повторить на своем рисунке крошечную, крошечную копию этого портрета! Не сделаю ли я одолжения, не подойду ли к ней на одну маленькую секундочку, чтобы посмотреть, возможно ли исполнить ее просьбу?
Я повиновался без особого желания, поскольку со слов гувернантки решил, будто сейчас увижу заурядный портрет незадачливого обожателя, с которым она в дни своей юности обошлась с незаслуженной суровостью. Однако удивлению моему не было предела: миниатюра, написанная очень красиво, изображала женщину – молодую женщину с добрыми печальными глазами, бледным нежным лицом, светлыми волосами и таким чистым, беззащитным, милым выражением, что мне при первом же взгляде на портрет вспомнились мадонны Рафаэля.
Старая дама заметила, что портрет произвел на меня должное впечатление, и молча склонила голову.
– Какое красивое, невинное, чистое лицо! – сказал я.
Мадемуазель Клерфэ бережно смахнула платочком пылинку с миниатюры и поцеловала ее.
– У меня есть еще три ангелочка. – Она посмотрела на воспитанниц. – Они утешают меня, когда я думаю о четвертом, ушедшем на Небеса.
Она нежно погладила миниатюру тоненькими, сухонькими белыми пальчиками, словно это было живое существо.
– Сестрица Роза! – Она вздохнула, а затем, снова посмотрев на меня, продолжила: – Я бы хотела, сэр, чтобы и она попала на портрет, поскольку с юности ношу этот браслет, не снимая, в память о Сестрице Розе.
Столь внезапная перемена настроения из крайности в крайность – от легкомысленного веселья до тихой скорби – у уроженки любой другой страны показалась бы наигранной. Однако у мадемуазель она была совершенно естественной и уместной. Я вернулся к работе, несколько растерянный. Что это за «Сестрица Роза»? Очевидно, не из семейства Ланфрей. При упоминании этого имени юные дамы сохранили полнейшее спокойствие, – очевидно, оригинал миниатюры не состоял с ними в родстве.
Я попытался побороть любопытство относительно Сестрицы Розы, всецело углубившись в работу. Целых полчаса мадемуазель Клерфэ сидела передо мной смирно, сложив руки на коленях и не сводя глаз с браслета. Эта счастливая перемена позволила мне продвинуться к завершению наброска ее лица и фигуры. При удачном стечении обстоятельств я мог бы в один прием покончить со всеми трудностями предварительной работы, но в тот день судьба отвернулась от меня. Я быстро и с удовольствием работал, но тут в дверь постучал слуга и сообщил, что ленч подан, – и мадемуазель мигом отбросила все печальные размышления и больше не смогла сидеть спокойно.
– Ах, ничего не поделаешь! – воскликнула она и повернула браслет, спрятав миниатюру. – В сущности, все мы не более чем животные. Наша духовная составляющая во всем подвластна желудку. Сердце мое поглощено нежными раздумьями, но тем не менее я не прочь поесть! Идемте, дети мои и собратья. Allons cultiver notre jardin![23]
С этой цитатой из «Кандида»[24], произнесенной сокрушенным тоном, пожилая дама удалилась, а ее юные воспитанницы последовали за ней. Старшая сестра на миг задержалась в комнате и напомнила мне, что стол накрыт.
– Боюсь, вы сочли милую старушку непослушной натурщицей, – сказала она, обратив внимание, с каким недовольством я смотрю на свой рисунок. – Но она исправится, вы только продолжайте. Ведь в последние полчаса она уже начала вести себя лучше, не так ли?
– Значительно лучше, – отозвался я. – По всей видимости, мое восхищение миниатюрой отчего-то подействовало на мадемуазель Клерфэ успокоительно – вероятно, пробудило в ней давние воспоминания.
– О да! Стоит напомнить ей об оригинале портрета, и она словно преображается, что бы ни делала и ни говорила. Иногда она часами рассказывает о Сестрице Розе и обо всех испытаниях, которые выпали на ее долю во времена Французской революции. Это невероятно увлекательно, по крайней мере на наш взгляд.
– Надо полагать, дама, которую мадемуазель Клерфэ называет Сестрицей Розой, – какая-то ее родственница?
– Нет, просто очень близкая подруга. Мадемуазель Клерфэ – дочь торговца шелком из Шалона-на-Марне. Ее отец когда-то приютил у себя в конторе одинокого старика, перед которым Сестрица Роза и ее брат были в неоплатном долгу со времен Революции, и по стечению обстоятельств, связанных с этим, и состоялось знакомство мадемуазель с ее подругой, с портретом которой она теперь не расстается. Отец мадемуазель разорился, и с тех самых пор и до того дня, когда нас вверили ее попечению, наша славная старая гувернантка, Сестрица Роза и ее брат много лет жили вместе. Должно быть, именно тогда она узнала все те интересные истории, которые так часто пересказывала нам с сестрами.
– Могу ли я заключить, что, если я хочу получить возможность должным образом изучить лицо мадемуазель Клерфэ на следующем сеансе, мне следует снова напомнить ей о миниатюре, поскольку эта тема успокаивает ее, и о событиях, которые пробуждает в ее памяти этот портрет? Насколько я убедился этим утром, другого выхода нет, иначе ни мне, ни моей натурщице ничего не добиться.
– До чего же я рада это слышать! – отвечала юная дама. – Мы с сестрами легко поможем вам в этом деле, для нас нет ничего проще. Стоит нам лишь обронить словечко – и мадемуазель сразу начинает и думать, и говорить о подруге своей юности. Положитесь во всем на нас. А теперь позвольте проводить вас к столу.
Готовность, с которой дочери моего заказчика откликнулись на мою просьбу о помощи, привела к двум прекрасным результатам. Я успешно написал портрет мадемуазель Клерфэ – и услышал историю, изложенную на следующих страницах.
Два предыдущих раза я лишь повторял все, что мне рассказывали, стараясь по возможности передать слова моих моделей. В случае третьей истории последовать тому же правилу оказалось невозможно. Обстоятельства запутанной истории Сестрицы Розы я слышал несколько раз, но рассказ о них был в высшей степени отрывочным и непоследовательным. Мадемуазель Клерфэ с присущей ей живостью украшала основную сюжетную линию своего рассказа не только отсылками к местам и людям, не имеющим к ней ни малейшего видимого отношения, но и страстными политическими выступлениями крайне либерального толка – не говоря уже о всяческих нежных замечаниях о своей любимой подруге, которые из ее уст звучали премило, но при переносе на бумагу полностью потеряли бы свое обаяние. Поэтому я решил, что лучше всего рассказать эту историю по-своему, при этом строго придерживаясь канвы событий и ничего не добавляя от себя, дабы не нарушать последовательности эпизодов и в то же время представлять их, насколько это в моих силах, разнообразно и интересно для читателей.
Рассказ француженки-гувернантки о Сестрице Розе
Часть первая
Глава I
– Ну, мосье Гийом, какие новости?
– Особенно никаких, мосье Жюстен, не считая того, что у мадемуазель Розы завтра свадьба.
– Премного обязан вам, мой почтенный старинный друг, за столь любопытный и неожиданный ответ на мой вопрос. Ведь я состою в услужении при мосье Данвиле, а он в небольшой матримониальной комедии, о которой вы упоминаете, играет почетную роль жениха, поэтому, думаю, я могу заверить вас – только не обижайтесь: ваши новости, с моей точки зрения, уже сильно запылились. Угоститесь табачком, мосье Гийом, и извините меня, если я скажу вам, что мой вопрос касался новостей общественной жизни, а не личных дел двух семейств, чьи частные интересы мы имеем удовольствие отстаивать.
– Не понимаю, что вы подразумеваете под отстаиванием частных интересов, мосье Жюстен. Я слуга мосье Луи Трюдена, который живет здесь со своей сестрой мадемуазель Розой. Вы – слуга мосье Данвиля, чья достойнейшая матушка устроила его сватовство к моей хозяйке. Мы с вами – слуги, а значит, для нас нет приятнее и значительнее новостей, чем события, касающиеся счастья наших господ. Я не имею никакого отношения к общественной жизни, а поскольку принадлежу к старой школе, сделал главной задачей своей жизни не вмешиваться в чужие дела. Если ваша личная домашняя политика вам настолько не интересна, позвольте мне выразить сожаление и пожелать вам всего самого наилучшего.
– Простите меня, мой дорогой мосье, но я не питаю ни малейшего почтения к старой школе и ни малейшей симпатии к тем, кто печется только о своих делах. Однако принимаю ваши заверения в сожалении, взаимно желаю вам всего самого наилучшего и не сомневаюсь, что к следующему разу, когда мне выпадет честь видеть вас, вы достигнете успехов в усовершенствовании своего характера, одежды, манер и внешности. Прощайте, мосье Гийом, и vive la bagatelle![25]
Этот краткий диалог состоялся чудесным летним вечером в тысяча семьсот восемьдесят девятом году у задней двери домика на берегу Сены, милях в трех к западу от Руана. Один собеседник был худой, старый, брюзгливый и неопрятный; другой – упитанный, молодой, сладкоречивый и облаченный в роскошнейшую ливрею по моде того времени. Во всем цивилизованном мире приближались последние дни подлинного дендизма, а мосье Жюстен был одет по-своему идеально – живая картинка уходящей славной эпохи.
Когда старый слуга удалился, мосье Жюстен – не без снисходительности – посвятил несколько минут разглядыванию заднего фасада домика, возле которого он стоял. Судя по окнам, в доме было комнат шесть-восемь, не больше. Вместо конюшни и надворных построек к дому с одной стороны была пристроена оранжерея, а с другой – низкий и длинный деревянный флигель, броско выкрашенный. Одно окно в этом флигеле было не занавешено, и за ним виднелся буфет, уставленный бутылочками с жидкостями диковинных цветов, всевозможные хитроумные инструменты из меди и бронзы, край большой печи и прочие принадлежности, красноречиво свидетельствовавшие, что это помещение отведено под химическую лабораторию.
– Подумать только – брат нашей невесты развлечения ради варит в этом сарае зелья в кастрюльках, – пробормотал мосье Жюстен, заглядывая в окно. – Я далеко не самый привередливый человек на свете, но, должен сказать, жалею, что мы собираемся вступить в родство по браку с аптекарем-любителем. Фу! Даже отсюда чую, как там пахнет!
С этими словами мосье Жюстен с гримасой отвращения повернулся спиной к лаборатории и не спеша зашагал к нависающим над рекой утесам.
Покинув сад при доме, он поднялся на невысокий холм по извилистой тропинке, очутился на вершине, откуда открывался прекрасный вид на Сену с ее прелестными зелеными островами, пышными лесами по берегам, проворными лодками и маленькими домиками, разбросанными там и сям у воды. К западу, где за противоположным берегом реки расстилались поля, пейзаж был залит закатным багрянцем. К востоку, на сколько хватало глаз, тянулись длинные тени, перемежавшиеся неяркими полосами света, плясали на воде красные отблески, а в окнах домов, отражавших низкое солнце, ровно горело рубиновое пламя – а дальше за извивами Сены виднелись шпили, башни и улицы Руана, за которыми в дальней дали высились лесистые холмы. Этот пейзаж всегда был отрадой для глаз, а теперь, залитый великолепным вечерним светом, стал просто сверхъестественно прекрасен. Однако лакей словно не замечал всех этих красот – он стоял, позевывая и сунув руки в карманы, и не смотрел ни направо, ни налево, а глядел лишь прямо перед собой в небольшую лощину, за которой земля плавно поднималась к краю обрыва. Там стояла скамейка, а на ней сидели трое – пожилая дама, какой-то господин и юная девушка – и любовались закатом, по стечению обстоятельств повернувшись к мосье Жюстену спиной. Рядом с ними стояли еще двое и тоже смотрели вдаль, на реку. Эти пять фигур и привлекли внимание лакея, заставив позабыть обо всем вокруг.
– Расселись, – пробурчал он недовольно себе под нос. – Мадам Данвиль на прежнем месте на скамье; мой господин, жених, рядом с ней, сама почтительность; мадемуазель Роза, невеста, рядом с ним, сама стыдливость; мосье Трюден, ее брат, аптекарь-любитель, – рядом с ней, сама заботливость; и придурковатый мосье Ломак, наш управляющий, сама услужливость – вдруг им что-то понадобится. Вот они все – ума не приложу, как можно тратить столько времени, глядя в пустоту! Да, – продолжал мосье Жюстен, устало подняв глаза и всмотревшись в даль, сначала в сторону Руана, вверх по реке, затем на закат, вниз по реке, – да, чума на них, день-деньской глядят в пустоту, в полную и абсолютную пустоту!
Тут мосье Жюстен снова зевнул и, вернувшись в сад, уселся под раскидистым деревом и смиренно уснул.
Если бы лакей подошел поближе к пяти фигурам, которых он клеймил издалека, и если бы обладал чуть более развитой наблюдательностью, он едва ли упустил бы из виду, что и завтрашние новобрачные, и их спутники с обеих сторон были в большей или меньшей степени скованы какой-то тайной мыслью, которая влияла и на их разговоры, и на жесты, и даже на выражения лиц. Мадам Данвиль – статная, богато одетая старая дама с весьма проницательными глазами и резкой, недоверчивой манерой держаться – была сдержанна и, казалось бы, всем довольна, но лишь пока смотрела на сына. Когда же ей случалось обратиться к его невесте, по лицу ее пробегала еле заметная тень беспокойства – беспокойства, которое сменялось неприкрытым недовольством и подозрительностью, когда она смотрела на брата мадемуазель Трюден. Подобным же образом и манеры, и выражение лица ее сына, который весь сиял от счастья, когда разговаривал с будущей женой, заметно менялись – в точности как у матери, – когда ему случалось обратить особое внимание на присутствовавшего здесь мосье Трюдена. Да и Ломак, управляющий, тихий, умный, тощий Ломак с его вечным смирением и красными глазами, стоило ему взглянуть на будущего шурина своего господина, тут же отводил глаза с явным смущением и задумчиво сверлил дырки в дерне своей длинной заостренной тростью. Даже сама невеста – прелестная невинная девушка, по-детски застенчивая, – заразилась общим настроением. Время от времени лицо ее омрачали сомнения, если не страдания, и рука, которую держал в своих ладонях ее возлюбленный, слегка дрожала; когда же мадемуазель Розе случалось перехватить взгляд брата, она явно смущалась.
Как ни поразительно, ни в облике, ни в манерах человека, чье присутствие, очевидно, по неизвестной причине настолько смущало будущих супругов и их родных, не было ничего отталкивающего, – напротив, он лишь располагал к себе. Луи Трюден был исключительно красив. Выражение его лица отличалось добротой и приветливостью, а открытость, мужественная твердость и сдержанность были непреодолимо обаятельны. Даже если он что-то говорил, его слова никого не могли задеть – как и поведение, – поскольку он открывал рот лишь для того, чтобы учтиво ответить, когда ему задавали прямой вопрос. Судя по тщательно скрываемым ноткам грусти в голосе и печальной нежности, затуманивавшей его добрые, серьезные глаза, стоило ему посмотреть на сестру, в его мыслях не было места ни радости, ни надеждам. Однако он не позволял себе прямо выразить свои чувства и не навязывал своей тайной грусти, чем бы она ни объяснялась, никому из своих спутников. Тем не менее при всей скромности и сдержанности Трюдена его присутствие, очевидно, пробуждало в душе всех окружающих то ли печаль, то ли угрызения совести и омрачало канун свадьбы и для жениха, и для невесты.
Солнце медленно опускалось к горизонту, и разговор постепенно иссякал. После долгого молчания жених первым предложил новую тему.
– Роза, любовь моя, – сказал он, – этот великолепный закат – хорошая примета для нашей свадьбы; он сулит на завтра еще один погожий денек.
Невеста засмеялась и покраснела:
– Вы верите в приметы, Шарль?
– Если Шарль и верит в приметы, моя милая, смеяться тут не над чем, – вмешалась пожилая дама, не дав сыну ответить. – Когда вы станете его женой, быстро отучитесь выражать сомнения в его словах, даже в мелочах, когда кругом полно посторонних. Все его убеждения имеют под собой самую надежную основу, и если бы я считала, что он и в самом деле верит в приметы, я, несомненно, и сама приучила бы себя в них верить.
– Прошу прощения, мадам, – дрожащим голосом начала Роза, – я лишь хотела…
– Дитя мое, неужели вы настолько плохо знаете жизнь, что можете предположить, будто могли задеть меня…
– Дайте Розе договорить, – сказал молодой человек.
При этих словах он повернулся к матери с надутым видом, точь-в-точь балованный ребенок. Миг назад мать взирала на него с любовью и гордостью. Теперь же она недовольно отвела взгляд от его лица, помолчала, внезапно растерявшись, что было явно чуждо ее характеру, а затем шепнула ему на ухо:
– Разве я виновата, если хочу сделать ее достойной тебя?
Ее сын словно и не слышал вопроса. И лишь резко повторил:
– Дайте Розе договорить.
– На самом деле я ничего не хотела сказать, – пролепетала девушка, все более и более смущаясь.
– Да нет же, хотели!
Так грубо и резко прозвучал его голос, такая отчетливая досада сквозила в нем, что мать предостерегающе притронулась к руке сына и шепнула:
– Тсс!
Мосье Ломак, управляющий, и мосье Трюден, брат невесты, разом вопросительно покосились на девушку, едва с губ жениха сорвались эти слова. Она, по всей видимости, испугалась и удивилась, но не обиделась и не рассердилась. На узком лице Ломака проступила заинтересованная улыбка, но он скромно уставился в землю и начал буравить в дерне новую дырку острым концом трости. Трюден тут же отвел глаза и со вздохом отошел на несколько шагов, затем вернулся и хотел было заговорить, но Данвиль опередил его:
– Простите меня, Роза. Слишком уж ревностно я слежу, чтобы вы не испытывали недостатка во внимании, вот и расстраиваюсь порой безо всяких оснований.
С этими покаянными словами он поцеловал ей руку, очень нежно и изящно, но в глазах его мелькнуло выражение, шедшее вразрез с этим показным жестом. Этого не заметил никто, кроме наблюдательного и смиренного мосье Ломака, который снова улыбнулся про себя и принялся еще усерднее буравить дырку в траве.
– По-моему, мосье Трюден собирался что-то сказать, – произнесла мадам Данвиль. – Вероятно, он не будет возражать и позволит нам выслушать себя.
– Конечно, мадам, – учтиво отвечал Трюден. – Я собирался признаться, что это я виноват, если Роза без должного почтения относится к тем, кто верит в приметы: это я с детства приучал ее смеяться над всякого рода суевериями.
– Вы смеетесь над суевериями? – воскликнул Данвиль, порывисто повернувшись к нему. – Вы, человек, выстроивший лабораторию, посвятивший свой досуг изучению оккультного искусства химии, искатель эликсира жизни?! Право слово, вы меня поражаете!
В его голосе, глазах и манере сквозила саркастическая учтивость, по всей видимости прекрасно знакомая его матери и управляющему мосье Ломаку. Первая снова притронулась к руке сына и шепнула: «Осторожней!» – второй вдруг посерьезнел и перестал буравить дырку в траве. Роза не слышала предостережений мадам Данвиль и не заметила перемены в поведении Ломака. Она повернулась к брату и с сияющей, нежной улыбкой ждала, что он ответит. Он кивнул, словно хотел подбодрить ее, а затем снова обратился к Данвилю.
– У вас излишне романтические представления о химических экспериментах, – негромко проговорил он. – Мои опыты не имеют ни малейшего отношения к тому, что вы называете оккультными искусствами: я готов показать их хоть всему миру, если только мир сочтет это достойным зрелищем. Единственные эликсиры жизни, о которых мне известно, – это спокойное сердце и удовлетворенный ум. И то и другое я обрел много лет назад, когда мы с Розой поселились в этом домике.
В голосе его прозвучала затаенная печаль, что для его сестры означало гораздо больше, чем произнесенные простые слова. На глаза у нее навернулись слезы, она на миг отвернулась от жениха и взяла брата за руку.
– Не надо так говорить, Луи, словно вы потеряете сестру, ведь… – Губы у нее задрожали, и она осеклась.
– Все сильнее ревнует, боится, что вы отнимете ее у него! – зашептала мадам Данвиль на ухо сыну. – Тсс! Не обращайте внимания, ради всего святого! – добавила она поспешно, поскольку мосье Данвиль встал и шагнул к Трюдену, не скрывая раздражения и досады.
Однако он не успел ничего сказать: появился старый слуга Гийом и объявил, что кофе подан. Мадам Данвиль снова шепнула «Тсс!» и поскорее взяла сына под руку; вторую он предложил Розе.
– Шарль, – удивилась девушка, – как вы раскраснелись и как дрожит у вас рука!
Он сумел овладеть собой и улыбнулся ей:
– А знаете почему, Роза? Я думаю о завтрашнем дне.
С этими словами он прошел мимо управляющего и повел дам вниз, к дому. На узкое лицо мосье Ломака вернулась улыбка, в красных глазах мелькнул непонятный огонек – и он принялся буравить в дерне очередную дырку.
– Вы не зайдете выпить кофе? – спросил Трюден, прикоснувшись к руке управляющего.
Мосье Ломак еле заметно вздрогнул и оставил трость торчать в земле.
– Тысяча благодарностей, мосье. Только после вас.
– Признаться, сегодня до того прекрасный вечер, что мне пока не хочется уходить отсюда.
– Ах! Красоты природы – я радуюсь им вместе с вами, мосье Трюден, они у меня прямо вот здесь!
И Ломак прижал одну руку к сердцу, а другой выдернул трость из травы. Пейзаж и закат интересовали его не больше, чем недавно мосье Жюстена.
Они сели рядышком на опустевшую скамью, настало неловкое молчание. Смиренный Ломак был слишком скромен и не мог забыть свое место и завести беседу первым. Трюден был поглощен своими мыслями и не расположен разговаривать. Однако правила приличия требовали что-нибудь сказать. Не слишком вслушиваясь в собственные слова, он начал с пустой светской фразы:
– Жаль, мосье Ломак, что у нас было мало поводов узнать друг друга поближе.