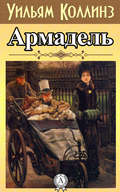Уилки Коллинз
Армадэль, или Проклятие имени
Глава II
Человек раскрылся
Влажный, холодный воздух наступающего рассвета врывался в открытое окно, когда Брок дочитал последние строчки признания. Он молча положил письмо, не поднимая глаз. Первый удар открытия поразил его душу, потом все прошло. В его лета и с его привычкой к размышлению в голове не могло вдруг уместиться все открытие, потрясшее его. Сердце Брока, когда он закрыл рукопись, обратилось к воспоминанию о женщине, которая была любимым другом его недавней и более счастливой жизни. Все его мысли были устремлены на печальную тайну ее измены родному отцу, обнаружившуюся в этом письме.
Ректора отвлекло от собственного огорчения сотрясение стола, у которого он сидел, от тяжело положенной на этот стол руки. Он заставил себя успокоиться и поднял глаза.
Перед ним в смешанном свете желтого огня свечи и слабого серого рассвета молча стоял наследник рокового имени Армадэля.
Брок задрожал, представив себе ужас настоящего и еще более мрачные перспективы будущего. Все это пронеслось в уме при виде лица этого человека. Этот человек понял мысли ректора и заговорил первым.
– Разве преступление моего отца смотрит на вас из моих глаз? – спросил он. – Разве призрак утопленного последовал за мной в эту комнату?
Страдание и волнение, сдерживаемые им, потрясли его руку, лежавшую еще на столе, и прервали голос до такой степени, что он понизился до шепота.
– Я не имею желания обращаться с вами иначе, как того требуют справедливость и доброта, – отвечал Брок. – Будьте и вы ко мне справедливы и поверьте, что я не способен к жестокости требовать от вас ответственности за преступление вашего отца.
Этот ответ, по-видимому, успокоил Мидуинтера. Он молча потупил голову и взял письмо со стола.
– Вы все прочли? – спросил он спокойно.
– Каждое слово, от начала до конца.
– Поступил ли я откровенно с вами? Сделал ли Озайяз Мидуинтер…
– Вы все еще называете себя этим именем, – перебил Брок. – Теперь, когда ваше настоящее имя известно мне?
– С тех пор как я прочел признания моего отца, – было ответом, – я люблю мое безобразное имя еще более прежнего. Позвольте мне повторить вопрос, который я хотел предложить вам: сделал ли Озайяз Мидуинтер все, что мог, для того чтобы сообщить мистеру Броку все, что нужно было ему знать?
Ректор уклонился от прямого ответа.
– Немногие в вашем положении, – сказал он, – имели бы мужество показать мне это письмо.
– Не слишком полагайтесь, сэр, на бродягу, которого вы встретили в гостинице, до тех пор, пока не узнаете о нем подробнее, чем знали до сих пор. Вы узнали тайну моего происхождения, но вам еще не известна история моей жизни. Вы должны узнать ее и узнаете, прежде чем оставите меня одного с мистером Армадэлем. Угодно вам подождать и отдохнуть немного или я должен рассказывать вам теперь?
– Теперь, – отвечал Брок, все еще так же мало, как прежде, понимавший настоящий характер человека, находившегося перед ним.
Все, что Озайяз Мидуинтер делал, было против него. Он выражался равнодушным, почти дерзким тоном, который оттолкнул бы сочувствие всякого человека, слушавшего его. Вместо того чтобы разместиться у стола и прямо рассказывать свою историю ректору, он молча и нелюбезно отошел к окну, сел, отвернувшись, и машинально перевертывал листы письма своего отца, пока дошел до последнего. Устремив глаза на окончательные строчки рукописи, со странной смесью грусти и небрежности в голосе он начал обещанный рассказ в следующих словах.
– Вы узнали обо мне прежде всего из признаний моего отца. Он упоминает, что я был ребенком, спящим на его груди, когда он проговорил последние слова на этом свете и когда рука постороннего написала их под его диктовку у его смертного одра. Имя этого постороннего, как вы, может быть, приметили на конверте, Александр Нил, чиновник при королевской печати в Эдинбурге. Первые воспоминания мои относятся к Александру Нилу, побившему меня хлыстом (наверно, я это заслужил) в качестве моего отчима.
– Разве вы не помните вашу мать в то же время? – спросил Брок.
– Да, я помню, что она переделывала для меня поношенное старое платье, а для детей от второго мужа покупала прекрасные новые платья. Я помню, что слуги насмехались над моим старым платьем, а отчим опять побил меня хлыстом за то, что я рассердился и разорвал мои изношенные платья. Мои следующие воспоминания переносятся на два года позже. Я помню, что меня заперли в чулан на хлеб и на воду и что я удивлялся, отчего отчим мой и мать ненавидят меня. Я только вчера решил этот вопрос и разгадал тайну, когда письмо моего отца было мне отдано. Мать моя и отчим знали, что случилось на французском корабле, производившем торг строевым лесом, и обоим хорошо было известно, что постыдная тайна, которую им хотелось бы скрыть от всех на свете, со временем будет открыта мне. Помешать этому не было никакой возможности – признание находилось в руках душеприказчика, и я, несчастный мальчик, с африканской смуглостью моей матери на лице, с убийственными страстями отца моего в сердце, был наследником их тайны, вопреки всем их желаниям скрыть ее от меня! Я не удивляюсь, зачем меня били хлыстом, одевали в старое платье, сажали на хлеб и на воду в чулан – это были все наказания естественные, сэр, которыми ребенок начинал уже расплачиваться за преступление своего отца.
Брок посмотрел на смуглое лицо, все еще упорно отворачивавшееся от него, и спросил себя: «Что это? Совершенная ли нечувствительность бродяги или отчаяние несчастного?»
– Следующие мои воспоминания относятся к школе, – продолжал молодой человек, – самой дешевой школе в дальнем уголке Шотландии. Меня отдали туда с самой дурной рекомендацией. Избавляю вас от рассказа о том, как учитель колотил меня в классе, а мальчики били во время игры. Наверно, в моем характере была врожденная неблагодарность – по крайней мере я убежал. Первый человек, встретивший меня, спросил, как меня зовут. Я был слишком молод и слишком глуп для того, чтобы понять, как было важно для меня скрыть мое имя, и, разумеется, меня в тот же вечер отвели в школу. Последствия научили меня уроку, которого я с тех пор не забывал. Два дня спустя, как настоящий бродяга, я убежал во второй раз. Дворовой собаке, вероятно, были даны инструкции: она остановила меня, прежде чем я успел выбежать из ворот. Вот ее знак, между прочим, на моей руке. Знаки ее хозяина я показать вам не могу – они все на моей спине. Можете ли вы поверить моему злому упрямству? Во мне сидел демон, которого никакая собака не могла выгнать. Я опять убежал, как только встал с постели, и на этот раз убежал совсем. Ночью я очутился в степи. Карман у меня был набит овсяной мукой из школы. Я лег на прекрасный мягкий вереск под большой серой скалой. Вы думаете, что я чувствовал свое одиночество? Нет! Я убежал от палки моего учителя, от пинков моих товарищей, от моей матери, от моего отчима, и, лежа в эту ночь под дружелюбной скалой, я чувствовал себя счастливейшим мальчиком во всей Шотландии.
Сквозь несчастное детство, рассказ о котором потряс ректора, начали просматриваться обстоятельства, которые вынудили мистера Брока начать постепенно уяснять, как мало было странного, как мало было непонятного в характере человека, говорившего теперь с ним.
– Я крепко заснул, – продолжал Мидуинтер, – под моей дружелюбной скалой. Когда я проснулся утром, я увидел дородного старика со скрипкой, сидевшего возле меня с одной стороны, и двух пляшущих собак в красных курточках – с другой. Опытность научила меня не говорить правды, когда этот человек задавал мне первые вопросы. Он настаивал, он дал мне позавтракать из своей сумки и позволил побегать с собаками.
– Я вот что скажу вам, – проговорил он, когда добился моего признания таким способом, – вам нужны три вещи, мой милый: вам нужен новый отец, новая семья, новое имя. Я буду вашим отцом, эти собаки будут ваши братья, а если вы обещаете мне хорошенько беречь мое имя, я дам вам его в придачу. Озайяз Мидуинтер-младший, вы хорошо позавтракали. Если вы хотите хорошо пообедать, пойдемте со мной.
Он встал, собаки побежали за ним, а я побежал за собаками. Вы спросите: кто был мой новый отец? Полуцыган, сэр, пьяница, злодей и вор – и мой лучший друг! Разве не друг вам тот человек, который дает вам пищу, приют и воспитание? Озайяз Мидуинтер научил меня танцевать шотландский танец, кувыркаться, ходить на ходулях и петь под его скрипку. Иногда мы странствовали и давали представления на ярмарках, иногда мы бывали в больших городах и восхищали компанию низкого разряда в тавернах. Я был премилый, превеселый одиннадцатилетний мальчик, и компания низкого разряда, особенно женщины, пристрастилась ко мне и к моим проворным ножкам. Я имел такие бродяжнические наклонности, что мне нравилась эта жизнь. Я жил, ел, пил и спал с собаками. Я не могу подумать равнодушно об этих бедных маленьких четвероногих моих братьях даже теперь. Много побоев досталось нам всем троим, много тяжелых дней отплясывали мы вместе, много ночей ночевали мы вместе на холодных холмах! Я не стараюсь огорчить вас, сэр, я только говорю вам правду. Эта жизнь, со всеми своими неприятностями, была по мне, и я любил цыгана, давшего мне свое имя, несмотря на то, что он был злодей.
– Вы любили человека, который вас бил! – с удивлением воскликнул Брок.
– Разве я не сказал вам, сэр, что я жил с собаками? Разве вы не слыхали, что, чем хозяин больше бьет собаку, тем больше она любит его? Сотни несчастных мужчин, женщин и детей любили бы этого человека, как я его любил, если бы он всегда давал им то, что давал мне – изобильную пищу. Она была краденая по большей части, и мой новый цыган-отец был на нее щедр. Он редко бил нас, когда был трезв, но его забавлял наш вой, когда он был пьян. Он умер от пьянства и до последнего дыхания наслаждался своим любимым удовольствием. Однажды (я служил ему уже два года), накормив нас хорошим обедом в степи, он сел, прислонившись спиной к камню, и подозвал нас, чтобы доставить себе забаву – отколотить нас палкой. Сначала он заставил визжать собак, а потом подозвал меня. Я подошел весьма неохотно – он напился больше обыкновенного, а чем более он пил, тем больше ему нравилась послеобеденная забава. В этот день он был очень весел и ударил меня так сильно, что сам повалился от силы своего собственного удара. Он упал лицом в лужу и лежал там без движения. Я с собаками стоял поодаль и смотрел на него. Мы думали, что он притворяется, чтобы приманить нас ближе и отколотить опять. Он так долго притворялся, что мы наконец осмелились подойти к нему. Я долго не мог перевернуть его – он был тяжел. Когда я повернул его на спину, он был мертв. Мы кричали изо всех сил, но собаки были малы и я был мал, а место уединенное: никто не пришел к нам на помощь. Я взял его скрипку и его палку, я сказал моим братьям: «Пойдемте! Мы теперь должны сами зарабатывать себе пропитание». И мы ушли с тяжелым сердцем и оставили его в степи. Как ни неестественно вам это может показаться, мне было жаль его. Я сохранил его безобразное имя во всех моих последующих странствованиях, а во мне осталось еще так много прежних наклонностей, что мне даже нравится звук этого имени. Мидуинтер или Армадэль – оставим пока мое имя, мы после поговорим о нем. Прежде вам нужно узнать обо мне самое худшее.
– Почему же не самое лучшее? – кротко спросил Брок.
– Благодарю вас, сэр, но я пришел сюда сказать правду. Мы перейдем, если вы позволите, к следующей главе в моей истории. После смерти нашего хозяина собакам и мне не посчастливилось. Я лишился одного из моих маленьких братьев – самого искусного плясуна. Его украли, и я нигде не мог отыскать его. Скрипку и ходули отнял у меня потом силой какой-то бродяга, который был сильнее меня. Эти несчастья сблизили Томми и меня – извините, сэр, я говорю о собаке – более прежнего. Я думаю, мы имели какое-то смутное предчувствие, что наши несчастья еще не кончились. Как бы то ни было, мы очень скоро расстались навсегда. Никто из нас не был вором (наш хозяин учил нас только плясать), но, несмотря на это, мы оба сделали набег на чужую собственность. Молодые существа, даже когда они умирают с голода, не могут устоять от желания побегать иногда в хорошую погоду. Мы с Томми не могли устоять от желания побегать на плантации одного джентльмена. Джентльмен берег свою дичь, а его лесничий знал свою обязанность. Я услыхал ружейный выстрел – вы можете угадать остальное. Сохрани меня боже от несчастья еще когда-нибудь почувствовать такое огорчение, какое почувствовал я, когда поднял Томми мертвого и окровавленного! Лесничий хотел разлучить нас, я укусил его, как дикий зверь. Он ударил меня палкой, он мог точно так же пробовать ее удары на дереве. Этот шум услыхали молодые девицы, ехавшие верхом мимо, – дочери того джентльмена, в поместье которого я забрался. Они были слишком хорошо воспитаны для того, чтобы возмутиться против священного права сохранять дичь, но это были девушки добрые, им стало жаль меня, и они взяли меня домой. Я помню, как все мужчины – все записные охотники – громко расхохотались, когда я шел мимо окон со слезами, держа на руках мою мертвую собачку. Не думайте, что я жалуюсь на их смех. Он оказал мне большую услугу: он возбудил негодование обеих девиц. Одна из них повела меня в сад и показала мне место, где я мог похоронить мою собачку, под цветами, с полной уверенностью, что ничья рука не потревожит ее. Другая девица пошла к отцу и уговорила его приютить маленького бродягу в доме помощником одного из слуг. Да, вы ехали на яхте с человеком, который когда-то был лакеем. Я видел, как вы смотрели на меня, когда я забавлял мистера Армадэля, накрывая на стол. Теперь вы знаете, почему я умею накрыть так искусно и не забываю ничего – мне посчастливилось видеть хороший свет, я помогал наполнять желудки и чистить сапоги. Жил я в людской недолго. Прежде чем я износил мою первую ливрею, в доме произошел скандал. Это была старая история, нечего рассказывать ее в сотый раз. На столе были оставлены деньги, они пропали. У всех слуг были аттестаты, кроме мальчика, который был взят так опрометчиво. Ну, мне «посчастливилось» в этом доме до конца: меня не преследовали за похищение того, до чего я не только не дотрагивался, но чего я даже не видел, – меня только выгнали. В одно утро отправился я в моем старом платье на могилу, в которой я похоронил Томми. Я поцеловал это место, я простился с моей умершей собачкой и очутился опять один на свете в зрелом тринадцатилетнем возрасте.
– В этом одиночестве и в таких нежных летах разве в голове вашей не промелькнула мысль возвратиться домой? – спросил Брок.
– Я в эту же самую ночь возвратился домой – я ночевал на горе. Какой другой был у меня дом? Дня через два я возвратился в большие города, в дурную компанию: сельская местность казалась теперь так пустынна для меня, когда я лишился собак! Меня скоро завербовали два моряка. Я был мальчик проворный, и меня сделали кают-юнгой на каботажном судне. Грязна койка кают-юнги, кормят его остатками, заставляют работать как взрослого, а уж как больно бьют! Корабль вошел в пристань на Гебридских островах. Я, по обыкновению, поступил неблагородно с моими благодетелями – опять убежал. Меня нашли какие-то женщины, полумертвого от голода, в северных пустынях острова Скай. Это было близ берега, и мне пришлось жить у рыбаков. Мои новые хозяева меньше меня били, но зато приходилось мне терпеть и ветры, и непогоды, а работа была такая тяжелая, что могла бы убить мальчика не такого привычного, как я. Я все переносил, пока зима не наступила. Тогда рыбаки выгнали меня. Я их не порицаю: пищи было мало, а желудков много. Когда голод угрожал всей общине, зачем было держать мальчика, не принадлежавшего им? Большой город оставался моим единственным прибежищем в зимнее время. Я отправился в Глазго и чуть было не попал в львиную пасть. Я караулил пустую телегу в Брумилау, когда услыхал голос моего отчима на тротуаре возле той лошади, около которой я стоял. Он встретился с каким-то знакомым, и, к моему ужасу и удивлению, они разговаривали обо мне. Спрятавшись за лошадью, я узнал из их разговора, что меня чуть было не захватили как раз перед моим поступлением на каботажное судно. В то время я сошелся с другим бродягой одних со мною лет, мы поссорились и разошлись. На другой день отчим мой разузнавал в этом самом округе. Он не решался (потому что не мог добиться описания примет ни одного из нас), за которым из двух мальчиков должен он гнаться. Ему сказали, что одного из них звали Браун, а другого Мидуинтер. Браун было именно такое обыкновенное имя, которое мог принять хитрый беглец, а Мидуинтер, напротив, было такое замечательное имя, которого всякий беглец должен был избегать. Погоня была направлена за Брауном, и это дало мне возможность убежать. После этого вы легко можете себе представить, решился ли я сохранить имя моего хозяина-цыгана. Но мое намерение не остановилось на этом, я решился совсем оставить мое отечество. Дня два разузнавал я об отходящих кораблях. Узнал, который идет прежде, и спрятался на нем. Голод вынуждал меня выйти из моего убежища, прежде чем лоцман уехал, но голод не был для меня новостью, и я оставался там. Лоцман уехал с корабля, тогда я явился на палубу, и ничего более не оставалось, как оставить меня или бросить за борт. Капитан сказал – я не сомневаюсь в справедливости его слов, – что он предпочел бы бросить меня за борт, но закон иногда стоит даже за такого бродягу, как я. Таким образом я вернулся к жизни моряка. На корабле я научился настолько, что мог быть ловок и полезен, как вы приметили, на яхте мистера Армадэля. Я ходил несколько раз на кораблях в разные части света и, может быть, на всю жизнь остался бы моряком, если бы мог сдерживать мой характер, несмотря на раздражения, каким подвергали его. Я научился многому. Заключительную часть моего последнего путешествия в Бристольскую гавань я сделал в кандалах и попал в тюрьму в первый раз в жизни по обвинению в непослушании одному из офицеров. Вы слушали меня с необыкновенным терпением, сэр, и я с радостью могу сказать вам, что мы теперь недалеко от конца моего рассказа. Вы нашли книги, сколько мне помнится, когда рассматривали мою поклажу в сомерсетширской гостинице.
Брок отвечал утвердительно.
– Эти книги отмечают следующую перемену в моей жизни, и последнюю, прежде чем я занял место учителя в школе. Мое заключение было непродолжительно. Может быть, моя юность защитила меня, может быть, бристольские судьи приняли во внимание то время, которое я провел в кандалах на корабле. Как бы то ни было, мне только что минуло семнадцать лет, когда я опять очутился один на свете. У меня не было друзей, которые приняли бы меня, мне некуда было идти. Жизнь моряка после того, что случилось, казалась мне отвратительна. Я стоял в толпе на мосту в Бристоле, спрашивая себя, что теперь делать с моей свободой, когда она была мне возвращена. Изменился ли я в тюрьме или я чувствовал перемену в характере, наступающую с возмужалостью, не знаю, но прежняя способность к наслаждению бродяжнической жизнью совсем исчезла из моей натуры. Ужасное чувство одиночества преследовало меня, когда я ходил по Бристолю, ужасаясь тихих окрестностей после сумерек. Я смотрел на огни, мелькавшие в окнах, с жалкой завистью к счастливым людям, жившим в этих домах. В то время добрый совет значил бы для меня что-нибудь. Я и получил его. Полисмен посоветовал мне идти дальше. Он был совершенно прав. Что другое мог я сделать? Я взглянул на небо, и там сияла моя старая приятельница многих бессонных ночей, проведенных на море, – северная звезда.
«Все страны на свете равны для меня, пойду в твою сторону!» – думал я.
Но даже и звезда не хотела сопутствовать мне в этот вечер: она зашла за тучу и оставила меня одного под дождем и в темноте. Я пробрался под навес, заснул, и мне привиделось былое – как я служил моему цыгану-хозяину и жил с собаками. Боже! Чего не дал бы я, проснувшись, чтобы почувствовать холодную мордочку Томми на моей руке! Зачем не спешу к концу? Вы не должны поощрять меня, сэр, слушая терпеливо. Постранствовав еще неделю, не имея никаких надежд в будущем, которые могли бы поддержать меня, я очутился на улицах Шрюсбюри и смотрел на окно книжной лавки. К двери подошел старик, осмотрелся вокруг и увидел меня.
«Хотите поработать? – спросил он. – Согласитесь ли взять дешево?» Надежда иметь какое-нибудь дело и сказать хоть слово человеческому существу показалась мне заманчивой, и я за шиллинг исполнял целый день грязную работу в кладовой книгопродавца. Я получил еще работу за ту же цену. Через неделю мне поручили уже мести лавку, закрывать ставни, потом стали поручать относить книги. Когда настал день расплаты и приказчик уволился, я занял его место. Удивительное счастье, скажете вы. Я наконец нашел друга. Я нашел самого безжалостного скрягу в Англии, и мне удалось попасть на это место только потому, что я брал дешевле всех. Работу в кладовой не брал за эту цену никто в городе, а я исполнил ее. Носильщик получал свое еженедельное жалованье, жалуясь каждую неделю. Я взял двумя шиллингами дешевле и не жаловался. Приказчик отказался по той причине, что он получает дурную пищу и дурную плату. Я получал половину его жалованья и был рад иметь то, чем он пренебрегал. Никогда два человека не сходились так хорошо друг с другом, как этот книгопродавец и я. Его единственной целью в жизни было найти кого-нибудь, кто работал бы для него за самое малое жалованье. Моей единственной целью было найти кого-нибудь, кто дал бы мне приют. Не имея никакой взаимной симпатии, ни малейшего признака какого бы то ни было чувства, неприязненного или дружелюбного, которое возродилось бы между нами, не желая друг другу спокойной ночи, когда мы расходились на лестнице, или доброго утра, когда мы встречались за прилавком, мы жили одни в этом доме, чужие друг другу от начала до конца, в продолжение двух лет. Печальная жизнь для юноши моих лет – не так ли? Вы – пастор и ученый, вы, наверно, можете угадать, что делало эту жизнь сносной для меня?
Брок вспомнил истертые книги, найденные в мешке учителя.
– Книги делали для вас сносной эту жизнь, – сказал он.
Глаза отверженника сверкнули новым блеском.
– Да, – сказал он, – книги великодушные друзья, встречавшие меня без подозрения, сострадательные хозяева, никогда не обращавшиеся дурно со мной! Единственные годы моей жизни, на которые я могу оглядываться с некоторой гордостью, те, что я провел в доме скряги. Единственное чистое удовольствие, когда-либо вкушенное мной, нашел я на полках скряги. Рано и поздно в продолжительные зимние ночи и спокойные летние дни пил я из источника знаний, и никогда он не надоедал мне. Покупателей было мало, книги были по большей части серьезные и ученые. На мне не лежало никакой ответственности – счета все вел сам хозяин, и через мои руки шли небольшие суммы. Он скоро увидел, что на мою честность и на мое терпение положиться можно, как бы он ни обращался со мной. То, что я узнал о его характере со своей стороны, увеличило расстояние между нами до последних границ. Он тайно принимал опиум, он тратился на это, хотя во всем другом был скрягой. Он никогда не сознавался в своей слабости, а я никогда не говорил ему, что я приметил ее. Он имел свое удовольствие отдельно от меня, а я имел мое удовольствие отдельно от него. Неделю за неделей, месяц за месяцем сидели мы, не говоря друг другу дружеского слова, я – один с моей книгой на прилавке, он – один со своими счетами в комнате за лавкой, тускло виднеясь мне сквозь грязное стекло двери, иногда пристально смотря на цифры, иногда неподвижно остававшийся по целым часам в экстазе опьянения. Время проходило и не оставляло на нас следов. Прошли годы и не изменили нас. В одно утро при наступлении третьего года хозяин мой не вышел по обыкновению, чтоб дать мне завтрак. Я пошел наверх и нашел его больным в постели. Он не хотел доверить мне ключи от шкафа и не позволял послать за доктором. Я купил хлеба и воротился к моим книгам, так же мало сожалея о нем (я откровенно признаюсь в этом), как мало сожалел бы он обо мне при подобных обстоятельствах. Часа два спустя чтение мое было прервано приходом одного из наших покупателей, отставного доктора. Он пошел наверх. Я рад был отвязаться от него и вернулся к моим книгам. Он спустился и опять помешал мне.
«Я не очень вас люблю, мой милый, – сказал он, – но я считаю своей обязанностью сказать вам, что вам скоро придется искать себе другое место. Вас не очень любят в городе, и вам, может быть, будет довольно трудно найти новое место. Достаньте от вашего хозяина аттестат, пока еще не поздно». Он говорил со мной холодно. Я также холодно поблагодарил его и в тот же день получил свой аттестат. Вы думаете, что мой хозяин дал мне его даром? Не такой был он человек! Он торговался со мной на своем смертном одре. Он оставался мне должен жалованья за целый месяц, и он не хотел написать мне аттестат до тех пор, пока я не обещал простить ему долг. Три дня спустя он умер, насладившись последним счастьем, что ему удалось обчесть своего приказчика.
«Ага! – шепнул он, когда доктор формально позвал меня проститься с ним. – Я достал тебя дешево!» Так ли жестока была палка Озайяза Мидуинтера, как эти слова? Не думаю. Ну вот, я опять очутился один на свете, но с лучшими надеждами на этот раз. Я научился читать по-латыни, по-немецки и по-гречески, и у меня был аттестат. Все оказалось бесполезно. Доктор был совершенно прав: меня не любили в городе. Низкий класс народа презирал меня за то, что я продал свои услуги скряге за скряжническую цену, на лучший же класс я произвел (бог знает каким образом) то впечатление, что производил на всех, исключая мистера Армадэля, – неприятное впечатление с первого взгляда. Я не мог поправить этого впоследствии, и в порядочной части общества для меня не оставалось никакой надежды. Весьма вероятно, что я истратил бы всю небольшую сумму, накопленную в два года, если бы не явилось в одной местной газете объявление, по которому приглашался школьный учитель. Ничтожное жалованье поощрило меня искать это место, и я получил его. Как мне это удалось и что было со мной потом, мне не нужно говорить вам. Нить моей истории вся размотана. Моя бродяжническая жизнь лишилась своей таинственности, и вы все узнали обо мне, наконец.
Минутное молчание последовало за этими словами. Мидуинтер отошел от окна к столу с письмом из Вильбада в руках.
– Признание моего отца сказало вам, кто я, а мое признание объяснило вам, какова была моя жизнь, – обратился Мидуинтер к Броку, не садясь на стул, на который ректор указывал. – Я обещал откровенно объясниться, когда просил позволения войти в эту комнату. Сдержал ли я слово?
– В этом невозможно сомневаться, – отвечал Брок. – Вы получили право на мое доверие и мое сочувствие. Я был бы человеком бессердечным, если бы, зная ваше детство и вашу юность, не испытывал расположения к другу Аллана.
– Благодарю вас, сэр, – сказал Мидуинтер просто и серьезно.
Он сел напротив Брока у стола в первый раз.
– Через несколько часов вы уедете отсюда, – продолжал он. – Если я могу помочь вам уехать отсюда со спокойной душой, я это сделаю. Мы сказали еще не все. Мои будущие отношения с мистером Армадэлем еще не решены, и серьезный вопрос, возбужденный письмом моего отца, еще никто из нас не обсудил.
Он остановился и посмотрел с минутным нетерпением на свечу, еще горевшую на столе при утреннем свете. Усилие, чтобы говорить спокойно и стоически скрывать свои чувства, очевидно, становилось все труднее для него.
– Может быть, я помогу вашей решимости, – продолжал он, – если скажу вам, как я решился действовать относительно мистера Армадэля по поводу сходства наших имен, когда я в первый раз прочел это письмо и настолько успокоился, что был в состоянии подумать.
Он замолчал и бросил опять нетерпеливый взгляд на зажженную свечу.
– Вы извините странную прихоть странного человека? – спросил он со слабой улыбкой. – Мне хотелось бы задуть эту свечу, мне хотелось бы говорить о новом предмете при новом свете.
Он задул свечу, и первые лучи рассвета осветили комнату.
– Я должен опять просить вашего терпения, – продолжал он, – если возвращусь на минуту к себе и к моим обстоятельствам. Я уже сказал вам, что мой отчим старался найти меня через несколько лет после того, как я убежал из шотландской школы. Он сделал этот шаг не вследствие своего беспокойства обо мне, а просто как агент душеприказчика моего отца. В силу данного им распоряжения они должны были продать поместье в Барбадосе во время освобождения невольников и разорения Вест-Индского имения за сколько можно было его продать. Из капитала обязаны были отложить сумму на мое ежегодное воспитание. Эта ответственность принудила их употребить усилие, чтобы отыскать меня, усилие бесполезное, как вам уже известно. Несколько позже, как я впоследствии узнал, в газетах было напечатано объявление, которого я никогда не видел. Еще позже, когда мне минул двадцать один год, явилось второе объявление, которое я видел, предлагавшее награду за доказательство моей смерти. Если бы я был жив, я имел право по совершеннолетию получить половину из капитала, вырученного от продажи поместья, если бы я умер, деньги переходили к моей матери. Я отправился к нотариусам и услыхал от них то, что я сейчас сказал вам. После некоторых затруднений доказать мою личность – а после свидания с моим отчимом, который передал мне поручение моей матери, увеличившее безнадежно наше прежнее отчуждение, – мои права были признаны, и капитал укреплен за мной под моим настоящим именем.
Брок подвинулся к столу. Он теперь видел, к какой цели стремился говоривший.
– Два раза в год, – продолжал Мидуинтер, – я должен подписывать свое имя для того, чтобы получить мой доход. Во всякое другое время и при всяких других обстоятельствах я могу скрыть мою личность, под каким именем я хочу. Мистер Армадэль узнал меня в первый раз как Озайяза Мидуинтера, и до самой смерти он будет знать меня под этим именем. Каков бы ни был результат этого свидания, лишусь я вашего доверия или приобрету его, вы можете быть уверены в том, что ваш воспитанник никогда не узнает страшной тайны, вверенной мной вам. В этом намерении нет ничего не обыкновенного – вам уже известно, что носить чужое имя для меня не составляет никакой жертвы. В моем поведении нет ничего похвального, оно естественно происходит от признательности благородного человека. Переберите в уме эти обстоятельства, сэр, и отложите в сторону мое отвращение обнаружить их мистеру Армадэлю. Если когда-нибудь придется рассказать историю имен, ее нельзя будет ограничить только открытием преступления моего отца, необходимо тогда обратиться к истории замужества миссис Армадэль. Я слышал, как ее сын говорил о ней, я знаю, как он любит ее память. Бог мне свидетель, что через меня он никогда не будет любить ее менее!