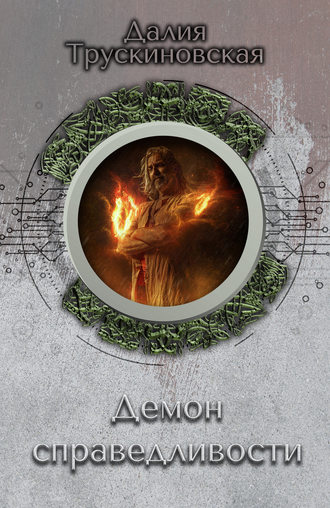
Далия Трускиновская
Демон справедливости
– Не упрекайте меня, – попросил Зелиал. – Мне всюду не поспеть. Я спрашивал вас потому, что никак не могу напасть на след.
– Чей след?
– Ангела справедливости!
– Зачем он вам? Вы ведь тоже – за справедливость!
– У меня иначе получается. На днях унизился до карманной кражи. Вынул из кармана у прохожего бабушкин кошелек и старушке его подбросил. Хорошая такая старушка, только слепнет понемногу. И не заметила, бедняга, как обронила, а тот подобрал и чуть домой не утащил. Хорошо, я рядом случился. Но ведь в этом есть элемент ненужного насилия!
– То есть как??? – совсем обалдела я.
– А так, что прохожий остался тем же. В следующий раз, найдя кошелек, он его поглубже в карман засунет. Ни совесть, ни милосердие я в нем не пробудил. Мне этого и не дано – я же демон! Так что старушке-то я помог, а зла не искоренил, и справедливость моя в итоге получилась какая-то убогая. Справедливость-однодневка. Мне бы найти ангела!. Кто, кроме него, поможет мне разобраться, а? Ангел-то творит справедливость силой света! Он знает, как свет в душу направить! А я – ну, не то чтоб совсем силой мрака… но все-таки…
– Если я что-нибудь такое узнаю, сразу же скажу, – пообещала я.
Мне стало безумно жалко неприкаянного демона, потерявшего все ориентиры в своей дьявольской деятельности. Он всеми силами сопротивлялся должностной необходимости творить зло. И никак не мог нашарить путей к добру. Я понимала его – я тоже подсознательно ломала голову, как в истории с маньяком соблюсти меру.
– Очевидно, есть где-то и высшая справедливость, которой подчиняются и ангел, и демон, да и вообще все ангелы и демоны, – задумчиво сказал он. – И я бы очень хотел знать, как я со своими дурацкими договорами о продаже души в нее вписываюсь!
– Кстати, о договоре! – вспомнила я. – Мы будем его заключать?
– Больно он вам нужен! – буркнул Зелиал. – Я и без бумажки дам вам все необходимое…
– Почему же с другими вы заключили договора?
– Это было раньше… давно.
– Что такое для демона – давно? – возмутилась я. – Вы же бессмертные! Для вас давно – это до нашей эры! А договор с бабой Стасей хотя бы подписан в конце сороковых, что ли, или в начале пятидесятых.
– Когда вы наконец перестанете измерять время днями и годами! – возмутился он. – Время измеряют мыслями. Если у вас десять лет подряд одни и те же мысли в голове, – значит, ваше время стоит. А когда завелись новые мысли – то и время тронулось с места. Полностью обновились мысли – вы уже живете в другом времени. Так что тут ваше тысячелетие может оказаться равным одной неделе напряженной работы мозга. Да и какие мы бессмертные…
– Разве нет?
– На каждого из нас припасена погибель. То есть для тех, кого сверху скинули. Только нам и этого знания не дали. Те, кто всегда был внизу, – те знают. Есть духи, которых можно убить даже взглядом – нужно только знать час суток и расположение звезд. Есть, кого можно убить, зажав между пальцами косточку финика и выстрелив прямо в лоб.
Я вздохнула – нет в мире совершенства. Даже этот печальный демон, оказывается, смертей. И вспомнила о договоре.
– Давайте все-таки составим эту бумагу, – попросила я. – Чем я лучше бабы Стаси! Как все – так и я.
– Не терпится вам взвалить на себя эту тяжесть! Вы хоть представляете, что это такое – продать душу дьяволу?
– Не представляю, – ответила я, – но пусть все будет честно. Я ведь уже пользовалась услугами вашей фирмы. Вот, птицей перекидываться научили. Зрение поправили. Еще бы глаза отводить…
– У меня бумаги с собой нет! – ежась от ветерка, объявил Зелиал. – И писать нечем.
– Странные нынче пошли демоны… – философски заметила я. – Не могут из воздуха листок бумаги с авторучкой добыть. А могуществом фирмы похвастаться – первое дело!
Зелиал протянул руку – и на ладонь легли два листка, размером как из блокнота, и авторучка.
Я мелким почерком написала довольно грамотный договор – поскольку тренировки я веду и от кооператива, то по части договоров уже насобачилась, отточенные формулировки у меня от зубов отлетают. Текст получился краткий и емкий. Зелиал, во всяком случае, одобрил. Смутило его, правда, что я продавала душу не безликому «дьяволу, именуемому в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ», а ему, Зелиалу, лично. Но я объяснила ему, что раз он уполномочен заключать такие сделки, то вполне может выступать от собственного имени – что, кстати, было весьма сомнительно.
Но я доверяла именно Зелиалу, этому туманному и зябнувшему на ветру бесу. Один экземпляр договора я оставила себе – что тоже его ввергло в недоумение. Зачем бы мне нужен документ, удостоверяющий, что моя душа продана? Скорее уж, как во все времена, я должна была стремиться уничтожить и единственный экземпляр. Но у меня дома хранилась уже стопка договоров с кооперативами и домами культуры, и иногда приходилось взывать к ним в спорах с администрацией. Трудно даже предположить, какой спор мог бы у меня возникнуть с адом, но договор должен лежать в стопочке – и точка!
Бюрократическая беседа немного развлекла нас. А потом небо посветлело, и мы поняли, что пора расставаться…
* * *
Жизель знала любовь только в наивнейшем ее проявлении – прикосновении пальцев к пальцам, ласке взора, найденных на пороге цветах. Радость плоти была ей незнакома. Ее тело знало лишь легкий и светлый восторг танца. И потому, обнаружив, что уж теперь-то она принадлежит танцу всецело, Жизель была счастлива. Тело лежало под крестом – неподвижное, никогда не знавшее женской радости тело. Без груза плоти Жизели было куда легче крутить свои пируэты. Ей не о чем было жалеть.
И ни одна из виллис, этих умерших до свадьбы невест, не знала женской радости. Возможно, кого-то соблазнили и бросили, возможно, кого-то скосила болезнь накануне того момента, когда близость должна принести счастье. Возможно… Если бы виллиса изведала то, ради чего мужчина и женщина ложатся в одну постель, во всей полноте, она не могла бы так беззаботно танцевать – ведь радость танца меркла бы в сравнении с той, другой радостью.
Все это белое облако знало лишь одно блаженство – блаженство певучего, отточенного, невесомого движения. Оно не могло в порыве пылкого воспоминания простить свою жертву – ему нечего было вспоминать.
Когда-нибудь я вольюсь в это облако на равных, без сожаления о своей тренированной и избалованной плоти.
Потому что мне нечего вспомнить.
* * *
Расставшись с Зелиалом, я понеслась искать следы своего маньяка. Но он, видимо, обул другие кроссовки – не светились в переулке контуры подошвы и каблука, не звала меня шаг за шагом Сонькина кровь. Мне оставалось одно – пока и впрямь не наступило утро, перекидываться птицей и мчаться напрямик сперва к Соньке – как она там? – а потом к себе, потому что в сумке, что осталась у Соньки, пропотевший купальник и пыльные от валянья на грязных матах лосины. О носочках я уж молчу. Ничто в мире не заставит меня надеть вчерашние носочки. Так что следовало взять дома все чистое и вообще принять душ.
Сонька угомонилась и заснула. Я оставила ей записку – со мной все в поряде, сходи в милицию и оставь заявление. Нельзя сказать, что я так уж надеялась на это заявление, но Сонька явно разбудила своими воплями весь дом. Возможно, кто-то с первого этажа видел в окно уходящего маньяка и мог бы его обрисовать или даже опознать.
Потом я занялась собой, потом подоспело время обеденной тренировки – у меня одна группа мучается по обеденным перерывам, что не так уж и глупо, после завтрака проходит не меньше четырех часов, пища успевает провалиться из желудка в кишечник, и по крайней мере эта группа гарантирована от желудочных колик в разгар занятий. Мои бегемотицы не верят на слово, когда я предупреждаю их о таком последствии их обжорства, а потом держатся за бок и стонут, как будто помирать собрались.
После обеда я побежала к одному приятелю, который обещал переписать для меня кассету и заодно покопаться в моем запасном магнитофоне, что-то он стал тянуть. Качество музыки меня мало волновало, это была просто ритмичная и функциональная музыка, без претензий и полета, но то, что изменился ритм в прыжковой серии, раздражало.
И, наконец, я решила продублировать Сонькин визит в милицию. Какое-то чутье подсказывало мне, что от моего появления будет больше толку.
Мне уже было интересно – передадут дело четвертому следователю, или им все еще занимается третий? Оказалось – именно третий, видимо, получив негласное указание списать его в архив за неимением улик и доказательств.
Я увидела в кабинете знакомое лицо. Он тоже меня узнал.
– Здравствуйте, садитесь, – сказал он. – Сейчас страницу допечатаю и займусь вами.
Возразить было нечего. Я села смотреть, как он воюет с машинкой. Страницу он печатал минут пятнадцать, не меньше.
– Я по поводу Розовской, – напомнила я. – Было еще одно нападение. Преступник прошлой ночью кидал ей камушки в окно, но она затаилась, а этой ночью он ломился в дверь. Потом со злости выдрал дверной звонок и ушел.
– С дверным звонком? – уточнил мой собеседник.
– Да, он его потом на улице выбросил.
– А Розовская?
– Розовская орала от ужаса. Надо опросить соседей. Может быть, кто-то видел его в окно.
Следователь задумался.
– А почему сама Розовская не обратилась? – спросил он.
– Она собиралась… – растерялась я. – Я ей велела, чтобы она с утра зашла. Наверное, что-то помешало…
– А не кажется вам… – он подвинулся через стол и машинку ко мне поближе и уставился мне в глаза своими сладкими, черными, турецкими, воображая, видимо, что они способны загипнотизировать, – что ваша подруга Розовская… м-м-м… ну, фантазирует, что ли? У меня создалось впечатление, что она женщина нервная, возбудимая… Какие-то камушки, человек в дверь ломился… Она ведь и тогда не могла его толком описать. То он у нее среднего роста, то выше среднего. То у него темные волосы, то – она не помнит.
– Когда человека душат, ему как-то не до роста или волос, – зло ответила я.
– Все равно – слишком она часто сбивалась в своих показаниях. А теперь еще попытка взломать дверь. Ну, скажите честно, это ведь нелепость какая-то! Из всех дверей могли повыскакивать соседи. Кто-нибудь наверняка бы вызвал патрульную машину! Разве не так?
– Вызывали милицию, – сообщила я, – но дежурный ответил, что свободных машин сию минуту нет, все в разгоне. Как будет – так пришлет. До сих пор не прислал.
– Это вам тоже Розовская сказала? – поинтересовался он.
– Почему же? Я сама и звонила.
– Вы?
– Да, я там ночевала.
Возникла пауза.
– Вы его видели? – жестко спросил следователь.
– Конечно. В окно. Но я видела его с третьего этажа и тоже не смогла бы сказать, какого он роста. К тому же во дворе темно, а в комнате светло. Могу сказать только, что на нем была темно-синяя куртка, возможно джинсовая, и рубашка в клеточку, светлая. А штанов, простите, не разглядела. Что же касается роста, насчет которого путалась Розовская, то мы с ней проводили следственный эксперимент.
– Это как? – заинтересовался следователь.
– Очень просто. Я сама пыталась ее придушить.
Он отшатнулся.
– Не до смерти, – успокоила я его. – Мы положили на пол стопку книг, я душила ее с высоты стопки, мы меняли количество книг, пока она не сказала – стоп, он держал меня именно таким образом. Ошибка в пределах пяти сантиметров.
Мы опять помолчали.
– Нельзя ли бумагу? – спросила я. – Дам показания. Все-таки я свидетель и должна это сделать. А Розовскую обязательно к вам пришлю.
– Присылайте, – ответил он.
И мрачно смотрел, как я описываю события этой бурной ночи – разумеется, не все.
Очень мне не понравился его взгляд. Но делать нечего – именно этому человеку доверили ловить маньяка и преступника в темно-синей куртке. Я не могла воззвать к милицейскому начальству, чтобы его заменили кем-то другим. Другой будет делать то же самое. Этот хоть примитивную вежливость соблюдает.
Он уточнил малозначительные детали, и мы расстались.
День был испорчен напрочь.
Я маялась вплоть до последней тренировки.
Неприятно чувствовать полную свою беззащитность, а приходится. Неприятно знать, что пока у тебя все в порядке, государство вроде как к тебе благоволит, а стоит тебе попасть в беду – первым делом выражает тебе официальное недоверие.
Параллельно я думала о том, что придется Соньку временно поселять у себя. При моей патологической страсти к порядку и ее не менее патологическом отрицании всякого домашнего порядка это было чревато взрывом.
Взрыв, взрыв…
К концу тренировки он и случился.
Мои нервы не выдержали.
Была завершающая прыжковая серия. На сей раз я ее построила на элементах канкана. Наверно, живет во мне маленький садист, получающий наслаждение от извращений. Когда мои бегемотицы, сцепившись локтями, не в лад и на разную высоту вскидывают объемистые ножки, а потом скачут и вертят воображаемыми подолами, я балдею. Такого ни в одном цирке не увидишь.
И вот они плясали, а я смотрела.
Первой слева была Вера Каманина, у нее маленькая дочка и ей сейчас ехать на другой конец города. Второй была Люда, она тоже живет в каких-то трущобах. Третьей – Наташа, она хоть и толстушка, но молоденькая и хорошенькая, я понимаю, как мужчинам нравятся такие симпомпончики. Четвертой – Алка Зайчиха, ее я взяла в группу на свой страх и риск, без медицинской справки, и вот она явственно задыхается, но не желает сходить с дистанции, скачет – только большие груди подскакивают. Пятой была Надя, за ней однажды увязался пьяный и чуть на тренировку не вломился. Я спросила – а что же не убежала? Ведь убежать от пьяного – плевое дело! А она застеснялась. Мои бегемотицы стесняются бегать, ей-богу! Они твердо знают, что бегают комично! Черт бы их, дур, побрал!
Я быстро оборвала канкан и отмотала назад пленку.
– А ну, еще раз! Быстрее! Быстрее!
Они скакали, а мне было страшно на них смотреть – ведь если за ними погонится сволочь, у них не хватит дыхалки, чтобы убежать, не хватит силы и сноровки, чтобы как следует двинуть ногой! Это же – команда обреченных!..
– Ноги выше поднимайте! Колени – выше! До плеча! Еще!
Я подхватила Веру под локоть и задала им жару! Я плясала вместе с ними, пока сама не облилась потом. Когда опомнилась – половина бегемотиц уже сошли с дистанции и стояли с ошалелыми глазами.
– Еще три круга бегом! Пошли!
Уже без всякой музыки я гнала их по залу, гнала жестоко, и по четвертому, и по пятому кругу. Они тяжело топали за спиной. Я увеличила скорость. Странно, но никто не отстал. И тогда я перешла на шаг, вышла на середину и показала им серию упражнений на расслабление.
Да. Оказывается, бывают и такие истерики.
А Сонька на следующий день категорически отказалась идти в милицию.
– Они же мне не верят! – объявила она. И возразить было нечего.
Разве что утешить – успокойся, мне они тоже не верят.
Во мне зрела ярость – не та пылкая, охватившая меня, когда я узнала про Сонькину беду, а тяжелая, густая, гуляющая по мне с током крови, растекающаяся под кожей. Ярость, обретшая плоть. Ставшая яростью кровь.
Так я ее чувствовала.
Кровь – живое существо. Со своим нравом. Кто-то уживается с собаками и кошками. Ничего удивительного. Мне предстояло теперь ужиться с собственной кровью.
* * *
Когда на кладбище забрел лесничий Илларион, одна только Жизель знала степень его вины перед ней. Прочие виллисы знали одно – он предал, и он повинен смерти. То есть проступок и кара в чистом виде, без подробностей.
Белое облако окружило его, а он изнемогал в танце. Кабриоль, падение… Встал, подскочил высоко… кабриоль, падение… И музыка – воплощенный страшный суд.
Но в этом ли справедливость? И есть ли в единстве «вина – кара» место для чего-то третьего?
Ведь такого же предателя Альберта Жизель пощадила и спасла. Спасла от справедливости. Собой прикрыла, рассказала беспристрастному суду повесть о своей любви к нему и тянула время до утреннего благовеста.
Как пересекаются эти две ниточки, из которых одна связывает проступок и кару, а другая – справедливость и милосердие. И может ли милосердие стать той силой света, которая исцелит нас, грешных?
* * *
Настал вторник.
Я отправилась на шабаш.
Оделась я сообразно тамошним вкусам – в единственное свое элегантное платье (купленное непонятно зачем три года назад и впервые добытое из глубин шкафа), в лаковые лодочки (а вот обувь – моя слабость, у меня шесть пар изящных туфелек, не считая босоножек, и во всех я могу танцевать без устали, такие они легкие и удобные!), волосы украсила пряжкой из искусственного жемчуга (Сонька купить заставила).
Вообще у меня есть красивые платья, даже нарядные платья, но элегантность мне противопоказана. При моей странной, если не отталкивающей физиономии и гладко зачесанных, собранных в узел волосах натягивать английский костюм равносильно самоубийству. Нет, я никого не собираюсь пленять, но нагонять холод на окружающих я тоже не хочу.
С собой я взяла покупной тортик и коробку пирожных. Мне красиво увязали их вместе, чтобы нести за бантик. Со стороны поглядеть – припозднилась элегантная женщина, стучит каблучками по асфальту, торопится в гости в приличный дом, вот же – не бутылку тащит, а сладости. А это она на ведьмовский шабаш направляется.
Анна Анатольевна встретила меня без эмоций. Одной неудачливой ведьмой за столом больше, одной меньше – какая ей разница? Лишний голос в хоре на кулинарные темы. Она была в другом, тоже весьма пристойном, даже изысканном платье с драпировками по левому боку, которые она еще могла себе позволить. И прическу сделала иную – чуть покороче, с напуском на лоб.
Другие тоже отличились туалетами – кроме бабы Стаси. Та была в домашнем фланелевом платьице самого старушечьего покроя и расцветки, что-то вроде мелких цветочков и ромбиков. по коричневатому немаркому фону. Баба Стася явно пренебрегала здешним ритуалом.
– Уже? – шепотом спросила она меня, а я, естественно, села рядом с ней.
– Что – уже?
– Сбылось?
– Нет еще.
– Так что же ты сюда приперлась? – сердито спросила она.
Мне это даже понравилось.
– Бабушка, я Зелиала видела, – прошептала я ей на ухо.
– Ну! – обрадовалась моя замечательная бабуся. – А ну, на кухню, на кухню! Там все расскажешь!
Мы выбрались из-за стола.
И я ей рассказала действительно все – про поединок демонов над свежей могилой, про странные разговоры об ангеле справедливости, про договор и, наконец, про то, что я в растерянности – знаю, что милиция нам с Сонькой не поможет, а сама и рада бы, но не представляю, с какого конца взяться за дело.
Баба Стася заставила меня еще раз и с подробностями рассказать всю Сонькину историю и описать место действия.
– Проще простого! – авторитетно объявила она, подумав с минуту. – Живут в том доме старухи аль нет?
– Какие старухи? – изумилась я.
– А бабкины ровесницы.
– Какой еще бабки?
– Не соскучишься с тобой, подружка, – совершенно по-молодому преподнесла мне баба Стася. – Сони твоей семья как разменялась? Добрые люди бабушку к себе век доживать взяли, а в ту квартиру Соня вселилась, ведь так?
– Поняла, поняла! – обрадовалась я. – Только как мне тех старушек допрашивать? У меня ведь такого права нет.
– Допрашивать, права нет! – передразнила меня баба Стася. – Экие у тебя слова нечеловеческие. А мы их не допрашивать, а попросту спросим. Ведь знают же они, с кем соседка встречалась, кто к ней в гости ходил, а иным часом и жил у нее. Все на квартире завязано, помяни мое слово. Соня твоя никому, пигалица, не нужна.
– Это точно, – я вспомнила следователя, внутренне сопротивлявшегося моему потоку информации. – И даже хорошо, что она в милицию идти не захотела. Как бы она там нарисовала мой вылет из окна? А? Ее бы точно в дурдом увезли!
– А что, видела она, как ты перекидывалась? – забеспокоилась баба Стася. – Это уж вовсе ни к чему!
– Нет, я ее в комнату отпихнула, она даже на пол, кажется, села. Она уверена, что я по стенке со второго этажа сползла!
Баба Стася хихикнула в кулачок.
– А ведь сползла бы! – давясь смехом, прошептала она. – Ох, сползла бы! Кабы я перекидываться не обучила!
– Наивная, она, Сонька, – объявила я. – Ей что угодно можно внушить.
– И такую ты в подруги выбрала?
– Да нет, это она меня выбрала…
– …и присушила? Другие-то подруги есть иль нет?
– Обхожусь.
– А мужик?
– Обхожусь.
– Да-а… – помрачнела баба Стася. – Мы все хоть детей родили, кроме Ренатки, у той бутылки с какой-то заразой в лаборатории заместо дитяти. Отказалась бы ты от этой затеи, пока не поздно. А договор Зелиал порвет или сожжет. Ты не смотри, что он нечистая сила. Он добрый.
– Это я, бабушка, уже заметила.
– Снился он мне, Зелиал, – призналась баба Стася. – Хоть и не мужик, а нечисть, нежить, непонятно как устроенная. Молодая была, тридцать аккурат стукнуло. А мой с войны не вернулся.
– Поздно мне отступаться, баба Стася, – сказала я. – Если отступлюсь, мне уже никогда покоя не будет.
– А хочешь, я все это заместо тебя сделаю? – тут у бабы Стаси даже глаза вспыхнули. – Все равно греха уже на душу взяла, ну, еще и за твой грешок отвечу. Ты не беспокойся, я все по-умному сделаю и так твоего насильника проучу – не обрадуется. И ты будешь спать спокойно.
Я задумалась. В чем-то старуха была мудрее меня – это я уже сообразила.
– И с чего же ты, бабушка, начнешь?
Она задумалась.
– В разведку пойду! – вдруг объявила она. – Как юный партизан! Вот твое дело молодое, тебе некогда кости греть на солнышке. А состаришься, и главное у тебя удовольствие будет – все дела переделав, на солнышко к подружкам выбраться. Подружки-то – они тоже старенькие, в кино не побегут, а соберутся на скамеечке и неторопливо так беседуют, а сами все замечают. Ну, переврут чего, это случается. Ну, на детей жалуются без меры, вот этого не терплю. Что же ему, дитяти, всю жизнь за твою юбку держаться да твоим мелким умишком жить? Так ты его заодно с собой на лавочку усади и веревкой привяжи, чтобы все бабьи бредни слушал да терпел!
Видно, это были воспоминания о недавней бурной дискуссии на лавочке. Не иначе, соседки проехались по молчанию пятерых «малых», а баба Стася разбушевалась, и тут уж досталось и правому, и виноватому.
– Так что полетели в разведку! – вдруг решительно объявила баба Стася и принялась отворять кухонное окно.
– Как, сразу?
– А чего тянуть? Успеть надо, пока ящик работает.
– ???
– Ну, пока он работает, все в него уставятся, таращатся и чай прихлебывают. А как все программы кончатся, люди спать ложатся. Пока они в ящик глядят – они для отвода глаз самые подходящие. Ну, давай, перекидывайся. И я за тобой следом.
Бабкин азарт передался мне. Но, пока я перекидывалась, на кухню вошла Анна Анатольевна с пустыми тарелками.
Увидев на подоконнике живую ворону, она от неожиданности попятилась.
– Станислава Игнатьевна! – воскликнула она, глядя, как баба Стася ведет по себе руками и берется за плечи.
– Что Станислава Игнатьевна? – осведомилась баба Стася. – Полетаем, воздухом подышим, как раз к коронному блюду вернемся! Ты только, Аня, окно не запирай!
Тут баба Стася живенько перекинулась, мы снялись и полетели.
Сонькин дом мы облетели со всех сторон, заглянули во все окна, но нигде не нашлось искомой старушки – видно, они уже спали. Баба Стася покружила над двором, над дорогими ее сердцу лавочками, и на сей раз безошибочно вычислила, где может обитать приятельница интересующей нас помирающей бабули. С первого захода мы опустились на нужный подоконник.
Там, как в сказке, сидели за столом дед да баба, только вместо курочки Рябы верещал и кудахтал телевизор. Если бы не видела своими глазами – никогда не поверила бы, что дед да баба могут наслаждаться концертом рок-музыки, пусть и с приглушенным звуком.
Говорили они при этом о ценах на картошку магазинную и рыночную, а также анализировали причину разницы в этих ценах.
К нашему счастью, окно было открыто, и на улицу ускользнул край занавески. За нее мы и спрятались.
– Слушай, мать, давно я не видал ту твою подруженьку ненаглядную из дома напротив, – вдруг сказала баба Стася, невзирая на птичий облик, совершенно человеческим и своим голосом. – Жива еще, а? Что-то на похороны тебя вроде не звали. Болела она, что ли?
– А вот не знаю. Как ее дочка с внучкой забрали к себе, так я и след потеряла. А болеть она болела, – согласилась почтенная соседка, наливая себе чаю.
Дед, который спрашивал совсем о других событиях, ошалело уставился на супругу. Баба Стася воспользовалась его молчанием.
– Я почему спросил – внука ее на днях встретил, – заявила баба Стася. – На улице, у ларька.
– Нет у нее внука, – возразила соседка. – Две девочки были, трех внучек ей родили, а внука не было!
– Как не было? – продолжала блефовать баба Стася. – Высокий такой мужчина, приходил к ней. Или не помнишь?
В это время дед явственно сказал: «Да ты что, старая? Какие еще, к бесу, внуки?!» Но на шевеление его губ наложились слова бабы Стаси, которые соседка воспринимала, как видно, в мужском грубоватом и басовитом исполнении.
Я впервые видела, как отводят глаза, и просто любовалась уверенностью и артистизмом бабы Стаси. Это был совершенно очаровательный блеф.
– Так это не внук! – обрадовалась тому, что ситуация прояснилась, соседка. – Это младшей сестры ее сынок. Сестру Бог наказал – с сыном одно горе. Когда не в тюрьме, так в нее собирается. С детства от рук отбился. Сестра его и принимать не хочет, так он к тетке подлизался. Надеялся – пропишет, а она, видать, не успела.
– И как же она его, подлеца, в дом не боялась пускать? – выразила негодование баба Стася.
Дед тоже выразил негодование – хватил кулаком по столу. Думал, видно, вывести спутницу жизни из транса. Но оба негодования замечательно совпали.
– Чего же бояться? – даже удивилась соседка. – Он же к ней с добром. Дров однажды машину пригнал. Денег давал. Он у нее и ночевать оставался. Она его жалела.
– Жалеть его, гада! – проворчала баба Стася. – Стрелять таких надо! Подлей-ка в заварочник кипяточку.
С этими словами она спорхнула с подоконника. Я полетела следом.
Военный совет мы устроили на ближайшем заборе.
– То же самое узнал бы любой салага-лейтенант, если бы ему поручили взять показания у жильцов Сониного дома насчет прежних обитателей квартиры, – со злостью констатировала я. – Это же элементарно!
– Элементарно, Ватсон! – согласилась лукавая баба Стася.
– Ну, я не сообразила, что в это дело замешана бывшая хозяйка квартиры, но они-то должны были покумекать, почему эта сволочь так старательно пытается туда забраться! – продолжала бушевать я.
– А почему она старается туда забраться? – задала баба Стася, в сущности, мной же поставленный вопрос. – Что племянничек там ищет? Что он там забыл?
– Или спрятал!
– Или спрятал, – согласилась баба Стася. – Ну, милиция-то могла бы узнать, когда его в последний раз посадили и когда выпустили, ей это легче, чем нам с тобой. Но я так понимаю, что когда его сажали, тетка еще жила в квартире, а когда он вышел, ее уже забрали родственники. Он приходит – а там чужой человек. Что тут станешь делать?
– Мог бы ключи подобрать и залезть, пока Соня на работе, – предложила я самый гуманный вариант.
– Если ключи старые, то их не так просто подобрать, – заметила баба Стася. – А выбить эту дверь, сама говорила, невозможно. На века сделана.
– Но душить ни в чем не виноватого человека?.. – все-таки это до сих пор у меня не укладывалось в голове.
– Из-за связки ключей на полчаса? Ох, милая ты моя, из-за буханки хлеба убивали, из-за махорки пачки… Видно, спрятанное того стоило.
Я отшатнулась. Со стороны выглядело, наверное, забавно – ворона на заборе ни с того ни с сего шарахается от другой вороны, да еще и машет на нее крылом. И все это – в то время, когда вороны давно спят.
– Опять же, – продолжала баба Стася, – люди есть разные. Вот ты, к примеру, в таком положении вежливо бы днем явилась – так, мол, и так, бывшая хозяйка прислала, пакетик в тайничке позабыла. А если человек весь век по тюрьмам, то он иначе просить не умеет, как кулаком. Он уже не так устроен, как мы с тобой. Может, сам по себе он еще и не так уж был плох, – а тюрьма всякого погубит. Еще никто оттуда лучше, чем был, не возвращался. Хуже – это да, это бывало.
Баба Стася говорила общеизвестные вещи. При нужде я и сама кому угодно наговорила бы таких прописных истин. Да, люди от природы разные – истина первая. Да, для уголовника лучший, если не единственный способ без затруднений побывать в квартире – придушить на полчасика хозяйку и взять ключи. На то он и уголовник. Абстрактно все эти истины я знала. Когда увидела их в конкретном применении – не желала верить собственным глазам.
– А дальше все совсем просто. Ты ладошками тепло и холод чуешь? – вдруг спросила баба Стася.
Не знаю, как насчет тепла и холода, но какие-то странные способности у меня есть. Мне приходится иногда массировать бегемотиц – так, на скорую руку, когда они чего-нибудь потянут или остеохондроз даст себя знать. Однажды прямо на тренировке у одной бегемотицы отнялась левая рука. Шуму было! Единственное во всей медицине, в чем я ориентируюсь, – это массаж. Я прикрикнула на свое стадо, чтобы не кудахтали – мол, это все минутное дело. И стала массировать бесчувственную руку. Результата, конечно, не было никакого. Я вспомнила старое правило – массаж при травме нужно вести выше места поражения. Определила границу чувствительности и принялась мять плечо и спину. Тут оно и случилось. Где-то под лопаткой я ощутила как бы бугорок. Он вырос и приник верхушечкой к кончику моего пальца. Я с силой нажала на него, загоняя обратно в спину, и тут моя пациентка заверещала – по руке мурашки побежали, да еще какие свирепые! Так и должно быть, ответила я, продолжая растирать ее левую лопатку и жать на бугорок. Мурашки – это было замечательно! Через минуту чувствительность в руку вернулась полностью, а бегемотицы уставились на меня с религиозным почтением. Вообще они удивились меньше, чем я сама. Потом я не поленилась и проконсультировалась у знакомого врача. Оказывается, я набрела на точку с китайским названием, отвечающую за остеохондроз. Потом я таким же методом тыка нашла на бегемотицах еще несколько точек – в общем, что-то мои пальцы чуяли.
Эту историю я рассказала бабе Стасе, и она успокоилась.
– Значит, и без меня найдешь спрятанное, – сказала она. – Могла бы я тебе помочь, да только лучше привыкай сама.
– А ты, бабушка, научишь меня глаза отводить?
– Этому обучу. Невелика наука. А теперь полечу-ка я к подружкам досидеть.
– Зачем, бабушка? Скучно же тебе с ними!
– А ты не понимаешь? Все мы одним грехом повязаны, все душу дьяволу продали, хоть и с добрым намерением. Вот сидим мы вместе – и вроде не так нам страшно. А отколется кто-нибудь одна – других сомнение возьмет, не нашла ли она ход к спасению да не спаслась ли тайком от всех? Нет, лучше уж честно сидеть с этими бедолагами.







