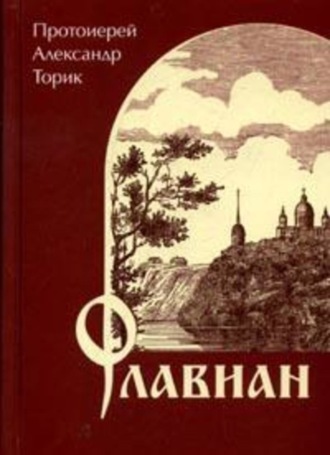
Александр Торик
Флавиан
В алтаре запахло ладаном, это Семён поднёс дымящееся кадило к Флавиану и в полупоклоне замер перед ним, держа кадило со снятой крышкой перед собою. Флавиан брал какие-то предметы, крестообразно проводил ими над благоухающим кадильным дымом, затем ставил их перед собою, накрывал их, и красивую золочёную чашу вышитыми парчовыми покрывальцами, затем взяв у Семёна кадило, кадил всё это, кланяясь и проговаривая вполголоса какие-то молитвы. Затем он, потянув за шнур, открыл завесу, и, также вполголоса читая какую-то молитву начал кадить с четырёх сторон престол, затем, покрытые им сосуды, светящуюся изнутри стеклянную икону Воскресения Христова, стоящую в кивоте у восточной стены, и все иконы в алтаре.
Кадильный дым был терпким и сладким, в его аромате ощущались смолистые запахи восточных благовоний, этот аромат навевал некое священное волнение, обращал мысли куда-то в древность, в глубины бытия…
Задумавшись, я не заметил, как Флавиан вышел из алтаря, позвякивание его кадила, изредка доносилось из храма, робко пробиваясь сквозь звонко-торжественное чтение Серёженьки на клиросе.
Воспользовавшись тем, что Семён подошёл к шкафчику рядом со мной и доставал оттуда какие-то большие чёрные, похожие на угольные, таблетки, я тихонько спросил его – Семён! А, как называется вон тот второй стол, на котором сейчас сосуды покрывали?
– Это – жертвенник. К нему, как и к престолу, только священник и диакон прикасаться могут, также, как и к сосудам, которые на нём стоят. На жертвеннике батюшка сейчас совершал «проскомидию» – по гречески – приготовление. Приготовлял, значит, Святые Дары. Сейчас они ещё не освящённые, просто – хлеб и вино, а, когда батюшка их на престоле освятит, станут – Тело и Кровь Христовы. Ради этого освящения, собственно Литургия и совершается. Ну, и причащения этими Святыми Дарами христиан православных, тех кто приготовился, конечно.
В это время в алтарь вернулся Флавиан. Он покадил престол крестообразно, со стоны царских врат и отдал кадило Семёну, который с благоговейным поклоном принял его, поцеловав при этом руку Флавиана. Чтение на клиросе прекратилось, Серёженька, незаметно проскользнул в алтарь и встал около Семёна.
Флавиан молча стоял перед святым престолом, опустив голову и закрыв глаза, заметно было, что он сосредоточенно молился.
Но, вот он распрямился, глаза его блестели, он воздел руки вверх, словно готовясь принять в них, робеющего спрыгнуть с высоты ребёнка, и голосом, слегка прерывающимся от волнения, начал – Царю Небесный… приди и вселися в ны… устне мои отверзеши и уста моя возвестят хвалу Твою!
Затем, приподняв над престолом большое старинное Евангелие в чеканном позолоченном переплёте, сотворил им в воздухе знамение креста и возгласил – Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков!
– Аминь! – прозвучало со стороны клироса.
Дальше я рассказать не смогу. Передать то, что происходило во мне и вокруг меня в алтаре во время Божественной Литургии, теми словами, которыми я привык пользоваться – бессмысленно, всё равно как рассказывать о симфонической музыке на языке глухонемых. Да, и надо ли? Это можно только пережить самому. Могу лишь сказать, что я понял, что такое Небо, ибо я там побывал. Я слышал Евангельский голос Бога, я чувствовал присутствие Ангелов, я созерцал совершение Безкровной Жертвы священническими руками, я принял в себя Тело и Кровь распятого за мои грехи Христа. Сказать, что я был счастлив – ничего не сказать, мне просто открыли двери в Небо, и я побывал Там. Когда Семён вывел меня из алтаря, чтобы я причастился вместе с другими причастниками, я был удивлён, что есть земной мир, и ещё какая-то жизнь. А, причастившись, я вернулся в алтарь, и только когда, закончивший служение Литургии, молебна и даже уже и панихиды Флавиан, разоблачался от священнических одежд, я начал осознавть что всё ещё способен чувствовать в своём теле земное притяжение. Флавиан молчал, лишь иногда спокойно взглядывая в мою сторону.
– Отец Флавиан! Мне нечем тебя отблагодарить за то, что я получил сегодня… просто я теперь всё понял… прости, я не знаю как это выразить по другому. Слава Богу за всё!
– Слава Богу, Алёша, слава Богу!
Мы тихонько вышли из алтаря.
– Батюшка! Мать Серафима зовёт вас к столу, все уже садятся – Серёженька лучился радостью и любовью.
– Идём, именинничек наш, идём! – Флавиан нежно взъерошил его вихры.
– Отец Флавиан! А, можно я не пойду за стол, посижу один в садике за храмом?
– Ну, посиди, посиди, побудь один, я понимаю… Потом вместе чайку попьём.
Я пошёл в сад, в ту самую резную беседочку среди жасмина и сирени, где я уже сидел недавно, хотя теперь мне казалось, что с того момента прошла уже не одна жизнь.
Когда я садился в беседке на невысокую скамеечку, что-то в кармане вызвало неудобство. Я привстал, сунул в карман руку и вытащил мобильный телефон. Куда-то мне надо было позвонить? Я механически вызвал последний соединявшийся со мной номер и поднёс трубку к уху.
– Справочная 16-той больницы, чем могу вам помочь?
Какая больница? Чем мне там могут помочь? Ничего не пойму!
– Алло, алло! Вы на проводе? Вас не слышно! Что вас интересует? Я разъединяюсь!
– Подождите! – я вдруг всё вспомнил – я хотел узнать как там Миронова из второй хирургии?
– Миронова? Ирина Витальевна? А, вы ей кто?
– Как – кто? Муж! То есть, бывший муж, то есть… вобщем у неё всё равно других родственников нет! А, что случилось?
– Одну минутку, сейчас я соединю вас с заведующим реанимационным отделением, ждите!
Я тихонько присел, всё ещё не до конца «въезжая» в бурно ворвавшуюся ко мне мирскую жизнь.
– Алло! Вы бывший муж Мироновой? – голос в трубке был до невероятности усталым – может, и хорошо, что бывший… Она фактически умерла.
– Как умерла?! Что значит фактически?! Что за чушь? Я звонил ночью, всё было нормально!
– Ночью и умерла. То, есть формально она пока ещё в коме, на аппаратах искусственных сердца и лёгких, ей льют капельно всё, что положено. Но, не хочу вас обманывать – надежды практически нет. Вопрос только во времени отключения аппаратов. Простите за резкость, но вы – мужчина… к тому же, бывший.
– А, в чём причина? – я медленно начинал осознавать происходящее, и, откуда-то из под сердца начала прорезаться вчерашняя ночная боль.
– Пока не ясно. Ответ может дать только вскрытие. Приблизительно около двух ночи в брюшной полости разошёлся операционный шов. В результате – внутреннее кровоизлияние и остановка сердца. Поздно заметили. В хирургическом отделении на три поста одна ночная сестра, и та скоро уйдёт из-за этой долбаной зарплаты. Вот так. Можете подавать в суд. Имеете право. Лучше сразу на правительство. Простите. Я ненавижу вот так, бессмысленно, терять больных. Всё. Остальное на месте. Приезжайте.
Через пять минут моя «Нива» с истошным рёвом вылетала из Покровского.
ГЛАВА 14. ИРИНА
Ни до, ни после того раза я никогда не ездил так отчаянно. Нет, я почти не создавал риска для других водителей, которых до самой Москвы мне встретилось не так уж и много. Но, сам я серьёзно рисковал вылететь юзом на каком-нибудь повороте, снести столб или сжечь двигатель. Это было неправильно, но в тот момент я об этом не думал. Меня гнало вперёд необъяснимое ощущение, что если я успею – а куда, или к чему? – то всё будет хорошо и Ирина не умрёт. Я не мог и не хотел объяснять себе происхождение этого чувства, но оно жгло меня изнутри, и я, вцепившись в «баранку», почти стоял на педалях, выжимая невозможное из неприспособленной к таким гонкам «Нивы». Сердце, подстать мотору, лихорадочно колотилось в моей груди выталкивая вместе с каждой порцией горячечной крови отчаянное – Господи! Господи! Господи!
Примерно через полчаса, когда голова начала приходить хоть в какое-то мыслящее состояние, этот неистовый призыв трансформировался уже в какую-то осмысленную речь —
– Господи, помоги!
– Господи, помилуй!
– Господи, спаси Ирину!
– Господи, не оставь меня!
– Господи, не обмани меня!
– Господи, я верю в Тебя!
– Господи, Ты всё можешь!
– Господи, сотвори чудо!
– Господи, спаси Ирину!
– Господи, возьми мою жизнь!
– Господи, отдай её Ирине!
– Господи, Ты ведь любишь нас!
– Господи, не отнимай её у меня!
– Господи, я виноват перед ней!
– Господи, дай мне искупить мою вину!
– Господи, я хочу сделать её счастливой!
– Господи, верни мне её!
– Господи, исцели её!
– Господи, оживи её!
– Господи, спаси её!
– Господи, я люблю её!
– Господи! Господи! Господи…
Повторяясь многократно, эти отчаянные призывы не прекращались до самого конца той безумной гонки. Более того, я не только не уставал произносить, почти кричать их, но, напротив они становились всё горячее и сильнее. Всё моё существо словно бы превратилось в это неистовое движение и неумолкающий крик – Господи! Казалось никакие преграды не способны остановить меня.
Остановил меня открытый канализационный люк, ровно за один квартал до Ирининой больницы.
Торчащие их него ветки с привязанным к ним обрывком красной тряпочки я в горячке не углядел. К счастью он был сразу за поворотом, и скорость, на которой я влетел в него правым передним колесом, вряд ли достигла больше шестидесяти километров в час. Впрочем её хватило, чтобы я от удара об руль и лобовое стекло потерял сознание, вышибив при этом водительскую дверь и вылетев на асфальт. Однако, без сознания я был недолго, наверное, меньше минуты, так как вокруг меня успело собраться не более десятка человек. Очнувшись, я тут же вскочил на ноги, и оттолкнув преграждающих мне путь зевак кинулся бежать к видневшемуся невдалеке грязно-белому корпусу больницы, уже на бегу повторяя своё отчаянное – Господи! Господи! Господи!
С лихорадочной ясностью, работающего в форсированном режиме ума, я мгновенно разобрался на схеме в вестибюле больницы – где находится реанимационное отделение и, спотыкаясь на истёртых лестничных ступеньках, мигом взлетел на третий этаж, не обращая внимания на несущееся мне вслед истошное – Туда нельзя! Что вы делаете!
Едва не выбив дверь в реанимационное отделение своим ободранным об асфальт плечом, я ввалился туда и, сразу же наткнувшись на невысокого, средних лет, мужчину в зелёном хирургическом костюме под распахнутым белым халатом, шедшего мне навстречу с какими-то бумагами в руке, задыхаясь выпалил – Ради Христа! Не отключайте Миронову от аппаратов!
– Уже отключили.
Я омертвел, ноги предательски похолодели и обессилели, мне гигантским усилием воли удалось не упасть. Я оперся рукой о стену.
– Вы её бывший муж? Это я разговаривал с вами по телефону. Консилиум врачей принял решение о прекращении искусственного поддержания функций жизнедеятельности организма, ввиду полной безнадёжности реанимирования пациента. Спасти её было невозможно. Искренне сожалею. Что с вами произошло? Вы нуждаетесь в помощи. Пойдёмте со мной в перевязочную.
Я тупо уставился на него.
– Спаси вас Господи… Где она?
– В морге. Сейчас паталогоанатом должен производить вскрытие.
– Мне нужно её видеть. Сейчас. Это возможно?
– Пойдёмте. Я провожу вас.
По другой лестнице мы спустились вниз, вышли во двор.
– Видите, вон там в углу двора одноэтажное строение? Это морг. Там у входа есть скамейка. Посидите на ней, пока закончится вскрытие. Потом вам разрешат увидеть вашу жену, простите, бывшую…
Я побрёл в указанном мне направлении. Около двери обшарпанного здания из, частично позеленелого, серо-бурого силикатного кирпича, действительно стояла покосившаяся деревянная скамейка, подпёртая с одной стороны загаженной чугунной урной сталинского образца.
Однако присесть я не успел. Из двери вышла пожилая медсестра в клеёнчатом, подранном местами фартуке, поверх застиранного врачебного халата, и с непонятным испугом уставилась на меня. Наверное, «видок» мой внушал лишь подобные чувства.
– Здравствуйте! Я хочу видеть Миронову.
– Здравствуйте. Она вас тоже. Вы, ведь, Алексей? – женщина перекрестилась.
– Алексей. Простите. Я вас не понял. Она хочет меня видеть? Это такой врачебный юмор? Он несколько не к месту. Подождите! Откуда вы знаете, что меня зовут Алексей?
– Присядьте! Я тоже присяду – женщина снова перекрестилась – Или я сошла с ума, или есть Бог!
– Бог есть, я это знаю, что произошло?
– Молодой человек, я двадцать восемь лет работаю в этом морге! И, только что, я в первый раз увидела ожившего покойника. Не успел Михаил Иванович сделать надрез, как ваша Миронова глубоко вздохнула, открыла глаза и говорит – Доктор! Не надо меня резать! Позовите Алёшу, он идёт сюда! И укройте меня, пожалуйста, мне холодно и стыдно быть голой. Вот так! Господи, помилуй! – она опять перекрестилась.
Я вошёл, точнее – вскочил в морг, лишь на полминуты опередив, ворвавшуюся вслед за мной бригаду врачей. Было ощущение, что сюда сбежалось полбольницы, так рябило от белых халатов. На моих глазах, завёрнутую в какие-то простыни, слабо улыбающуюся Ирину перекладывали со стола на носилки, прилаживали ей под локоть какую-то капельницу, подсовывали что-то ей под голову, и всё говорили, говорили, возбуждённо и словно на иностранном языке. Когда её проносили мимо меня по коридору, я умудрился воткнуться между белохалатниками и дотронуться до Ирининой, чуть тёплой, слабо вздрагивающей ладошки. Мы встретились глазами.
– Ира! Я люблю тебя! Бог услышал меня!
Она тихо улыбнулась. По её глазам я понял что она знает это. И, наверное, многое другое, чего не знаю пока я. И, ещё я понял, что она тоже любит меня.
Меня оттолкнули.
ГЛАВА 15. ЧУДО
Около центрального входа в больницу я увидел вылезающего из фиолетовой «девятки» Флавиана. Он был в епитрахили и поручах, на груди у него висела расшитая бисером парчовая сумочка, размером с ладонь.
– Ну, ты и ездок, брат Алексий! Мы с Игорем выехали всего через двадцать минут после тебя, да на «девятке», да и сам Игорь – тот ещё «Шумахер», лётчик – он ведь и в машине – лётчик. Думали – догоним тебя за К-ом, а ты вон как выдал! За машину свою не беспокойся, её сейчас Миша, младшенький Семёнов в одну из своих мастерских на эвакуаторе везёт, у Миши три авторемонтные мастерские в Москве, со всякими там мойками, шиномонтажками и «Запчастями». Сделает твою машинку в лучшем виде.
Про Ирину я уже всё знаю, всю дорогу с Николаем Сергеевичем, главным хирургом больницы по мобильнику связь держал. Он сейчас тоже около неё должен быть. Велел ждать нам с тобой в вестибюле. Как только можно будет, пойдём к ней, причастим, я, вот – он показал на сумочку на груди – Святые Дары с собой взял.
Он, с радостными искорками в глазах посмотрел на меня, по детски счастливо улыбнулся, потряс своими мощными ручищами за плечи – Лёшка, Лёшка! До чего ж дивны дела Господни! Ты, представляешь себе, как у врачей сейчас головы трещат? Как из них «научный атеизм» с «диалектическим материализмом» вылетают? Это ведь не для тебя одного Господь чудо Иришкиного воскресения сотворил, а для всех, кто с ним сейчас столкнулся! Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение! Слава Господу за всё!
– Батюшка! Отпусти плечико! – скорчившись от боли, простонал я.
– Ой! Прости, Лёшенька, Христа ради, прости! Я и не углядел, что у тебя плечо разбито! Давай-ка попросим врачей тебя обработать! – лицо Флавиана исказилось искренним состраданием.
– Подожди, батюшка, попозже, давай присядем. Что-то я приустал маленько…
Флавиан, поддерживая под локти, ввёл меня в прохладный вестибюль. Мы опустились на широченный дермантиновый диван, я откинулся на спинку. Немногие посетители пугливо оглядывались на нас.
– Батюшка! Это ведь – правда – чудо? Ира, ведь, вправду была мертва?
– Чудо, Лёша! Истинное чудо! Ты сам видел, как врачи взолновались – значит – было от чего!
– А, ты раньше с таким сталкивался?
– Лично – нет, хотя читал про такие случаи много, да с одним близким приятелем, отцом Игнатием из Демьянкино подобное было.
– А, что с ним было?
– Ну, с ним вообще необычный случай приключился. Ещё до настоятельства в Демьянкино, служил он на окраине К-а в Погорельцеве, в церкви Вознесения Господня, как раз, между больницей и кладбищем. Там даже местная шутка есть: «способ излеченья в Погорелье прост – из больницы в церкву, оттуда на погост». Жил отец Игнатий в церковном домике, внутри ограды, в соседних комнатках со сторожем. И, вот, как-то ночью, стук в дверь. Обычно сторож идёт смотреть – кто там, если срочность до батюшки, тогда зовёт его. Слышит отец Игнатий – бранит кого-то сторож, подумал – может нужно помочь? Вышел, видит – на крыльце стоит босой мужчина, лет сорока, в синеньком казённом халатике, в «трениках» драных с обвисшими коленями, небритый, словом – самого «бомжового» вида. Однако, спиртным от него не пахнет. А, уж конец октября на дворе, холодно.
– Батюшка! Скажите ему, чтоб завтра приходил! – сторож возмущённо ворчал – ишь! Исповедаться ему посреди ночи приспичило!
– Ты откуда, брат? – спросил отец Игнатий.
– Из морга, вон оттуда – странный мужчина показал рукой на больничный забор – меня Матерь Божья всего на два часа отпустила, я седьмое мытарство не прошёл.
Сторож смотрит на него, а сам потихоньку отцу Игнатию пальцем у виска крутит, мол – чокнутый он!
Но, отец Игнатий, батюшка был всегда не боязливый, посмотрел на ночного гостя – заходи – говорит. Исповедал его как следует, отпустил грехи, даже причастил запасными Дарами, проводил за дверь. Тот ушёл в сторону больницы. А, на следующий день пошёл отец Игнатий в морг, посмотреть, правду ли ночной гость сказал. Смотрит – и вправду, лежит его исповедник на столе в том же наряде, а бабушка-уборщица ругается почём зря – всё студенты, практиканты проклятущие развлекаются! Покойника в мой рабочий халат обрядили! И в штаны, которыми я пол мыла! Издеваются над бабкой беззащитной!
Я встрепенулся – отец Флавиан! Это, что же, моя Ирина сейчас опять умереть может?!
– Ирина ваша… здравствуйте батюшка… теперь сто лет проживёт! – подошедший высокий пузатый доктор с красным лицом и седыми висками из под зелёной хирургической шапочки, поправил на картошкообразном носу крохотные золотые очки.
– Кроме, понятной слабости, у неё все показатели – от давления до энцефалограммы – хоть в космос посылай. Сердце – как у спортсмена! Это, отец Флавиан, уже – ваша компетенция, я этот случай комментировать никак не возьмусь, иначе надо в попы уходить из главных хирургов. Мой диагноз, только это не официально, конечно, однозначно – чудо! Вы бы видели её швы после вчерашней операции – в две недели так не срастается! Можете зайти к ней, она вполне способна к общению, только не переутомляйте сразу, хотя… Делайте, что знаете! Бог с вами! До свидания! – и он, уверенной «генеральской» походкой, понёс своё пузо с расходящимся на нём накрахмаленным белоснежным халатом в сторону служебного входа.
– До свиданья, Николай Сергеевич! Пойдём, Алёша!
– Скорее, батюшка!
Около палаты толпилось десятка полтора медработников, стоял тихий, но оживлённый гомон. Увидев Флавиана, все расступились, некоторые осеняли себя крестным знамением – сюда, батюшка! Проходите!
Мы вошли в одноместную палату. Справа у стены, на широкой, с колёсиками, кровати, укрытая под самый подбородок одеялом и пледом, лежала, так же тихо и счастливо улыбающаяся Ирина. Увидев меня, она выпростала из под одеял чуть бледноватую руку и протянула её ко мне тем же жестом, что тогда, ночью на Семёновом чердаке. Я рухнул на колени у кровати, зарылся головой в одеяла на её груди и, не в силах больше сдерживаться, зарыдал как ребёнок. Флавиан деликатно отошёл в угол, и отвернувшись от нас, присел у стола.
А, я плакал, плакал, обнимая самое дорогое для меня в этой земной жизни существо, плакал о потерянных в греховном болоте годах жизни, о украденной у Ирины и у самого себя любви, о наших загубленных не рождённых детях, обо всём том, что могло бы быть таким прекрасным в нашей с Ириной совместной жизни и чего теперь уже никак не вернуть. Я плакал, а Ира гладила меня по голове, по слипшимся всклокоченным волосам, по ободранному вздрагивающему плечу, и тихо шептала: – Лёшенька… родной… Лёшенька… милый…
Постепенно я успокоился.
– Лёша! А ведь я видела тебя на чердаке, в сене, спящим. Рядом с тобой были два мужчины, молодой и постарше тебя. Знаешь, как «там» удивительно! Батюшка! Подойдите пожалуйста, вы тоже должны услышать!
Флавиан переставил свой стул к изголовью кровати.
– Вчера, после операции я пришла в себя ближе к вечеру, вся нижняя часть тела ныла, я позвала сестру, мне вкололи что-то, и я опять уснула. Проснулась я ночью, вижу себя лежащей на кровати с приоткрытым ртом, и, кажется, не дышащую. А, сама я, в то же время стою посреди палаты, ближе к окну, и мне так хорошо – хорошо! Ничего нигде не болит, лёгкость необыкновенная, радость переполняет, и даже сознание того, что я наверное умерла, абсолютно не беспокоит! Только когда о тебе подумала – забеспокоилась, как же я теперь тебя увижу? И, сразу же на том чердаке оказалась, так всё быстро произошло, я не успела и опомниться. Подошла к тебе, наклонилась, захотелось прикоснуться к тебе, мне даже показалось, что ты глаза открыл и меня увидел, а потом меня повлекло что-то, и я в церкви оказалась, небольшой, но очень красивой какой-то… Подходит ко мне старичок, в сверкающем священном облачении и говорит – здравствуй Ирина, раба Божия. А, я спрашиваю его – дедушка! Вы священник? Вы тоже сегодня умерли?
– Нет – улыбается – давно уже, да и не умер я, у Бога смерти нет. Ты же и сама теперь видишь. У Бога все живые!
– А, что со мной теперь будет? Вы меня в рай отведёте? Или в ад? Я, ведь, очень грешная!
– Нет – опять улыбается – рано тебе в рай, надо тебе пожить ещё, грехи искупить, муж, вот твой за тебя ходатайствовал.
– Алёша? Он разве тоже умер?
– Нет – продолжает улыбаться, не умер твой Алёша, наоборот ожил, к Богу обратился, за тебя молится…
– Дедушка! А, что ж мне делать теперь?
– Теперь возвращаться, да помнить о том, что у Бога смерти нет, а есть любовь неисчерпаемая! Иди, Ирина, раба Божия, да живи с Богом и с Алексием своим. Вон, он к тебе идёт.
И, стал как бы растворяться.
– Дедушка! – кричу – а вас как зовут?
– Сергий – говорит – игумен…
Смотрю, а я во дворе больницы стою, около морга, солнышко светит, а по дорожке ко мне ты, Алёша идёшь, а я голая стою совсем. Мне стыдно стало, я – нырь в двери морга, в темноту. Открываю глаза, а надо мною доктор склонился с ножиком, большим таким, и в фартуке клеёнчатом.
– Доктор – говорю, не режьте меня, пожалуйста, я – живая, и вообще – смерти нет. Укройте меня, пожалуйста, и Алёшу позовите.
Дальше, ты сам знаешь. Да! И, ещё дедушка Сергий велел, как в себя приду, исповедаться и причаститься. Я – сказал – к тебе священника пришлю. Он вас попросил, да, батюшка?
– Видно так, Ирочка, а, ты меня не узнаёшь?
– Нет, батюшка!
– Ну, тогда ладно, потом поговорим, давай дело сделаем сперва. Алёша! Ты выйди, пока, и попроси у сестёр кипяточка полкружечки.
Я вышел.



