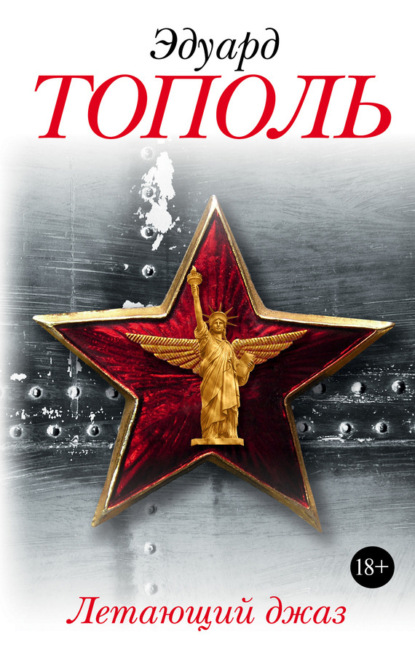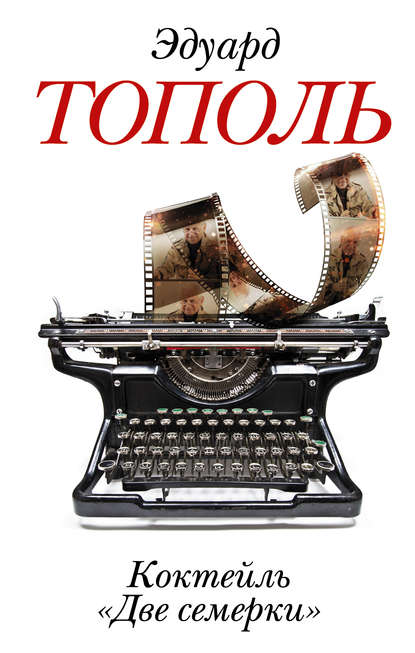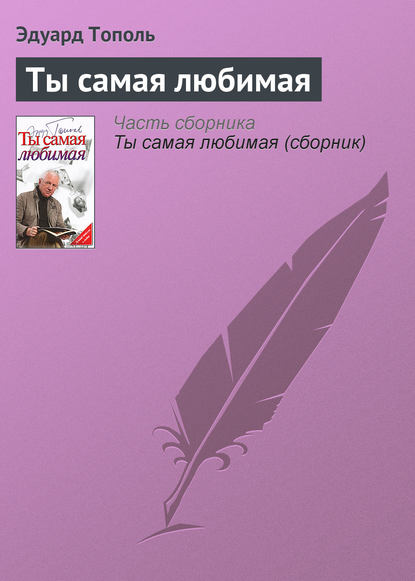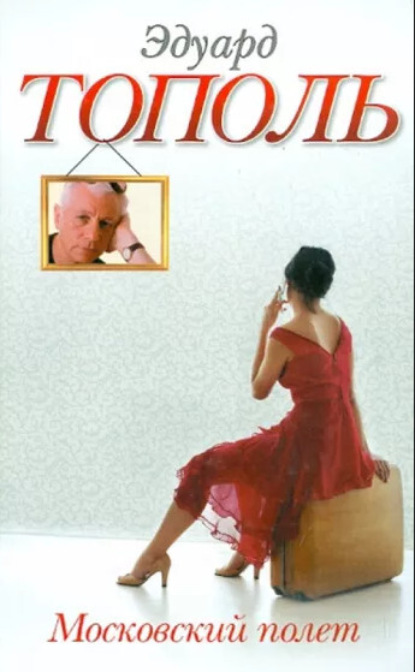
Полная версия:
Эдуард Владимирович Тополь Московский полет
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Эдуард Тополь
Московский полет
Часть первая
1
В баре было полутемно. За стойкой, на высоких табуретах, сидели два мужика, один из них в техасской шляпе и высоких рыжих бутсах, другой – в шортах и черной безрукавке с надписью «Давайте убьем всех адвокатов!». Они пили пиво и смотрели бейсбол по телевизору.
Я сел на крайний табурет, сказал толстой барменше-пуэрториканке:
– Бренди, плиз.
– What? – спросила она.
– Бренди… – повторил я.
– What?
Она наклонилась, положив передо мной на стойку свои пудовые испанские груди.
– Бренди, – сказал я в третий раз, внутренне закипая.
– What does he want [Что он хочет?]?[1] – повернулась она к двум мужикам. – I don’t understand [Я не понимаю].
Я почувствовал, что побледнел, но, сдержав себя, сказал:
– Би – ар – эй – эн – ди – вай.
Тут барменша посмотрела на меня с еще большим недоумением:
– What? What?
Я психанул, взял у нее из нагрудного кармана авторучку и написал на салфетке:
BRANDY
– He wants brandy [Он хочет бренди], – прочел барменше тот, кто хотел убить всех адвокатов.
– О, бренди! – воскликнула барменша и отошла с таким видом, словно я говорил с ней по-китайски.
Конечно, она принесла мне рюмку бренди, но это уже не помогло мне. В этой ё… Америке даже безграмотная пуэрториканка считает меня человеком второго сорта, поскольку за десять лет я не научился говорить слово «бренди» так, как она. А как я сказал, ф… йо мазер! Бренди есть бренди – или нет?
Я залпом выпил это вонючее бренди, швырнул на стойку три доллара и ушел, хлопнув дверью. И с узкого тротуара сразу шагнул на мостовую, но тут же испуганно отпрянул – мимо, с оглушительным воем и ослепив меня фарами, промчалась машина, потом – вторая, третья.
– F… your [Вашу мать]!.. – громко крикнул я им и услышал хлопки петард, а вдали, над Бостонским заливом, в черноте неба вдруг рассыпались огненные шары фейерверка. Я вспомнил, что сегодня 4 июля и, наверно, там на набережной, среди праздничной публики, смотрят сейчас фейерверк Лиза и Ханочка. И я с ненавистью сказал этим огненным шарам фейерверка: – F… you too!
И пошел прочь – к причалу яхт-клуба, к темной воде, от которой пахло гнилыми крабами. Отсюда не был виден этот сраный Бостон с его праздничным фейерверком, потому что огромный утес, как верблюжий горб, торчал почти на берегу и перекрывал перспективу. Днем во время отливов вода тут отступает настолько, что можно посуху пройти на этот утес, и я часто приходил сюда с дочкой; мы назвали этот утес «Ханочкин остров». Лежа на теплом граните, я рассказывал ей про собак, кошек, воронят и ежей, с которыми дружил когда-то, в своей прежней жизни – в России…
А по ночам на этом Ханином острове устраивается молодежь – любители пива, марихуаны и рок-музыки. Но сейчас все они там, на празднике, и я мог легко приступить к тому, что задумал. Однако эта сволочь барменша выбила меня из колеи, я был так взбешен, что уже не мог топиться. Да, да, наверно, в бешенстве можно выброситься из окна или вскрыть себе вены, но топиться нелепо – это я понял сразу, как только пришел на берег.
Но куда мне деться? Как жить? Десять лет я писал книги об империи зла с такой страстью желчного еврейского сердца, что советские газеты утверждали, будто их распространяет ЦРУ. Подобные комплименты поднимали меня в собственных глазах, и моя работа казалась мне борьбой Давида с Голиафом. Но теперь Голиаф рухнул и книги об издыхающем пугале советской империи уже никому не нужны – впереди тупик. И вообще, говорил я себе в ожесточении, ты стал писателем на волне холодной войны, а теперь холодная война кончилась. И кончились твои гонорары, и спрос на тебя кончился даже в твоей собственной семье! Но разве ты писал настоящую литературу? Ведь настоящая литература – это когда про людей, а не про империи.
И вдруг…
«Моя дорогая, моя дорогая дочка! – вдруг написал я мысленно. – Сегодня тебе исполнилось восемнадцать лет, банковский клерк поздравит тебя с днем рождения, проведет в Safety Deposit[2], откроет мой ящик и достанет эту Рукопись. И ты наконец узнаешь правду – правду, только правду и ничего, кроме… Ты узнаешь, почему мы разошлись с твоей матерью и почему ты осталась без отца…»
Да, именно так! – решил я у черной воды Бостонского залива, пахнущей дохлыми крабами. Я не покончу жизнь самоубийством, пока не напишу эту Книгу! Это будет роман-письмо самоубийцы, которое дойдет к дочери через тринадцать лет. Вся история нашей эмиграции – вся наша еврейская дорога из России в Америку через Австрию и Италию под конвоем австрийских солдат и итальянских карабинеров, которые охраняли нас от палестинских террористов, и моя первая встреча с Лизой, и даже наша с ней первая ночь, – все будет в этом письме, я ничего не скрою от дочери. Это будет мой лучший фильм на бумаге! И если сегодня Лиза забрала у меня дочку, то через тринадцать лет эта Книга вернет мне ее – даже если меня уже не будет в живых! А меня не будет, – ожесточенно и обрадованно подумал я, – не будет, это уж точно! Ведь когда я допишу эту Книгу и отправлю рукопись в банк, что же мне еще останется делать, как не покончить с собой?
И плотная ткань будущего романа, полная драм и комедий эмигрантской жизни, вдруг ясно развернулась передо мной на темной глади Бостонского залива, и моя личная история пролегла по воде, как лунная дорожка, которая, завораживая и колдуя, тянет вас на смертельную глубину. И впервые в жизни я не пожалел, а обрадовался, что я писатель. Кто еще может так отомстить жене?!
Радуясь своему замыслу, я прямо тут, у воды, стал набрасывать в уме план книги: первая глава – выезд из СССР, шереметьевская таможня, где издеваются над эмигрантами. Вторая глава – полет в Вену в сопровождении гэбэшных бугаев, которые даже в самолете следят за каждым жестом русских эмигрантов. А третья глава…
Но третью главу я не успел продумать: рядом со мной в масляной черноте июльской ночи вдруг ослепительно вспыхнули мощные фары и цветная вертушка полицейской машины – прямо мне в глаза.
Я встал и пошел с пляжа, неся в себе новый замысел, как трепетную свечу. Но тут же услышал мужской радиоголос:
– Эй, ты! Стой! Не двигайся!
Я остановился. Правая дверца машины открылась, и темная фигура, слепя мощным фонариком и хрустя ботинками по песку, стала медленно приближаться. В опущенной правой руке этой фигуры я даже в темноте угадал пистолет.
– Don’t move, – сказала фигура. Голос был женский, с негритянским тембром.
Я не двигался.
Фигура замерла в трех шагах. За ее спиной в машине сидел еще один полицейский и что-то говорил в микрофон радиотелефона.
– Как зовут? – спросила меня баба-полицейский.
Я назвался.
– Где живешь?
– Два квартала отсюда…
– Адрес!
Я сказал свой адрес.
– Что ты здесь делаешь?
– Праздную… – усмехнулся я.
– Празднуешь что? – требовательно, как ворона, каркнула она.
Я пожал плечами и сделал неопределенный жест рукой, который она тут же оборвала окриком:
– Не двигайся! Кругом!
Я повернулся.
– Подними руки! Раздвинь ноги!
Я поднял руки и расставил ноги.
Она осторожно подошла ко мне сзади и положила на землю фонарик так, чтобы он освещал всю мою невзрачную фигуру. Затем одной рукой похлопала меня сначала под мышками, потом – по карманам джинсов и, наконец, промеж ног и ниже – до щиколоток. Рука у нее была жесткая, как палка, и вообще мне вдруг показалось унизительным, что молодая черная баба шлепает меня по яйцам и другим местам – меня, писателя, который только что обдумывал роман века!
– Ладно, – сказала баба-полицейский. – Можешь повернуться.
Я возмутился:
– С чего это ты меня проверяешь?
– Мы ищем кой-кого, – примирительно сказала она, поднимая свой фонарик. – Ты русский?
– Нет, я еврей! – возразил я с вызовом, не принимая ее примирительного тона.
– Не важно. Все евреи из России, – сказала она небрежно. – Можешь идти. Спокойной ночи.
И ушла к своей вспыхивающей мигалкой машине, а я остался в темноте, гадая, как она могла определить, что я из России. Неужели это русское клеймо вибрирует даже в тембре моего голоса, как в ее голосе – клеймо негритянской крови?
2
Домой идти было незачем, самоубийство я отложил, а в баре даже барменша-пуэрториканка отнеслась ко мне как к недоразвитому.
Я ожесточенно шагал по тусклым марблхедским улицам – прочь от набережной, от фейерверка, от праздничной жизни. Мне нет там места. Мое место на свалке макулатуры, среди мусорных урн и бездомных нищих. Но – вашу мать! – именно там, на обочине жизни, я напишу свою Главную книгу!
Подстриженные газоны. Флаги в честь Дня независимости. Двухэтажные особняки. «Вольвы» и «форды» на парковках. Уютные огни за шторами, запах барбекью с задних дворов, голоса теледикторов и смех телешоу… Черт возьми, куда я иду? В моем доме на углу Розен-стрит – черные окна, пустой гараж и тихо, как в могиле. Я прошел мимо, отшвырнул с тротуара во двор цветной Ханин мяч. Этот дом стоит двенадцать сотен в месяц, но он не принес мне счастья. «О, это настоящий дом любви! – говорила хозяйка, когда мы с Лизой пришли смотреть его два года назад. – Моя мать прожила здесь тридцать лет, это были лучшие годы ее семейного счастья!»
F… your mother’s love house [В гробу я видел дом любви твоей матери]! Именно здесь ко мне каждую ночь приходит огромная, как пантера, черная кошка, прыгает на грудь и когтями рвет мое горло так, что кровь брызжет из вен.
Я свернул за угол, вышел на Атлантик-авеню и через пару минут вдруг оказался перед ярко освещенными окнами нашей синагоги. Я остановился. Кто может быть в синагоге поздним вечером в День независимости?
Я пересек подстриженный газон и подошел к окну. В молельном зале сидели двое – ребе Зальц, которого я знаю давно, и незнакомый мне лысый толстяк. Они сидели за Торой, но не молились, а что-то весело обсуждали, жестикулируя руками. Десять лет назад, когда я приехал в Америку и ходил по Нью-Йорку в надежде встретить миллионера и соблазнить его своим гениальным, как у каждого эмигранта, кинопроектом, этот ребе Зальц дал мне первую работу. Не знаю, как в других странах, но в США человека, который дал вам первую работу, помнят всю жизнь – как первую женщину. Тогда, летом 1979 года, кто-то сказал мне, что еврейской организации «Призыв» нужен русский редактор, и так я попал на угол Двадцать пятой улицы и Пятой авеню, в офис Зальца.
Зальц – высокий, похожий на грача 40-летний раввин в отличном темно-синем костюме с узкой д’артаньяновской бородкой, большим простуженным носом и перхотью на плечах – глянул на меня неожиданно весело и открыто. Перед ним стоял худой и голодный русский еврей, потный от августовской жары, с лица которого даже бритвой «Шик» невозможно было сбрить отчаяние первых месяцев эмиграции. Он сказал:
– Я знаю несколько русских слов – «еп твой мать», «жидовска морда» и «п…».
От изумления у меня отвисла челюсть: наконец хоть один американец сразу, с первых слов, заговорил со мной как с равным. И не начал рассказывать мне о том, как в двадцатых годах его родители-эмигранты работали в Америке за полдоллара в день, и потому мне нужно начинать с того же.
Уже через минуту я узнал, что ругаться по-русски ребе Зальца научили лучшие специалисты в этой области – киевские гэбэшники. Оказалось, что пять лет назад Зальц побывал туристом в СССР и, находясь в Киеве, поехал в Бабий Яр, постелил там на земле коврик и стал молиться в память о тех 200 тысячах евреев, которых немцы расстреляли здесь во время второй мировой войны. Но не успел Зальц дочитать Кадиш, как подкатила черная «Волга», киевские гэбэшники бросились на него, скрутили, привезли в подвал украинского КГБ и ровно трое суток били и пытали голодом и холодом, требуя признания в том, что он американский шпион. За трое суток ему сломали два пальца на левой руке, научили материться по-русски и сделали из него профессионального антисоветчика – вернувшись в США, Зальц немедленно основал организацию «Призыв» и на тонкой папиросной бумаге стал печатать еврейские религиозные брошюры на русском языке, а потом по каким-то секретным каналам засылать эти брошюры в СССР.
Я тут же зауважал этого простуженного грача. Но когда открыл одну из его брошюр, мое лицо свело, как от зубной боли: они были написаны жутким языком и с таким количеством грамматических ошибок, что вряд ли кто-то в России читал их дальше второй строки.
– Well, – сказал Зальц, увидев выражение моего лица. – Конечно, это нужно слегка подредактировать. Ты сможешь? Я буду платить тебе сто пятьдесят долларов в неделю.
Я понимал, что эти книжки бесполезно редактировать – их нужно писать заново. Но в это время я жил на доллар в день, и сто пятьдесят в неделю были для меня как контракт с Голливудом. Потом за пять следующих недель я прочел в библиотеке манхэттенской иешивы штук сорок книг по еврейской религии, изданных в России и в Польше еще в двадцатые годы, и написал современным русским языком пять брошюр – о еврейских праздниках, о кошерной пище, о субботе и еще толстый сборник избранных еврейских сказок из «Агады». После этого Зальц сказал, что я обеспечил их работой на год вперед, выдал мне последний чек, и я снова оказался на улице. Но моя маленькая брошюра «Шабат в еврейской жизни» довольно лихо разошлась тогда в СССР по каналам еврейского самиздата, и Зальц запомнил меня. Когда в прошлом году я случайно встретил его в аэропорту Логан, он сказал: «О, мистер Плоткин! Я слышал, вы стали автором бестселлеров! Где вы живете? В Беверли-Хиллз?» Я сказал, что как раз ищу какое-нибудь жилье в Бостоне. «Только не в Бостоне! – воскликнул Зальц. – Летом вы задохнетесь в Бостоне! Настоящий писатель должен жить в Марблхеде! Поезжайте и посмотрите сами – там море, там пять яхт-клубов. И у меня там синагога!»
Он был прав: настоящий писатель действительно должен жить в Марблхеде, иметь свой дом на берегу моря, пару «ягуаров» в гараже и яхту на Грет-Нек. А поскольку у меня нет ни дома, ни «ягуара», ни яхты, то какой же я на х… настоящий писатель?
Я отошел от окна синагоги и собрался двинуться прочь, как вдруг новая идея пришла мне в голову. Я усмехнулся. Черт возьми, у меня же есть вопрос к ребе Зальцу! Очень серьезный и неотложный вопрос!
Затоптав ногой сигарету, я открыл тяжелую дверь синагоги.
– О, мистер Плоткин! – воскликнул ребе Зальц и повернулся к лысому толстяку. – Познакомьтесь, это наш писатель, он написал книгу «Шабат в еврейской жизни».
Тем самым Зальц дал понять, что все остальное написанное мною – не книги. А вот тоненькая брошюра о субботе…
Но я не обиделся, он прав: все, что я написал, – действительно дерьмо, и не о чем разговаривать. Между тем лысый толстяк повернул ко мне круглое бритое лицо и стал разглядывать меня своими маленькими глазками, рыжими, как новенькие пенни.
– Познакомьтесь, – сказал мне Зальц, – это ребе Голд из городского раввината.
– Очень хорошо, – сказал я решительно. – Значит, мне повезло: вас тут даже не один, а два раввина! Вы можете мне сказать, в чем секрет семейного счастья?
Они переглянулись в некотором смятении.
– Ну… – Я попробовал смягчить свой требовательный тон. – Помню, когда я писал еврейские брошюры, где-то вычитал, что каждый человек умирает один раз. Но если человек несчастливо женат, он умирает каждую ночь?..
– Это в Торе написано, – сказал ребе Зальц осторожно и чуть откинулся на стуле, как врач, принимающий своего первого шизофреника.
– Точно! – сказал я. – Но я нигде не читал, в чем секрет семейного счастья. Не может быть, чтобы в еврейской религии не было ответа на этот вопрос.
– А вы почему спрашиваете? – вдруг спросил ребе Голд, обменявшись взглядом с ребе Зальцем. – Просто из любопытства или у вас есть личная причина?
– Ну, и то и другое… – ответил я нетерпеливо.
Накануне ночью, с трудом отодрав от себя черную кошку-пантеру, я проснулся в холодном поту, с жутким сердцебиением и, лежа в постели, стал думать о своей неудавшейся семейной жизни. Почему она развалилась? Я вдруг физически ощутил, что вокруг меня, в звездной черноте марблхедской ночи, сотни людей тоже не спят, но они любят друг друга, занимаются любовью, обнимают друг друга, целуют. Так в чем же секрет их семейного счастья?
И тут – я даже сел рывком на кровати – я разом придумал целый кинофильм! СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ! Конечно! – воскликнул я мысленно и тут же схватил сигарету. Почему у меня разбилась семейная жизнь, это никому не интересно. Но вот почему у других не разбивается – это может быть интересно миллионам! И значит, нужно пройти с кинокамерой по синагогам, церквам, костелам и мечетям и спросить у знатоков национальных традиций: в чем секрет семейного счастья? Наверняка у каждого народа и в каждой религии будет свой ответ. И можно проехать по разным странам – Японии, Китаю, Тибету – и записать правила семейной жизни древних народов. А потом взять интервью у знаменитых счастливых семейных пар – у Рональда и Нэнси Рейган, Пола Ньюмана и его жены, Джорджа и Барбары Буш, Роберта Рэдфорда…
Зальц не отвечал на мой вопрос, а выжидательно смотрел на Голда, передавая ему как старшему право на ответ. Так два хирурга стоят над неизлечимым раковым больным, не решаясь приступить к заведомо безнадежной операции, а больной глядит на них в упор и требует: режьте! Мне уже все равно не жить, так режьте же, черт возьми!
И тогда ребе Голд, член городского раввината, потрогал пухлой рыжей рукой воротник своей рубашки и сказал:
– Ну-у-у, во-первых, секрет семейного счастья – это секрет! А во-вторых…
Дальше он стал рассказывать, что по еврейскому закону нужно ежемесячно 12 дней воздерживаться от половой жизни, и тогда жена приходит к мужу свежая, как невинная девушка. Что, по статистике, в религиозных семьях значительно меньше разводов, чем в нерелигиозных. Ну и все такое прочее, что я уже не слушал, – это я и сам писал, когда редактировал в «Призыве» брошюры о еврейской религии. А вот ответ раввина, что «секрет семейного счастья – это секрет», развеселил меня до истерики – это была последняя капля в психическом перенапряге этих дней.
Я вышел из синагоги, сел на подстриженный газон и стал хохотать, как сумасшедший. Да я и был в эти дни сумасшедшим – чего там! Каждый из нас бывает таким: одни – минуту, другие – несколько дней, третьи – всю жизнь. И не говорите себе, что вы не сумасшедший, никогда не говорите – просто ваша минута еще не пришла…
«Секрет семейного счастья – это секрет!»
Вашу мать!
Я пришел за Откровением, за Спасением, за Словом Божьим, а оказывается – это секрет! Моя жизнь и так превратилась в ничто: я теряю семью и единственную дочку, я пишу книги, которые уже никто не помнит, кроме московского КГБ, а когда я придумал сюжет про нормальных людей – это секрет!
Я катался по траве и хохотал, как плакал…
– Папа! Папочка! – вдруг услышал я голос дочки.
Я сел, вытирая с лица слезы смеха.
Рядом, в пяти метрах, стояла моя бывшая «тойота-корола», за рулем сидела моя бывшая жена Лиза, а с заднего сиденья через открытое окно выглядывала моя пятилетняя дочка Хана – обе в купальниках и резиновых шапочках.
– Папа, что ты там делаешь? Ты такой смешной! Ты поедешь с нами на пляж? Мы едем купаться перед сном!
Я смотрел на дочку, пытаясь понять, откуда она тут взялась и о чем спрашивает. Но Лиза не стала ждать моего ответа. Перед ней на траве газона лежало Ничто – сумасшедший, которого она уже списала из своей жизни. Презрительно отвернув голову, Лиза дала газ, и машина, чиркнув колесами по асфальту, покатила прочь по Атлантик-авеню. Маленькое белое личико Ханочки удивленно смотрело на меня через заднее стекло.
3
И вот это состоялось – мы складывали вещи. Мы складывали их в картонные фруктовые коробки из Смарт-маркета. Я – в своей комнате, а Лиза – на кухне. Лиза с Ханочкой тоже съезжали из этого «дома любви» – в Салем, в другую квартиру, дешевую.
– Вадим, у тебя есть сигареты?
– Да. Вот на столе…
– У меня будет маленькая квартира, твои вещи там не поместятся.
– Но тут всего пять коробок с книгами!
– Там очень маленькая квартира.
– О’кей! О’кей!
Конечно, дело не в коробках, подумал я. Просто ей не терпится отрезать меня окончательно. И еще ее возмутило, что я не повесился и не утопился, а, наоборот, купил себе машину. Да, пошел вчера к дилеру и на «Мастер-кард» купил себе «тойоту-терсел». Правда, нормальные люди покупают машину на банковский кредит, но я для банка, как и для жены, человек ненормальный: у меня нет постоянной работы. Писатель! Кто в Америке считает это работой? Если ты не Стивен Кинг и не Том Кланси, но при этом называешь себя писателем, тебе говорят: «О, поздравляю! А на что ты живешь?..» А если ты продолжаешь утверждать (да еще на плохом английском), что живешь на свои литературные гонорары, то с тобой рвут отношения, потому что в Америке не любят, когда люди лгут прямо в глаза. Скажи им, что ты заправщик на бензоколонке, или развозишь пиццу, или продаешь айсберги в Новую Зеландию, – и тебе любой поверит, и банк откроет кредит. Но если ты снимаешь дом в Марблхеде и при этом говоришь, что ты только русский писатель, – well, – или ты агент КГБ, или ты в каком-нибудь нелегальном бизнесе, это ясно.
Короче, когда банк отказал мне, я купил машину на свою кредитную карточку. Конечно, это был поступок шизофреника, потому что на счете у меня было всего семь сотен – ровно половина следующей месячной выплаты алиментов, а мой агент вот уже полгода не может продать мой последний роман о падении Горбачева – ни один американский читатель не хочет, чтобы Горбачев проиграл даже в романе! А этого я как раз не учел! Я не учел, что, если пророк хочет преуспеть коммерчески, он должен угадывать не столько будущее, сколько желание клиента. Скажи человеку, что он через десять лет станет миллионером, и он радостно отдаст тебе последнюю десятку и уйдет счастливым, да еще пришлет к тебе всех своих родных и знакомых. Но попробуй сказать ему, что он разорится или заболеет раком, – таких пророков в древности били камнями! Два года я сочинял роман о перестройке и ничего, кроме гражданской войны в России, у меня из этой перестройки не получилось. Теперь ни один из моих издателей не дает за этот роман и цента, как будто я виноват в том, что в России действительно начинается гражданская война!
Но без машины мне сложно навещать дочку, если я собираюсь жить в Нью-Йорке. И отправляясь к ближайшему автомобильному дилеру, я мрачно подумал, разве вся Америка не живет в долг? Пора и мне усвоить эту психологию…
Я отнес ящики с книгами в свою «терсел», повертел в руках старую кинохлопушку, вывезенную из России как память о моем последнем фильме «Зима бесконечна», и швырнул ее в мусорный ящик, где уже находились все сто двадцать папок с вырезками из последних советских газет про шахтерские забастовки в Донбассе, национальные волнения в Прибалтике и Армении, выборы в советский парламент, с речами Горбачева и т. п. Все это мне уже не понадобится никогда. Я вздохнул и позвал дочку в свою опустевшую комнату.
– Сядь, Ханочка, на этот стул, – сказал я. – А я сяду на этот.
– Зачем? – сказала Ханочка.
– Ну, так полагается. Перед дорогой надо посидеть.
Она полезла на стул, говоря:
– А мы завтра тоже едем на новую квартиру, в Салем. И там у меня будет новый папа.
Я обмер. Так вот почему Лиза настояла, чтобы я съехал из дома на день раньше нее!
– Ханочка, кто тебе сказал про нового папу?
– Никто. Я сама знаю.
– Детка, я хочу, чтобы ты запомнила навсегда. – Изо всех сил я старался говорить ровным тоном. – У мамы может быть другой муж или друг, но никто из них не будет твоим папой. Папа бывает только один. Только один бывает папа. Тот, который научил тебя ходить, говорить, любить сказки… Понимаешь?
– Понимаю, папочка. А почему ты не хочешь с нами жить? Ты нас больше не любишь?
Я смотрел ей в глаза. Конечно, она повторяет то, что ей сказала Лиза. «Новый папа»! Значит, Лиза уже учит Хану называть «папой» ее, Лизиного, будущего (или уже существующего) хахаля!..
Но я приказал себе сдержаться. У детей короткая память, и ты ничего не помнишь, да и не можешь помнить, моя дорогая дочка. Ты не помнишь, как во Флориде Лиза схватила тебя, пятимесячную, и уехала от меня в Торонто к своей матери, потому что я эгоист, я сижу по двенадцать часов в день за пишущей машинкой и не уделяю ей, Лизе, внимания. А потом в Нью-Йорке, когда тебе было десять месяцев, Лиза просто выгнала меня из квартиры, потому что я эгоист, я сижу по двенадцать часов за IBM Typewriter и не уделяю ей, Лизе, внимания. А потом в Торонто, в Канаде, когда тебе было четыре года, Лиза взяла тебя, два чемодана и улетела от меня в Бостон к подруге, потому что я эгоист, я сижу по двенадцать часов за компьютером и не уделяю ей, Лизе, внимания. И каждый раз я догонял вас, находил и добивался примирения с ней – ради тебя, Ханочка! Ведь я назвал тебя именем своей матери, как же я мог бросить тебя? Пока мне фартило, пока печатали мои книги, Лиза целыми днями смотрела по телевизору «The Young and The Restlles», «As the World Turn» и прочие «мыльные оперы», а в перерывах меняла домработниц и рисовала абстрактные картинки. А теперь она считает, что я погубил в ней великую актрису, потому что я занят только своими книгами и сведением счетов с КГБ за то, что он запретил мой фильм и практически выгнал из России. А если бы я думал о своей жене, то мог бы написать для нее пьесу, устроить жену в театр или по крайней мере научить ее писать книги…