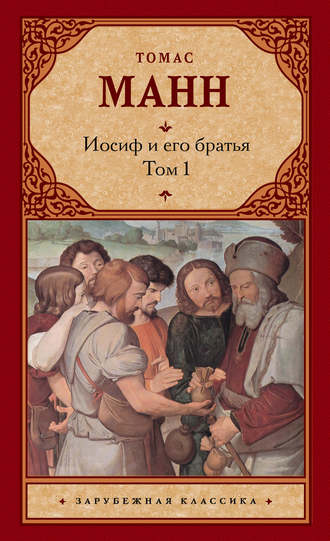
Томас Манн
Иосиф и его братья. Том 1
О дурацкой земле Египетской
Закончил свои размышленья и очнулся от отрешенности величавый этот старик не менее выразительно, чем им предался. Глубоко вздохнув, со степенным достоинством, он выпрямился, стряхнул с себя задумчивость и, подняв голову, огляделся по сторонам, словно проснулся и теперь явно собирался с мыслями, возвращаясь к действительности. Приглашение Иосифа присесть рядом с ним было, казалось, пропущено мимо ушей. Да и не время было сейчас рассказывать забавные сказки, как пришлось, к стыду своему, признать Иосифу. Старику нужно было еще серьезно поговорить с ним. Лев был не единственной заботой Иакова. Иосиф дал повод и для других опасений, и ему ничего не было спущено. Он услыхал:
– Далеко внизу есть страна, страна служанки Агари, она зовется еще страною Хама или черной, дурацкая земля Египетская. Люди ее черны душой, хотя и красноваты лицом, и выходят старыми из материнского чрева, а поэтому младенцы их похожи на маленьких стариков и уже через час начинают болтать о смерти. Они, как я слышал, проносят по улицам под бой барабанов и звуки струн мужеский член своего бога длиною в три локтя и блудят в могилах с нарумяненными мертвецами. Все, как один, они надменны, печальны и похотливы. Одеваются же они согласно проклятию, что пало на Хама, которому велено было ходить нагим, оголив срам, ибо тонкий, как паутина, холст лишь прикрывает их наготу, но не прячет ее, и этим они еще похваляются, утверждая, что носят сотканный воздух. Ибо не стыдятся они плоти своей, и нет у них ни слова «грех», ни такого понятия. Животы своих мертвецов они начиняют пряностями, а вместо сердца по праву кладут изваянье навозного жука. Они богаты и бесстыдны, как люди Содома и Аморы. Им ничего не стоит раскинуть постель у постели соседа или обменяться женами. Если женщина, проходя по рынку, увидит юношу, который вызовет у нее желание, она ложится с ним. Они и сами как животные, и поклоняются животным в глубине своих древних храмов, и я слыхал, что одна девственница отдалась там на глазах у всего народа козлу по имени Биндиди. Одобряет ли сын мой эти обычаи?
Понимая, каким его проступком вызваны такие речи, Иосиф опустил голову и оттопырил нижнюю губу, как маленький мальчик, которого бранят. За покаянно-обиженным выраженьем лица он скрывал, однако, усмешку; он знал, что нравы Мицраима Иаков изобразил слишком обобщенно, односторонне и сгустив краски. После нескольких мгновений сокрушенного молчания он, прежде чем ответить, просительно поднял глаза, стараясь найти в отцовских глазах первый проблеск примирительной улыбки, и даже попытался вызвать ее осторожным сближеньем, то смело выставляя напоказ, то вновь пряча собственную веселость. Глаза Иосифа уже походатайствовали за него, когда он сказал:
– Если там внизу, дорогой господин мой, такие порядки, то, конечно, одобрить их несовершенное это дитя остережется в душе своей. Тем не менее мне кажется, что тонкость египетского полотна и то, что оно как воздух, свидетельствует об искусности этих дряхлых навозных жуков в ремесле и могло бы, с другой стороны, при известных условиях, говорить и в их пользу. И если они не стыдятся плоти своей, то человек, склонный к чрезмерной снисходительности, мог бы, наверно, заметить в их оправданье, что они по большей части довольно худы и поджары, а у жирной плоти больше причин для стыда, чем у тощей, потому что…
Теперь сохранять серьезность должен был Иаков. Он отвечал голосом, в котором осуждающее нетерпенье и нежность взволнованно боролись друг с другом:
– Ты говоришь, как дитя! Ты умеешь складно изъясняться, и речь твоя завлекательна, как речь торговца, хитро набивающего цену верблюду, но смысл ее – это чистейшее ребячество. Не хочу думать, что ты решил посмеяться над моим страхом, а я трепещу от страха, что ты вызовешь недовольство господа и навлечешь его гнев на себя и на Авраамово семя. Глаза мои видели, что ты сидел нагой при луне, как будто всевышний не вложил в наше сердце разуменья греха, как будто на этих высотах ночи весны совсем не прохладны после дневного зноя и ты не можешь ночью простыть и замертво свалиться от лихорадки, прежде чем запоет петух. Поэтому я хочу, чтобы ты сейчас же надел поверх рубахи верхнее платье по благочестному обычаю детей Сима. Ведь оно шерстяное, а со стороны Гилеада дует ветер. И я хочу, чтобы ты не пугал меня, ибо глаза мои видели еще кое-что, и я боюсь, что они видели, как ты посылал звездам воздушные поцелуи…
– Нет, нет! – воскликнул Иосиф, не на шутку испугавшись. Он вскочил с края колодца, чтобы надеть свой коричнево-желтый, длиной до колен халат, поднятый и поданный ему отцом; но одновременно стремительный этот подъем был, казалось, его отпором подозрению старика, которое нужно было опровергнуть во что бы то ни стало – и всеми средствами. Будем внимательны, тут все было очень характерно! Ассоциативная многослойность мышления Иакова сказалась в том, как он в одном упреке соединил три: в гигиенической неосторожности, в недостатке стыдливости и в религиозном атавизме. Последний был самым глубоким и самым неприятным слоем этого комплекса тревог, и, наполовину просунув обе руки в рукава халата и от волнений не находя его верхнего выреза, Иосиф своей борьбой с одеждой старался нагляднее показать, как важно ему отречься от действий, которые он тут же сумел самым лукавым образом оправдать.
– Вот уж нет! Вот уж чего не было, так не было! – уверял он отца, пытаясь продеть свою красивую и прекрасную голову в вырез халата; и чтобы придать своему протесту бо́льшую убедительность изысканностью словесной, Иосиф прибавил:
– Сужденье папочки, право, огорчительно отклонилось от истины!
Взволнованно оправив халат движением плеч и одернув его обеими руками, он сбросил с головы растрепавшийся миртовый венок и стал, не глядя, завязывать тесемки, которыми стягивался халат под шейным вырезом.
– О воздушных поцелуях не может быть и… Неужели я сотворил бы такое зло? Пусть господин мой соблаговолит разобраться в моих оплошностях, и он убедится, что они ничтожны! Я глядел вверх, это верно. Я видел, как лучится, как великолепно плывет по небу светило ночи, и глаза мои, израненные огненными стрелами солнца, купались в отдохновенно-прохладном ночном сиянье. Ибо, как поется в песне и как передают люди из уст в уста:
Чтоб мерили время твои перемены,
Он брачным союзом связал тебя с ночью,
О Син, и заставил сиять и украсил
Венцом торжество твоего завершенья.
Иосиф произнес это нараспев, стоя на одну ступеньку выше, чем старик, вытянув вперед, ладонями вверх, кисти рук и при каждом первом полустишии наклоняя туловище в одну сторону, а при каждом втором – в другую.
– Шапатту, – сказал он. – Это день торжества завершенья, день красоты. Он близок, он наступит завтра или назавтра после завтрашнего дня. И в субботу я даже украдкой, даже невзначай не стану посылать воздушных поцелуев мерилу времени, ведь сказано же, что сияет оно не само по себе, а заставил его сиять и дал ему венец Он…
– Кто? – спросил Иаков тихо. – Кто заставил его сиять?
– Мардук-Бел! – опрометчиво выпалил Иосиф, но тотчас же, отрицательно качая головой, протянул: «Э… э…» – и продолжил: —…Как называют его в историях. Однако, – и папочка мой отлично знает это и без жалкого своего дитяти, – это владыка богов, более могучий, чем всякие ануннаки и местные баалы, бог Авраама, побивший змея и сотворивший тройной мир. Если он, разозлившись, отвернется, он уже не повернет шеи обратно, а если разгневается, ни один бог не воспротивится его ярости. Он великодушен и всеведущ, нечестивцы и грешники – это зловоние для его носа, но того, кто вышел из Ура, он возлюбил и поставил меж ним и собою завет, что будет богом ему и его семени. И благословение бога перешло к Иакову, моему господину, заслуженно носящему, как известно, прекрасное имя – званье Израиля, а он великий и рассудительный вестник и вот уж не станет учить своих детей посылать звездам воздушные поцелуи, которые причитались бы единственно господу, если ошибочно предположить, что посылать ему воздушные поцелуи прилично, но поскольку такое предположенье нелепо, то можно сказать, что сравнительно все же приличней посылать их сияющим звездам. Но хотя это и можно сказать, я этого не скажу, и если я поднес пальцы ко рту для воздушного поцелуя кому бы то ни было, пусть не придется мне больше подносить их ко рту, чтобы есть, и пусть я умру голодной смертью. Но я и тогда откажусь есть и предпочту умереть голодной смертью, если папочка сейчас же не устроится поудобней и не сядет рядом с сыном на краю бездны. Тем более что господин мой все стоит и стоит на ногах, а ведь бедро у него поражено священной слабостью, и все прекрасно знают, сколь своеобразным способом он ее приобрел…
Он осмелился спуститься к Иакову и осторожно обнять его за плечи в уверенности, что обворожил и смягчил его своей болтовней; и старик, который, играя висевшей у него на груди каменной печаткой, все еще стоял и предавался раздумьям о боге, со вздохом уступил легкому этому нажиму, поставил ногу на круглую ступеньку и, опустившись на край колодца, обнял одной рукой посох, оправил одежду и теперь тоже повернул лицо к луне, которая ярко осветила нежную величавость старческих его черт и зажгла зеркальным блеском его озабоченно-умные каштановые глаза. У ног его сидел Иосиф – согласно картине, которую уже раньше облюбовал и предложил. И, чувствуя на волосах у себя руку Иакова, непроизвольно, по-видимому, опустившуюся, чтобы погладить их, он продолжал голосом более тихим:
– Вот теперь стало хорошо и приятно, я просидел бы так все три ночные стражи подряд, мне давно этого хотелось. Мой господин глядит вверх, в лицо луны, но и мне нисколько не хуже, потому что я с величайшим удовольствием гляжу в его собственное лицо, которое тоже кажется мне лицом бога и светится отраженным светом. Скажи, разве не показалось тебе ликом луны лицо моего косматого дяди Исава, когда он, по твоим словам, так неожиданно кротко и по-братски встретил тебя у брода? Но и это был только отсвет кротости на космато-багровом лице, отсвет твоего, дорогой господин мой, лица, которое на вид такое же, как лицо луны и пастуха Авеля, чья жертва была угодна господу, но не Каина и не Исава, чьи лица – как поле, выжженное солнцем, как земля, потрескавшаяся от засухи. Да, ты Авель, ты луна и пастух, и мы, члены твоей семьи, – мы все пастухи-овчары, а не люди возделывающего поля Солнца, как местные землепашцы, что, обливаясь потом, ходят за сохой и за волами сохи и молятся местным баалам. Нет, мы глядим вверх на Владыку Дороги, на странника, который сейчас поднимается, сияя, в белом наряде… Скажи мне, – продолжил он скороговоркой, почти не переводя дыхания, – разве наш отец Авирам не ушел огорченный из Ура Халдейского, разве не покинул он в гневе родную свою лунную твердыню, потому что законодатель мощно вознес главу своему богу Maрдуку – палящему Солнцу, и поставил его выше всех богов Синеара к огорчению людей Сина? И скажи мне, разве его люди, что там живут, не называют его также Симом, когда хотят по-настоящему возвысить его, – как звали того сына Ноя, чьи дети черны, но миловидны, как была миловидна Рахиль, и живут в Эламе, Ассуре, Арфаксаде, Луде и Едоме? Погоди-ка, послушай-ка, о чем подумало дитя! Разве не звали Сахарь, что значит «луна», жену Авраама? А теперь, погляди, какой я сделаю расчет. Семь раз по пятидесяти дней и еще четыре дня составляют кругооборот. В каждом, однако, месяце есть три дня, когда люди не видят луны. Осмелюсь попросить моего господина отнять от тех трехсот пятидесяти четырех дней эти трижды двенадцать. Получится триста восемнадцать ночей видимой луны. Но как раз триста восемнадцать рабов, рожденных в доме его, было у Авраама, когда он побил царей Востока и прогнал их за Дамаск, освободив брата своего Лота из плена эламитянина Ку-дур-Лаомера. Как же любил Авирам, отец наш, луну и как же он был ей предан, если отобрал рабов для сраженья точно по числу дней видимой луны. И предположим, что я послал ей воздушный поцелуй, и даже не один, а целых триста восемнадцать, хотя на самом деле я их вовсе не посылал, – скажи, неужели это была бы такая уж большая беда?
Испытание
– Ты умен, – сказал Иаков, снова и даже еще энергичнее, чем прежде, приведя в движенье лежавшую на голове Иосифа руку, которая во время этих расчетов остановилась, – ты умен, Иашуп, сын мой. Голова твоя внешне красива и прекрасна, как когда-то голова Мами (он употребил ласкательное, вавилонского происхождения имя, которым маленький Иосиф называл мать, фамильярно-обиходное имя Иштар), а внутри полна остроумья и благочестья. Такой же бойкой была и моя голова, когда мне было не больше годов, чем тебе, но сейчас она уже немного устала от историй, не только от новых, но и от старых, которые нам достались и требуют размышленья; устала она и от трудностей, от Авраамова наследства, которое заставляет меня задумываться, ибо понять господа нелегко. Если даже лицо его подобно лицу кротости, то все же оно подобно и палящему солнцу и жаркому пламени; он как-никак сжег Содом, и чтобы очиститься, человек должен пройти через господний огонь. Господь наш – это жадное пламя, что пожирает в праздник равноденствия тук первородных перед шатром, когда наступают сумерки и мы в страхе сидим в шатре и едим ягненка, окрасив его кровью столбы шатра, потому что мимо проходит ангел-губитель…
Он запнулся, и рука его отстранилась от волос Иосифа. Взглянув вверх, тот увидел, что старик закрыл лицо руками и весь дрожит.
– Что с моим господином? – воскликнул он пораженно и, резко повернувшись к старику, взметнул руки к его рукам, но дотронуться до них не осмелился. Ему пришлось после некоторого ожидания повторить свой вопрос. Иаков переменил позу не скоро. Когда он открыл лицо, оно было искажено скорбью, горестный его взгляд, скользя мимо мальчика, уходил в пустоту.
– Я подумал о боге с ужасом, – сказал он так, словно губы его отказывались шевелиться. – Мне почудилось, будто рука моя – это рука Авраама и лежит она на голове Ицхака. И будто доносится до меня голос его и его повеленье…
– Повеленье? – спросил Иосиф, вызывающе и по-птичьи отрывисто мотнув головой…
– Повеленье и указанье, ты это знаешь, ибо ты сведущ в историях, – отвечал срывающимся голосом Иаков, который сидел теперь, наклонившись вперед и припав лбом к державшей посох руке. – Я услыхал их, ибо разве Он слабее, чем бык Мелех, царь баалов, которому в беде приносят в жертву первенцев человеческих и отдают младенцев на тайном празднике? И разве не вправе Он требовать от своих почитателей того же, чего требует Мелех от тех, кто верит в него? Вот Он и потребовал этого, и я услыхал голос Его и сказал ему: «Вот я!» И мое сердце остановилось, мое дыхание замерло. И оседлал я осла рано утром и взял тебя с собой. Ибо ты был Исаак, поздний мой первенец, и господь учинил нам смех, когда объявил о тебе, и ты был для меня всем на свете, и все будущее было в тебе! И наколол я дров для всесожжения, и взвалил их на осла, и посадил сверху дитя, и вместе с работниками шел три дня из Беэршивы к Едому и к земле Муцри, и к горе этой земли – Хореву. И когда издали увидал я гору господню и вершину горы, я оставил осла с отроками, чтобы они нас ожидали, и возложил на тебя дрова для всесожжения и взял в руки огонь и нож, и дальше мы шли одни. И когда ты заговорил со мной: «Отец мой?» – я не сумел сказать тебе: «Вот я», – потому что горло мое неожиданно застонало. И когда ты сказал своим голосом: «Вот огонь и дрова; где же овца для всесожжения?» – я не сумел ответить тебе, как должен был, что господь усмотрит себе овцу, и мне сделалось так худо и так больно, что со слезами я чуть не изверг из себя душу, и я опять застонал, и тогда ты стал искоса глядеть на меня своими глазами. И когда мы пришли на место, я построил из камней жертвенник и разложил на нем дрова, и связал дитя веревкой, и положил его поверх дров. И взял нож и закрыл тебе левой рукою оба глаза. И когда я приставил нож и лезвие ножа к твоему горлу – вот тогда я ослушался господа, и рука моя опустилась, и нож выскользнул, и я пал на лицо свое и грыз зубами землю и траву земли, и колотил их ногами и кулаками, и кричал: «Заколи, заколи его ты, господь и губитель, ибо он для меня все на свете, и я не Авраам, и душа моя отказывается повиноваться тебе!» И когда я кричал и колотил землю, гром прокатился по небу от этого места и укатился вдаль. И был у меня сын, и не было больше господа, ибо я не нашел в себе силы выполнить его волю, да, да, не нашел, – простонал он, качая лбом, по-прежнему прижатым к руке, в которой был посох.
– Неужели в последнее мгновенье, – спросил, поднимая брови, Иосиф, – душа твоя дрогнула? Ведь в следующее мгновенье, – продолжал он, так как старик только молча немного повернул голову, – ведь в ближайшее же мгновенье раздался бы голос и воззвал бы к тебе: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего!», и ты бы увидел овна в чаще.
– Я этого не знал, – ответил старик, – ибо я был как Авраам, и эта история еще не произошла.
– Но разве ты сам не сказал, что воскликнул: «Я не Авраам»? – с улыбкой возразил Иосиф. – А раз ты им не был, значит, ты был Иаковом, моим папочкой, и эта история была стара, и тебе был известен ее исход. Ведь и мальчик же, которого ты связал и хотел заколоть, не был Ицхаком, – прибавил он опять с тем же изящным движением головы. – Таково уж преимущество позднего времени, что мы уже знаем круги, по которым движется мир, знаем обоснованные отцами истории, в которых он предстает. Ты мог вполне положиться на голос и на овна.
– Речь твоя хитроумна, но неверна, – отвечал старик, забывая за спором свою боль. – Во-первых, если я был Иаковом, а не Авраамом, то не было уверенности, что все пойдет так же, как тогда, и я не знал, не пожелает ли господь довершить то, что он некогда отложил. Во-вторых, посуди, чего стоила бы моя твердость перед господом, если бы источником ее был расчет на ангела и на овна, а не великая покорность, не вера, что бог может провести будущее через огонь целым и невредимым и взломать запоры смерти и что воскресение во власти бога? В-третьих, разве меня испытывал бог? Нет, он испытывал Авраама, и тот выдержал испытание. Меня же Авраамовым испытанием испытывал я сам, и душа моя не выдержала его, ибо любовь моя была сильнее, чем моя вера, и я не нашел в себе силы совершить это, – простонал он снова и снова склонил к посоху лоб; ибо, оправдав свой разум, он снова отдался чувству.
– Конечно, я говорил вздор, – смиренно отвечал Иосиф, – глупостью я, несомненно, превосхожу большинство овец, а уж верблюд, в сравнении с этим бестолковым юнцом – это просто сам Ной премудрый по рассудительности. Ответ мой на твое устыдившее меня замечание будет не умнее, но тупоголовое это дитя думает, что, испытывая себя самого, ты был не Авраамом и не Иаковом, а – страшно сказать – господом, который испытывал Иакова Авраамовым испытанием, и ты обладал мудростью господа и знал, какому испытанию намеревался он подвергнуть Иакова – тому, которое с Авраамом он не намерен был доводить до конца. Ведь он сказал ему: «Я царь баалов, бык Мелех. Принеси мне в жертву своего первенца!» Но когда Авраам приготовился принести его в жертву, господь сказал: «Посмей только! Разве я царь баалов, бык Мелех? Нет, я бог Авраамов, чье лицо не похоже на землю, потрескавшуюся от солнца, а похоже на лик луны, и то, что я приказал, я приказал не затем, чтобы ты это сделал, а затем, чтобы ты узнал, что не должен этого делать, ибо это просто мерзость перед лицом моим, и кстати вот тебе овен». Мой папочка, развлеченья ради, испытывал себя, хватит ли у него сил сделать то, что господь запретил Аврааму, и огорчается, выяснив, что на это у него никогда и ни при каких обстоятельствах сил не хватило бы.
– Как ангел, – сказал Иаков, выпрямляясь и растроганно качая головой. – Как ангел, витающий близ престола, говоришь ты, Иегосиф, божий мой мальчик! Хотел бы я, чтобы тебя послушала Мами: она хлопала бы в ладоши, а глаза ее, твои глаза, сияли бы от смеха. В словах твоих только половина правды, а на другую половину остается в силе то, что сказал я, ибо я оказался слаб в вере. Но свою долю правды ты приправил изяществом и умастил миррой остроумия, ты доставил удовольствие разуму и пролил бальзам на мое сердце. Как только умудряется дитя говорить так хитро, что речь его весело перехлестывает скалу правды и льется в сердце, заставляя его прыгать в груди от радости?







