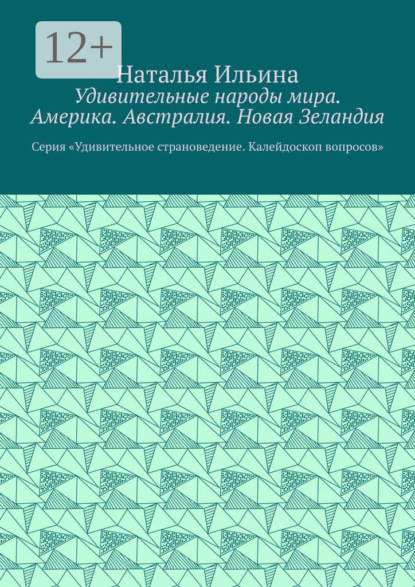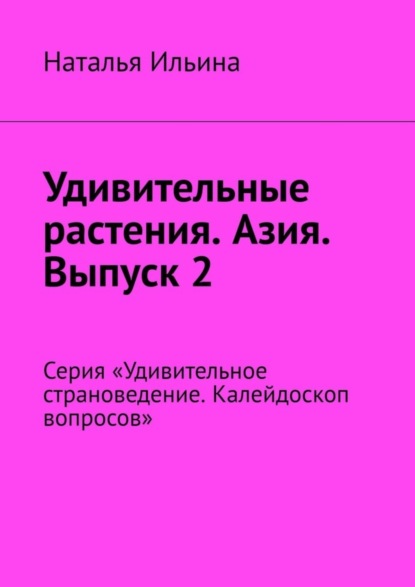The French Revolution: A History
 Полная версия
Полная версия
Лучшие рецензии на LiveLib
Когда-то в детстве я очень любила "Маленькую принцессу". Там юные леди в пансионе мисс Минчин учили историю по Карлейлю. Благодаря им я узнала о принцессе де Ламбаль раньше, чем о Дантоне. После того, как упоминание "Французской революции" Карлейля попалось мн… Далее
Любопытная книга. Можно сказать авторский взгляд на события Французской революции, о которых достаточно подробно рассказывается. В отличии от классических исторических трудов здесь нет ссылок на исторические документы, труды других историков и т.п., только рас… Далее
Со слезами на глазах расстаюсь с Карлейлем. Слезами не грусти и не радости - облегчения. Я его добила. И ведь не то чтобы он был плох, напротив, кое-где вообще так прекрасен. Я давно не видела англичан, пишущих с таким пылом, такой страстью, даже в художествен… Далее