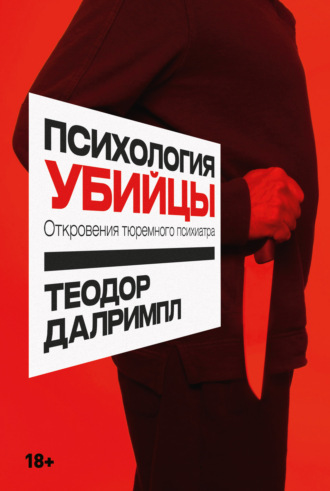
Теодор Далримпл
Психология убийцы. Откровения тюремного психиатра
4
Сотрудники тюрьмы
«Те, кто больше рискует получить выговор»
Самоубийство оставалось серьезной проблемой среди заключенных – да и (хотя это и гораздо меньше известно общественности) среди сотрудников тюрьмы, которых в попытке повысить их статус давно перестали именовать надзирателями. Помню свою первую встречу со старшим медицинским работником тюрьмы, где мне предстояло провести больше времени, чем многим грабителям. Перед этой встречей я посетил в камере одного из своих пациентов, когда-то лежавших в больнице по соседству; позже он попал в нашу тюрьму. Когда я вошел к СМР (как сокращенно его называли), тот сидел за столом, обхватив голову руками, перед ним лежал раскрытый том Шопенгауэра.
– Что случилось, доктор С.? – спросил я.
– У нас тут самоубийство, – ответил он. – Только что произошло. Уж не знаю, что хуже – сам суицид или бумаги, которые нам надо после этого заполнять.
Можно подумать, что Шопенгауэр помог этому тюремному работнику отточить чувство юмора[8]. Некоторые, стремясь поддержать для самих себя репутацию человека добродетельного, могут почувствовать себя шокированными или оскорбленными этим кажущимся бессердечием, забыв о том, что ирония – необходимое средство защиты от трагедии.
Собственно, я знал доктора С. по другой тюрьме, где я когда-то проработал несколько недель, подменяя друга, и где доктор тоже служил СМР – прежде чем его перевели в гораздо более крупную тюрьму. По опыту этих недель он помнил меня как работника сравнительно надежного и компетентного – вот и спросил, не желаю ли я поработать в этой большой тюрьме. Я сказал, что желаю. Так начались мои пятнадцать лет службы. В течение четырнадцати из них я находился на дежурстве одну ночную смену из каждых трех или четырех и одни выходные из каждых трех-четырех.
Я не понимал, что это был конец эпохи (да и кто вообще понимает такие вещи?), когда всякого можно было взять на работу столь неформальным образом. Такой метод, конечно, таил в себе массу возможностей для коррупции, кумовства и применения системы «услуга за услугу», но при этом он отличался немалой простотой и эффективностью. Он подразумевал доверие к мнению нанимателя – без посредства какого-либо дополнительного процесса (якобы совершенно справедливого), многие элементы которого отнимают массу времени и подразумевают сомнение в способности новичка выполнять свою работу. СМР знал меня, я показался ему достаточно хорошим работником – вот я и начал у него работать.
Мне нравился мой СМР, и я питал к нему искреннее уважение. Это был человек с независимыми суждениями, не боящийся следовать собственным путем. И он преподал мне очень ценный урок по поводу того, как обращаться с современным менеджментом.
Как-то раз он показал мне анкету, присланную ему из министерства внутренних дел: документ касался схемы обмена шприцев в тюрьме. Еще до этого мы с ним договорились между собой, что не станем организовывать такую схему в нашей тюрьме. В соответствии с ней наркоманы, делающие себе инъекции, могли обменять свои старые шприцы на новые, поскольку совместное использование игл – верное средство распространения вируса гепатита С (причины последующего развития цирроза и рака печени) и ВИЧ (причины СПИДа). Мы приняли решение не внедрять официальную политику отнюдь не бездумно. Хотя у нас имелись сотни заключенных, прежде делавших себе инъекции наркотиков, в нашей тюрьме никогда не было передозировки героина, и мы никогда не находили выброшенные иглы или шприцы, а ведь то и другое непременно случалось бы, если бы наши узники-наркоманы продолжали колоться и за решеткой. Таким образом, мы с СМР решили не применять то, что можно было бы назвать профилактическим умиротворением.
СМР поднял анкету министерства внутренних дел, держа ее между большим и указательным пальцами, словно какое-то ядовитое насекомое, норовящее вырваться на волю. Затем он разжал пальцы, и бумага упала в мусорную корзину, стоящую рядом с ним.
– Если я поставлю на этом документе хоть одну птичку и отправлю его обратно, мне после этого не дадут покоя, – объяснил он. – А вот если я просто выкину его, случится лишь одно: в течение полугода они мне пришлют другую бумагу.
Конечно, он был совершенно прав. Так продолжалось несколько лет: каждые шесть месяцев компьютер исправно создавал очередную анкету для заполнения.
Этот СМР не очень активно участвовал в собственно клинической работе. Среди врачей это сейчас довольно распространенное (и все более часто встречающееся) явление: достигнув определенного возраста и положения, они чувствуют, что повидали в своей жизни достаточно пациентов, и удаляются «на покой» – на административные должности. Тем не менее этот СМР присутствовал при моих обходах палат в больничном крыле. «Обходы» – название условное: мы сидели с ним рядом за столом, но все разговоры и осмотры проводил я. Пациентов (в основном амбулаторных) вводили по одному.
Поскольку эти обходы проводились после ланча, доктор С. часто ощущал сонливость и склонен был задремать прямо во время осмотра. Однажды он мирно почивал, когда к нам ввели пациента, мнившего себя Иисусом Христом. Религиозные бредовые идеи когда-то были распространены, но теперь из-за упадка религиозной веры бредовые идеи, как правило, связаны с другими объектами.
Молодой человек, считавший себя Христом, был довольно-таки возбудимым, и у него вызывало досаду, что ему никто не верит. Тюремное заключение казалось ему составной частью его мученичества.
– Как вам стало известно, что вы Христос? – спросил я.
– Отец мой, сущий на небеси, поведал мне, – ответствовал он на языке, который нечасто доводится услышать в стенах тюрьмы. Для убедительности от стукнул кулаком по столу. Доктор С. вздрогнул и проснулся.
– А ваша мать? – не отставал я.
– Да она у меня в Саут-Шилдсе живет.
Мне удалось сохранить серьезное выражение лица. И потом, в конце концов, отчего бы Богоматери не жить в Саут-Шилдсе? Господь вполне мог предпочесть этот город какому-нибудь колорадскому Аспену, обитатели которого меньше нуждаются в подобных событиях, – и тем самым проиллюстрировать давний тезис адептов теологии освобождения[9] о том, что «главный выбор принадлежит бедным».
Когда я начинал работать в тюрьме, ее сотрудники относились ко мне настороженно – как к своего рода чужаку, который только мешает. Они предполагали (пока не было доказано обратное), что всякий образованный человек встает на сторону заключенных, а не тюремной администрации, поскольку это ему, в сущности, положено по должности (ex officio): он чувствует необходимость нести с собой сострадание к бедным и угнетенным.
Я не принадлежал к числу таких светочей сострадания, но сознавал необходимость сохранять независимость суждений в каждом конкретном случае и не отождествлять себя полностью с «командой» администрации в таком всеобъемлющем и всепоглощающем учреждении, каким является тюрьма. Понятно, что заключенные лгали и жульничали, выпрашивали и улещивали, но это не означало, что им никогда не нужно утешение и что они никогда не могут заболеть опасным недугом.
Распространенное в обществе представление о служащих тюрьмы таково: это необразованные мужчины (и женщины), склонные к садизму, и они наслаждаются своей неограниченной властью над теми, кого им вверило на попечение государство. Бесполезно было бы отрицать, что такие тюремные служащие встречаются (мне несколько раз попадались те, кто вполне отвечает приведенному описанию) – и что имеющаяся у них возможность безнаказанно творить зло в таких учреждениях была необычайно велика.
Но большинство сотрудников тюрьмы все же были не такие. Разумеется, они, как правило, не были людьми высокообразованными. Но это не значит, что они были глупцами, как мог бы подумать некто гордящийся собственным образованием. Не стоит игнорировать то, что они демонстрировали практическое понимание своих подопечных и при этом были сообразительны, разумны и проницательны.
Среди тюремных служащих я видел куда больше проявлений доброты, чем проявлений садизма, и я обнаружил, что по отношению к своим подопечным они в целом наблюдательнее, чем средний медицинский персонал психиатрических отделений, поскольку их сознание не напичкано всякими негибкими теориями, искажающими восприятие.
Между тюремными служащими завязывалось товарищество, во многом коренившееся в их своеобразном положении – и облегчавшее его. В каком-то смысле они были такими же заключенными, как и сами узники. Как и узников, их могли, предупредив лишь за очень небольшое время (и не спрашивая их мнения), переправить из одной части страны в другую, однако на новом месте и условия, и общественная жизнь оказывались почти такими же, как на прежнем. Работа в «тотальных институтах» (термин американского социолога Ирвинга Гофмана), замкнутых мирках, таких как армия, школы-интернаты, тюрьмы, психиатрические лечебницы, имеет свои «компенсирующие» преимущества: особый esprit de corps[10], заранее подготовленная общественная жизнь, ощущение жизненного предназначения и даже превосходства по отношению к остальному миру, который ничего не знает о том, как живется в таких сообществах.
Сотрудники тюрьмы по-прежнему, как в былые времена, придерживались приятного (для меня) обыкновения всегда обращаться друг к другу «мистер Смит» или там «мистер Джонс» (во всяком случае в стенах тюрьмы), а не по имени, даже если они находились между собой в дружеских отношениях. А вот заключенных они звали просто по фамилии («Смит» или «Джонс»), пока высокие инстанции не распорядились, чтобы и при обращении к арестантам тоже прибавлялось уважительное «мистер». Я бы не заострял на этом внимание, если бы распоряжения по больнице, находящейся по соседству, не были прямо противоположными: к пациентам мистеру Смиту и мистеру Джонсу следовало обращаться по имени или даже применять уменьшительно-ласкательную его форму («Билл», «Джек» и т. п.) – якобы потому, что это звучит дружелюбнее. Получалось, что пациентов следует инфантилизировать, а вот к заключенным надлежит обращаться с особой уважительностью. Просто какая-то антиутопическая инверсия преступления и болезни – в точности как в романе «Едгин» Сэмюэла Батлера[11].
Юмор тюремных служащих явно можно было бы отнести к категории «юмор висельника». В эпоху применения смертной казни это выражение имело не только метафорический смысл. (Рассказывают – вероятно, это выдуманная история, не могло же такое случиться на самом деле, – как один узник по пути в так называемый палаческий сарай заметил в разговоре с сопровождавшими его тюремщиками, что погода выдалась не очень-то хорошая. «Тебе-то ладно, – ответил один из них, – тебе хоть назад не возвращаться».)
Как-то раз к нам прибыл заключенный с большим количеством пирсинга. Татуировки и другие формы декоративного самоуродования статистика связывает главным образом с преступным миром. Так было с давних пор: Ломброзо отмечал это еще столетие с четвертью назад. Свыше 90 % белых британских заключенных имеют татуировку (более распространенной среди них является лишь одна особенность – курение), хотя за пятнадцать лет моей работы в тюрьме природа этих татуировок изменилась.
Поначалу татуировки были в основном любительские – одноцветные, выполненные тушью. Их делал либо сам заключенный, либо кто-нибудь из его дружков, нередко в самой тюрьме (где это, впрочем, считалось правонарушением), причем такой «художник», как правило, не обладал профессиональными навыками татуировщика. Татуировки зачастую состояли из нескольких слов – к примеру, «Сделано в Англии» вокруг соска на груди, LOVE и HATE («ЛЮБОВЬ» и «НЕНАВИСТЬ» – или «ЛЮБЛЮ» и «НЕНАВИЖУ») на фалангах пальцев каждой руки, с тыльной стороны (кроме больших пальцев). Любимой аббревиатурой была ACAB, что расшифровывалось как «All Coppers Are Bastards» («Все копы – сволочи»); правда, если носитель этой надписи попадал в участок, там он уверял, что это означает просто «Always Carry A Blade» («Всегда носи с собой нож»). Иногда мне случалось увидеть на предплечье примитивное изображение полисмена, висящего на фонаре, что вряд ли помогало обладателю картинки при аресте. На фалангах пальцев также часто писали LTFC и ESUK, и, если сдвинуть пальцы, получалось lets fuck (давай потрахаемся)[12]. Это показывали женщинам в каком-нибудь пабе. Я спрашивал их носителей, сработал ли хоть раз этот метод обольщения. Они отвечали, что иногда работает, и, когда это случается, выходит, что все эти татуировочные усилия были не напрасны.
Еще одним излюбленным вариантом таких самодельных татуировок была пунктирная линия вокруг шеи или запястья, с надписью «РАЗРЕЗАТЬ ЗДЕСЬ», в более изощренных версиях – с изображением ножниц. Узники любили также надпись «НЕ БОЮСЬ» большими синими буквами сбоку на шее: зачастую ее носили на себе маленькие или тщедушные люди, которые мало что значили в социальном мирке, где в основе иерархии лежит насилие. Увы, эти слова часто воспринимались как вызов, а не как предупреждение, и на их носителей иногда нападали исключительно по этой причине. Один из моих пациентов получил трещину в черепе в качестве отдаленного последствия своей татуировки.
В последнее время обычай обзаводиться татуировкой стал модным далеко не только в тюрьме, взлетая по социальной лестнице стремительнее любого карьериста. Заключенные, следуя за модой (если считать, что это не они сами ее породили), перешли от простеньких наколок, сделанных тушью, к сложнейшему многоцветью боди-арта, создаваемого профессиональными мастерами. Как ни странно, «дизайн» при этом, как правило, очень напоминает картинки, которые рисуют (карандашом, пером, кистью…) заключенные, когда они начинают осваивать в тюрьме изобразительное искусство. Похоже, эстетика криминального китча все больше проникает в самые разные слои общества.
Этот новый боди-арт кое-что говорит нам об эмоциональной жизни узников. К примеру, на предплечье может значиться имя подружки, обычно в сочетании с листьями и сердцем, пронзенным стрелой, что означает вечную преданность ей. Увы, эта вечная преданность часто оказывается совсем не вечной, и ее сменяет чувство более долговременное – ненависть. В таком случае имя бывшей возлюбленной включают в состав другой татуировки (что делает его почти неразличимым), а иногда просто изничтожают, перечеркивая крест-накрест. Что касается выполнения отцовского долга, то его демонстрация доходит до всех мыслимых пределов: на тело наносятся имена детей узника (обычно чуть ниже плеча, на внешней стороне руки). Более смуглые заключенные тоже все чаще обзаводились татуировками, подражая своим белым собратьям, хотя вообще-то темная кожа не очень подходит для татуирования. Вот вам отличный пример интеграции или взаимного влияния культур.
Но вернемся к нашему арестанту с большим количеством пирсинга. Министерство внутренних дел постановило, что каждый заключенный имеет право лишь на один пирсинг, не больше. Оно не указывало, в какой части тела должен находиться пирсинг, оставляя это на усмотрение самого узника. «Моя бы воля, – заметил один сотрудник тюрьмы, увидев прибывшего обладателя множества пирсингов, – я бы их всех за серьги подвешивал». Вообще, тюремные служащие часто высказывали мнения, которые ужаснули бы тех, кто полагает, будто все всегда надо понимать строго буквально: таких людей в наше время все больше. Другой сотрудник тюрьмы, которому вот-вот предстояло уйти на пенсию, заявил мне, что их, заключенных, надо бы три раза в день до отвала кормить «ничем».
Несмотря на все эти презрительные замечания насчет своих подопечных, большинство сотрудников тюрьмы ревностно исполняли свой долг и даже были готовы рисковать собственной жизнью ради спасения жизни арестантов. В тюрьме выстроили новое больничное крыло, потратив на это колоссальные средства, однако архитектор (типичный современный представитель этой профессии), в отличие от своих викторианских предшественников, не учел проблему вентиляции в случае пожара. Вскоре после открытия нового крыла один легковозбудимый узник поджег матрас в своей камере. Похоже, долгие годы научных изысканий пошли на то, чтобы опровергнуть давнюю поговорку «Нет дыма без огня» и в конце концов разработать матрас, который после поджигания стал бы испускать плотные клубы черного дыма без всякого пламени. Именно с помощью дымовой завесы такого типа линкоры когда-то скрывались от преследователей.
Едкий черный дым начал просачиваться из-под запертой двери камеры несчастного. Увидев это, один из тюремных служащих помчался открывать. Наружу вырвалось черное облако, и служащий вбежал в камеру, чтобы вытащить заключенного в безопасное место. Вероятно, тем самым он спас ему жизнь.
Я прибыл на место происшествия практически сразу же после этого. Узник страдал от последствий вдыхания дыма, его спаситель – тоже (пусть и в меньшей степени). Пока они ждали скорую, которая должна была отвезти их в больницу, я похвалил служащего тюрьмы за его героизм и заметил, что он, видимо, удостоится официальной благодарности коменданта. Будучи по натуре человеком тихим и сдержанным, он лишь лукаво улыбнулся.
Дня через два он вернулся на службу. Я поинтересовался, объявил ли ему благодарность комендант.
– Наоборот, я выговор схлопотал, – ответил он.
– Что? – Я искренне поразился. – Но вы же спасли человека!
– Ну да, – согласился он, – но я не следовал процедуре.
По-видимому, «установленная процедура» (невыполнение которой оказалось достойно выговора) состояла в том, чтобы вызвать пожарную команду и дожидаться ее прибытия. Может быть, в результате заключенный лишился бы жизни, зато по крайней мере установленная процедура была бы соблюдена. Вот вам современная администрация, практикующая если не во всем, то во многом принцип reductio ad absurdum[13]: она так страшится оставить в руках работников хоть какую-то инициативу (поскольку иначе они могут совершить ошибку или действовать по собственному разумению), что предпочитает, чтобы ее правилам и предписаниям следовали в точности, пусть даже это порой и приводит к самым ужасным результатам.
Служащий законно получил выговор, и в его досье поставили «черную метку» (за неподчинение распоряжениям начальства), и все это – за то, что он, спасая жизнь заключенного, действовал неправильно, то есть подвергая риску себя самого. Но я неплохо знал этого парня: если бы он снова попал в такую ситуацию, он бы поступил точно так же. Несколько лет спустя, после того как я уже перестал выполнять работу для тюремной администрации, но еще занимался медицинской юриспруденцией, меня попросили расследовать одно самоповешение, которое произошло в тюрьме. В ответ на вопрос, почему он не побежал в камеру, чтобы поскорее обрезать веревку, служащий ответил: «За то, что я спас человеку жизнь, меня могли выгнать с работы».
Из-за архитектурных особенностей нового крыла дым в камере окончательно рассеялся лишь через несколько дней. Казалось, ее специально спроектировали для удушения заключенных дымом – как если бы следовало не избегать этого, а всячески этому способствовать. В викторианской части тюрьмы этот дым развеялся бы мгновенно.
Сотрудникам тюрьмы часто приходилось сталкиваться с такими вещами, с которыми мало кому из нас когда-нибудь приходится столкнуться (не говоря уж о том, чтобы смириться с этим). Да, некоторые арестанты приветствуют тюремных служащих словно закадычных друзей после долгой разлуки, в который раз возвращаясь в «Большой дом». Но другие проявляли по отношению к ним какую-то непримиримую враждебность и ужасно их оскорбляли. И служащие редко отвечали тем же. Я несколько раз наблюдал, как сотрудникам тюрьмы плюют прямо в лицо, но в ответ они не предпринимали никаких насильственных действий. В подавляющем большинстве случаев они проявляли завидное самообладание, которое мало кому из нас приходится демонстрировать (во всяком случае мало кому из нас приходится делать это неоднократно и, более того, почти ежедневно).
Один сотрудник тюрьмы, ушедший на пенсию после многих лет службы, обнаружил, что соскучился по своей работе, – и вернулся на условиях неполной занятости. Вскоре после этого члены двух соперничающих банд наркодилеров затеяли драку во дворе. (Они назвали эту стычку «войной»: личностям такого типа часто свойственна мания величия.) Сотрудники тюрьмы, в том числе и наш пенсионер, ринулись их разнимать. В неразберихе общей схватки ему наносили удары руками и ногами, в результате чего он получил немало синяков. Пару дней он не выходил на работу, но потом вернулся. Его отношение к службе было совсем не таким, как у тех, кто пытается использовать самые мелкие медицинские отговорки, чтобы отвертеться от работы. Я признался ему, что очень удивлен его скорым возвращением. Его ответ сохранился у меня в памяти как пример современного стоицизма: «За тридцать лет я получал на службе травмы всего три раза, – сообщил он мне. – Не так уж плохо, как по-вашему, доктор?»
Конечно же, я не хочу представлять тюремных служащих какими-то лубочными святыми, да и сами они не желали бы быть изображенными столь нелепым образом. Зачастую это были сильно пьющие ребята, не претендовавшие на какую-то особую утонченность. И потом, как я отмечал выше, если кто-то из них и оказывался человеком скверным, то он был уж очень скверным.
Сотрудников тюрьмы (даже таких) было непросто выгнать по двум причинам. Во-первых, когда они вели себя дурно, они делали это тайком. По современному трудовому законодательству сложно уволить работника лишь на основании подозрений, какими бы сильными те ни были: необходимо иметь доказательство нарушений. Во-вторых, защита своих очень важна для тюремных служащих. По крайней мере так явствует из моего опыта.
Так, среди сотрудников нашей тюрьмы был один любитель издеваться над слабыми, который (как мы сильно подозревали) портил оборудование, предназначенное для срочной реанимации на месте. Всякий раз, когда осматривались или использовались эти приборы, выяснялось, что не хватает какой-то маленькой, но важной детали, хотя мы знали, что после обнаружения предыдущей недостачи нужный компонент добыли и поставили. Иными словами, какой-то сотрудник тюрьмы (мы подозревали, что это каждый раз один и тот же) нарочно извлекал деталь – вероятно, чтобы помешать попыткам реанимации, которые будут предприниматься в будущем. Вряд ли надо подчеркивать явно преступный умысел такого поступка. (Через несколько лет, готовя отчет по поводу одной смерти, случившейся в тюрьме, я обнаружил схожее явление, имевшее место в пенитенциарном заведении, которое находилось в двух сотнях миль от упомянутого. Причем это не мог быть один и тот же человек: к тому времени первый ушел на пенсию.)
Второй сотрудник тюрьмы, о котором я хочу рассказать, был еще хуже первого (если допустить, что оборудование портил один и тот же служащий). Он прошел курсы медбратьев, поэтому его направили на работу в больничное крыло. Эта двойная подготовка (как тюремного служащего и как медбрата) дала ему дополнительные возможности для проявлений садизма.
Как-то раз я посещал в камере одного из заключенных, а этот служащий меня сопровождал. Едва мы вошли, арестант упал на пол, и у него начался эпилептический припадок.
– Нечего тут выделываться перед доктором, – сурово бросил медбрат человеку, дергающемуся на полу в бессознательном состоянии.
– Между прочим, офицер, у него настоящий эпилептический припадок, – сообщил я ему.
Некоторое время спустя еще один узник получил серьезный химический ожог глаза и в результате ослеп на один глаз. Нашего служащего-медбрата заподозрили в том, что именно он причинил эту травму с помощью какого-то ядовитого вещества. Но жертва отказывалась свидетельствовать против него, боясь возмездия. Мне кажется, этот страх не имел под собой оснований (в подобных случаях медбрата не стали бы защищать даже его собратья – тюремные служащие), но я вполне понимал, чем он вызван.
Позже этого служащего уволили за какое-то неоднократное и довольно мелкое административное нарушение: в этом случае собрать доказательства легче, чем в случае серьезного проступка. Таким образом, хотя официально заявленная цель трудового законодательства – идеальная справедливость, в действительности имеет место нечто совсем другое. То же самое касается бесчисленного множества бюрократических установлений, направленных на то или иное «улучшение» или «усовершенствование».


