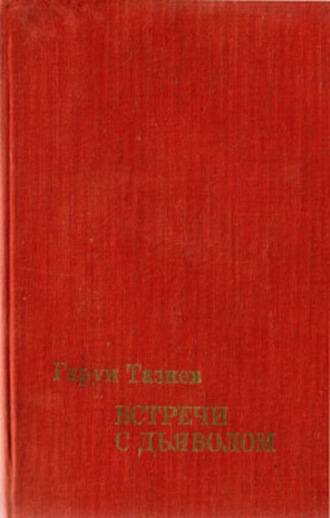
Гарун Тазиев
Кратеры в огне
Ночь наступила слишком быстро
Ришар отбыл на свою плантацию в Кению, а я вернулся к своему Китуро. Вулкан все больше и больше успокаивался; уже вернулись слоны, а также пигмеи – единственные люди, живущие в этих лесах. Однажды, когда мы заблудились, один из них помог нам выбраться из непроходимой чащи.
Чтобы запастись необходимыми продуктами, они поступают следующим образом: вечером, в сумерки, пробираются до какой-нибудь деревни банту и вешают на дерево большие куски мяса, а через 24 часа возвращаются на то же место за оставленными для них в обмен солью, маниоковой мукой, бананами, фасолью...
Я с грустью заметил, что у провожавшего нас пигмея пальцы на ногах были сплошь изъедены проникающими под ногти паразитами. Он ушел, как только вывел на дорогу меня и моего спутника Уальда.
Мугуболи, к которому мы подошли около четырех часов, был на пути к полному затуханию. Мы быстро его осмотрели и готовы были идти назад, но нас задержала прекрасная антилопа понго (высотой до загривка больше метра), застрявшая в одной из трещин лавового потока. Пришлось перерезать бедному животному сонную артерию, чтобы избавить его от долгой мучительной агонии.
Оставалось только два часа дневного света, а нам еще нужно было пройти 3 километра по очень трудным лавам 1938 года, чтобы выбраться на дорогу в Саке.
Торопились изо всех сил, но поверхность была очень плоха, а мне к тому же сильно мешала боль в ушибленном накануне колене. Через 30 минут я предложил Уальду не задерживаться из-за меня и идти вперед одному.
– Ни за что на свете!
– Да почему? Ведь вы еще до ночи будете в деревне и пришлете за мной людей с факелами!
Мне удалось его уговорить, и он ушел; хромая, я медленно плелся за Уальдом, но вскоре потерял его из виду. Двое африканцев, шедшие за мной, нагруженные антилопой весом не меньше 80 килограммов, сильно отстали. «Зачем терять столько хорошего мяса?» – рассудили они.
Я шел все с большим и большим трудом. Моя левая нога – это целый хирургический музей: сломана два раза, колено вывихнуто, со ступни слезла кожа, когда я ее как-то (по ошибке) опустил в кипящий источник в Катанге, и, наконец, неосторожный выстрел раздробил ее на двадцать частей.
В сумерках бои меня нагнали, спрятав пока антилопу в какой-то щели, и мы продолжали путь; к этому времени стало уже совсем темно. Я уверен, что это была самая темная ночь изо всех ночей года. Небо заволокло тяжелыми, очень низкими тучами, иногда начинал накрапывать мелкий неприятный дождь. Как нарочно было новолуние, и в довершение всего даже красное пламя вулканов нас обманывало.
Ньирагонго в 25 километрах закутался в облака, а в двух лье отражение на небе затухавшего красного жерла Китуро маскировалось низко висевшими клубами пара. Мугуболи казался совсем погасшим. Далеко впереди был огонь лесного пожара, но он только слепил. Видимость равнялась нулю, и продвигаться вперед можно было, буквально на каждом шагу ощупывая землю. Трещины и обычные препятствия, встречающиеся на лавовом потоке, которые легко обойти или перепрыгнуть, когда хоть немного видно, в темноте превращаются в опасные западни.
Как только я нащупывал углубление, мы садились на край и, крепко держась на месте, ногами исследовали пустоту; в такие минуты я походил на робкую купальщицу (остались еще такие!), пробующую ногой холодную воду реки. Африканцы, хотя и одаренные от природы острым зрением, видели не больше меня. Каждый шаг, каждый поворот, каждый спуск и каждый подъем делались на ощупь.
Через полчаса мы останавливались на несколько минут в надежде, что, свернувшись в клубок или лежа на спине, удастся заснуть хоть на несколько минут. Но тут нас немедленно выслеживали комары. Этим проклятым насекомым не нужно света! Я затыкал уши, чтобы по крайней мере не слушать их писка, и даже пытался приносить их в жертву своей досаде, но, пребольно шлепнув себя раз пять-шесть, отказался от мечты об отдыхе и возобновлял жалкое подобие ходьбы.
– Люди не придут со светом?
Что я мог ответить милому Пайе? Я сам их с нетерпением ждал.
– Может быть, они боятся слонов,– предположил Пайя.
Время от времени мы громко кричали, но ответа не слышали. Я беспокоился: что случилось с моим товарищем, который мне признался в своей полной неспособности ориентироваться в темноте?
Для того чтобы на четвереньках и разными другими способами «пройти» полтора километра, отделявшие от дороги, нам понадобилось 10 часов! Только в четыре утра мы вышли на дорогу.
Несколькими минутами позже мы уже были в деревне и ввалились в хижину. Но от усталости не могли сомкнуть глаз. Хижина была чистая, со стенками и крышей из толстых камышей. За бамбуковой перегородкой иногда возились и блеяли овцы. Нечто вроде шезлонга из дерева и коровьей шкуры, предоставленные мне, три низкие табуретки, на которых сидели хозяин и мои бои, десяток глиняных горшков, кружек и мисок составляли всю меблировку «комнаты». Между нами на земле робкий огонек облизывал три положенные звездой ветки, а дым выходил сквозь отверстие в центре соломенной крыши. Тишина была полная, только африканцы изредка перебрасывались короткими фразами.
Мы вышли незадолго до рассвета и сейчас же встретили носильщиков, отправленных мною в Саке.
– Где мистер Уальд?
– Не знаем.
Меня охватило ужасное беспокойство. До этого я считал, что мой спутник, придя раньше в деревню, по какой-то причине (например, из-за отсутствия факелов) не мог, как было условлено, прислать мне подмогу. Но теперь оказалось, что он вовсе не приходил в деревню. Между тем в момент, когда совсем стемнело, он должен был находиться всего в нескольких сотнях метров от дороги.
Если Уальд только сломал себе ногу в трещине, беда была не так велика, но ведь он вполне мог свалиться с одного из тысяч обрывов и разбиться насмерть. Что делать? Только одно – рассыпаться, как стрелки, по фронту в два километра, обследовать местность и уповать на лучшее.
Мы вышли из деревни. Но не успели приступить к поискам, как показалась высокая фигура Уальда. Не помню, когда я еще чувствовал такое облегчение.
Бедняга! Застигнутый ночью меньше чем в 200 метрах от цели и совершенно слепой в темноте, он забился в какую-то трещину и просидел в ней всю ночь.
Это было мудрое решение, при всей некомфортабельности убежища. Одетый только в тонкий резиновый плащ поверх трусов и бумазейной блузы, он целую ночь дрожал под моросящим дождем и задувавшим сквозь щели ветром.
– Ах, несчастный, долгой же вам показалась ночь в одиночестве!
– Ничуть! Комары не оставляли меня ни на минуту.
– Неужели вы не слышали? Мы вам кричали до хрипоты.
– Представьте, и я также. Кричал регулярно каждые пять минут.
– Но ведь мы прошли не дальше чем в двухстах метрах от вашей ямы. И не бегом!
По-видимому, виной было акустическое явление, связанное с особенностью ямы, куда спрятался Уальд.
В этой связи мне вспомнилось приключение альпиниста Ги Лябура, упавшего в трещину на леднике Нантильон; его крики не были слышны спасательной партии, между тем как он ясно слышал приближавшиеся и удалявшиеся голоса. Лябура нашли через 11 часов, к счастью, живым.
Лавовое озеро
Я вернулся к Китуро. Однажды около пяти часов утра меня разбудил какой-то странный шум. Он был похож на громкий топот бегущего по саванне большого стада антилоп. Сидя на походной кровати и наполовину проснувшись, я пытался разгадать, что это был за звук. Сначала мне казалось, что он больше напоминает гудение лесного пожара, но на бледном перед зарей небе не было видно отражения пламени, помимо обычной красноты, отмечавшей место кратера Китуро.
Наконец я решил, что это был вой сильного ветра, дувшего со стороны Китуро. К тому времени почти рассвело, и я с интересом, хотя и не без тревоги, смотрел на волновавшуюся листву деревьев, отделявших лагерь от активной зоны.
Меня на миг осенила мысль, что это пробежало стадо слонов, но минуты шли, а ни малейшего треска ломающихся деревьев не было слышно. Кроме того, звук доносился все время из одного и того же места, тогда как слоны всегда бегут с огромной скоростью. Повернув голову, я увидел, что Пайя и Каньепала, присев на корточки у входа в шалаш, не отрываясь смотрели в сторону, откуда доносился шум.
– Как ты думаешь, Пайя, что это?
Вместо ответа Пайя прищурил глаза и пожал плечами, разведя в стороны руки с повернутыми кверху ладонями,– жест, выражающий абсолютное «не знаю».
Вне всякого сомнения, звук был связан с каким-то вулканическим явлением. Но с каким именно? Не лучше ли свернуть лагерь и перейти в другое место? Я подумал о возможности нового пароксизма или образования новой трещины, сопровождаемого местным сейсмическим колебанием.
Может быть... Но для того чтобы убедиться, нужно было пойти посмотреть в чем дело.
В две минуты одевшись, схватив на лету сумку и фотоаппарат, я пустился по тропинке; за мной Пайя нес кинокамеру и приборы. Высокие травы, отягченные росой, низко склонялись над узкой тропой. Упругие липкие нити паутины приставали к голым ногам, и стоило только отстранить защищавшую лицо руку, как все лицо оказывалось облепленным паутиной.
По мере того как мы приближались, шум усиливался. Теперь его можно было принять за шипение пара, выпускаемого под давлением гигантским паровозом. Тропинка вывела нас из леса к краю лавовых потоков. Мы прошли около 100 метров, шум стал оглушительным. Скоро мы обнаружили его источник: между подножием Китуро и двумя высокими стенами скоплений лавового материала на север протягивался ряд маленьких конусов высотой от 5 до 10 футов, на языке вулканологов называемых паразитными конусами разбрызгивания. Газы, вырывавшиеся со свистом из их раскаленных отверстий, с силой выталкивали комки вязкой лавы, взлетавшие над каждым конусом на несколько метров.
Погрузившись в лабиринт затвердевших лав, мы осторожно стали приближаться к этим новым маленьким вулканическим аппаратам. Не было ли их появление предвестником усиления деятельности?
Восемь маленьких конусов стояли на открытой трещине шириной не меньше шага, прорезавшей гладкий покров лавового потока, расстилавшегося к северу от подножия Китуро. Два из них казались уже погасшими, остальные яростно пыхтели. Тем не менее подойти к ним было нетрудно и неопасно, потому что выбрасываемые комки лавы вылетали не так часто и при некоторой осмотрительности их попадания можно было избежать. Самый активный конус имел высоту 2,5 метра. Из его вершины вырывались горящие газы с температурой пламени около 960°. Маленький карманный спектроскоп открыл присутствие в нем натрия, может быть, и азота. Новая трещина пропускала газы только в нескольких строго ограниченных местах, а в промежутке между ними можно было, наклонившись, заглянуть в черную щель, но попытка разглядеть что-нибудь оказалась тщетной.
Когда я обошел ближайший к Китуро конус, то внезапно обнаружил довольно странное явление – нечто вроде огромной кастрюли, в которой клокотала жидкая лава. Она уже начинала покрываться серой эластичной «кожей», напоминавшей слоновую. Под напором пузырьков газа, выделявшихся из магмы, поверхность лавы вздувалась, становилась волнистой, поднималась кверху и, отвечая движению находившейся внизу лавы, вновь опадала с характерным хлюпающим звуком. Каждую минуту, уступая напору газа, «кожа» в нескольких местах трескалась, и из трещинок вырывались и рассыпались гроздьями мелкие жидкие «угольки».
Чтобы лучше рассмотреть лавовое озеро, я стал искать более высокое место. Обойдя озеро с запада, я взобрался на большую груду камней, окруженную облаком сернистого дыма, которое пассатный ветер гнал в мою сторону. Опять я попал в конфликт между чувством упоения и необходимостью действовать.
Я боялся что-нибудь упустить, боялся, что у меня не хватит времени насладиться сполна этим удивительным зрелищем; мне также нетерпелось приступить к измерениям и наблюдениям, запечатлеть виденное на фото и на рисунке.
Боже, как это было похоже на горнило гигантской доменной печи! Только здесь мы были не на заводе, а проникли в тайну планеты. То, что там кипело, было гораздо значительней, чем металл, расплавленный по воле человека в искусственном котле. Это было вещество самой Земли, грозно плескавшееся на поверхности колодца, глубина которого (я это всем своим существом чувствовал) превосходила все человеческие масштабы – была бездонной.
В уме легко представляешь себе глубины в 10—100 и даже 1000 километров. Мы, не смущаясь, трактуем о том, что происходит на глубине 2900 километров. Но когда вдруг оказываешься в непосредственной физической близости к подобного рода бездне, то умозрительная самоуверенность разлетается в прах. Здесь мы в руках природы во всем ее могуществе и во всей ее слепоте. Меня начал охватывать пронизывающий, как будто проникающий под кожу необоримый страх: не страх солдата, уткнувшегося носом в окоп, когда вокруг дождем падают снаряды; не страх человека, притаившегося за стеной в томительном ожидании, когда прекратится падение бомб и рокот бесконечных воздушных эскадр, и не трепет альпиниста, попавшего на готовый обвалиться склон и на каждом шагу, затаив дыхание, бросающего наверх полный страха взгляд; нет, гораздо менее осознанным был охвативший меня ужас у края маленького лавового озера, менее осознанным, но, может быть, гораздо более сильным.
Стоя на краю огромного кратера в разгар извержения, я не имел времени для подобных размышлений, так как надо было быть очень внимательным, а сила явления заставляла действовать, не теряя времени. Между тем спокойный облик этого слегка волновавшегося огненного озера хотя и говорил о колоссальной мощи, но говорил как-то неясно, обиняком...
Я был совершенно околдован и с трудом оторвался от охватившего меня экстаза, чтобы заснять озеро. Стоявший рядом Пайя, видимо, тоже был пленен этим зрелищем. Тот, кто знает способность африканцев ничему не удивляться, поймет, что для такого впечатления нужно было почти чудо!
Мой симпатичный, верный Пайя, до знакомства со мной не знавший ничего, кроме своего края на берегах Луалабы, в течение одного года познакомился с огнем земных недр и снегами горных вершин. Для понятия снега на его языке не существует даже слова, и он называл снег то солью, то мукой. Он нам помог сложить снежную избушку на высоте 500 метров под экватором. Он жег себе подошвы вблизи вулканических кратеров; он посетил озера, покрытые сотнями тысяч розовых фламинго, и доисторические стоянки, где человек с начала плейстоцена высекал орудия труда и оружие из черных обсидиановых лав. Он видел поднимавшиеся в воздух и приземлявшиеся самолеты и не слишком удивлялся, он даже мне сказал: «Белые для того их и сделали».
В течение трех лет совместной жизни я только один раз видел его ошеломленным, когда мы с ним впервые попали в Найроби – прелестную столицу Кении. Это было в час возобновления деловой жизни города после завтрака; улицы были переполнены машинами, чего вы никогда не увидите в более мелких провинциальных городах Кении. Вот эти-то нескончаемые вереницы автомобилей и поразили Пайю! Он подпрыгивал на месте, вертелся во все стороны и, не переставая, повторял: «О, бвана! Мусулула йя мотокара, мусулула йя мотокара!» (вереница автомобилей...).
Явно менее пораженный видом маленького лавового озера, чем непрерывными рядами автомобилей в Найроби, он все же с интересом и, мне кажется, с ужасом смотрел на него.
Тем временем я снимал, глубоко сожалея, что у меня была только черно-белая пленка, как вдруг увидел, что «слоновая кожа» вздулась целиком, осталась некоторое время в таком вспученном состоянии, возвышаясь на несколько десятков сантиметров над краями «кастрюли», а затем внезапно хлынула, разлившись двумя потоками, понесшимися со скоростью 20 километров в час,– один справа, а другой слева от меня.
Это было так красиво, что в первые секунды мне даже не было страшно; казалось, ничем не рискуя, можно было оставаться на месте.
Сначала потоки были шириной только в несколько футов; растекаясь, они достигли ширины один 6, а другой – 30 метров. Более узкий поток отрезал меня от Пайи, второй стал протягиваться на запад.– Спасайся, бвана, спасайся! – надрывался Пайя.
Но явление нужно было заснять, пользуясь тем, что в кинокамере еще оставалась пленка. Я стоял на 2—3 фута выше уровня поверхности новых потоков, грозивших, однако, сомкнуться за моей спиной, как клещи. Но для этого, как мне казалось, нужен был гораздо более сильный поток лавы. Если же это произойдет, я успею взобраться на старую стену агломерата, возвышавшуюся в тридцати шагах позади. На этом надежном убежище можно будет переждать, пока на новых потоках не образуется корка, достаточно прочная, чтобы выдержать мой вес. Запас пленки кончался, скорее еще два кадра... затем «налево кругом», и я пустился бегом к стене. Обеспокоенный Пайя бежал по другую сторону потока параллельно со мной... Лава миновала стену и разлилась за ней, но скорость ее движения стала меньше скорости идущего ровным шагом человека, и, чем шире разливалась лава, тем она двигалась медленнее. К счастью!
Взобравшись на свой насест, я успокоился: к северу вторая такая же стена агломерата, также очень древнего возраста, обеспечит мне отступление. Лава, казавшаяся жидкой, как вода, когда озеро вышло из берегов, теперь превратилась в очень густую массу и двигалась со скоростью не больше 10 километров в час. У меня, не было времени измерить температуру лавы в первый момент; тогда ее почти желтый цвет свидетельствовал о температуре, близкой к 1100°, теперь же она текла светлого вишнево-красного цвета с температурой, наверное, 1030°. При соприкосновении с воздухом быстро образовалась пленка, сначала лишь затуманившая, а затем совсем скрывшая светящуюся красноту расплавленного теста. На расстоянии 30 метров эластичный поверхностный слой уже превратился в совершенно непрозрачную жесткую кору, под которой продолжала течь теплая лава, просачиваясь сквозь трещины и охватывая фронтальные и боковые края потока ярко-красными вздутиями; они медленно разливались и затем в свою очередь покрывались жесткой коркой. Этот процесс позволял новым потокам лавы расходиться все дальше и шире в стороны.
Я обошел с севера фронт восточного потока и присоединился к Пайе. Во мне поднялась теплая волна благодарности при виде беспокойства за мою судьбу, написанном на его добром лице, таком черном под козырьком белой кепки, которой он очень гордился. С каждым новым приключением этот слуга (первоначально) все больше и больше становился другом.
***
Со следующего утра конусы стали успокаиваться. Длинное, как из паяльной трубки, пламя уступило место выделявшимся из отверстий неторопливым голубоватым фумаролам. Излияние лавы совершенно прекратилось, но только на время. Несколькими часами позже деятельность возобновилась.
Сначала мне не удавалось уловить ритм этих чередований, но через несколько дней установилась поразительная регулярность и держалась такой в течение 40 часов: за пароксизмом, длящимся около двух минут, следовал 27-минутный период покоя. Мне кажется, что такую строгую ритмичность можно отнести только за счет механизма, аналогичного механизму, управляющему деятельностью гейзеров[12].
Новым, значительно замедлившимся потокам потребовалось несколько недель, чтобы залить окрестность, и у меня было достаточно времени, чтобы с ними ознакомиться.
При условии, что ветер дует сзади, можно приблизиться к лавовому потоку на расстояние одного шага. Конечно, и здесь жар велик, но все-таки его можно вытерпеть. Однажды мы с Пайей воспользовались лавой, чтобы испечь на тарелке яйца. В другой раз, пробегая вдоль «моих» потоков (я в конце концов стал считать вулкан и все его проявления своей собственностью), я оказался свидетелем очень красивого зрелища.
Лава двигалась, как всегда просачиваясь из-под вновь образовавшегося панциря, все время стремившегося ее укрыть; но здесь фронт потока достиг скалистого обрыва высотой 5—6 метров, и расплавленная масса, незаметно подобравшись к его краю, рухнула вниз, в пустоту, странно замедленным огненным каскадом. Она даже не падала, а спускалась сплошной вязкой пеленой. Этот вертикальный спуск, хотя и медленный, был все же слишком быстр для образования коры, и только в самом низу тонкая пленка тушила яркий багрянец этого удивительного «огнепада».
Два других потока такой же ширины, как первый (2—3 метра), подошли к тому же краю обрыва и спустились рядом двумя новыми каскадами. Поверхностная завеса вследствие охлаждения книзу утолщалась, превращаясь в серую, все еще пластическую толстую оболочку. Увлекаемая вниз находившейся под ней массой, она сморщивалась в поперечные валы, на последнем пределе пластичности утолщавшиеся, скручивавшиеся и превращавшиеся в серовато-черные с синевой толстейшие канаты. Я присутствовал при образовании на моих глазах знаменитых волнистых лав laves cordee, ropy lavos или пахой хой гавайских вулканов и хеллухраун Исландии. Но иногда волнистая кора трескалась, и из трещин текла раскаленная лава. Стена из трех каскадов пламенела красивым ярким пурпуром. В восьми шагах я с трудом мог выносить излучение текущего вещества с температурой 1000°. Пришлось отступить назад один раз, затем второй, потому что потоки, встретив горизонтальную поверхность, вдруг стали протягивать ко мне свои страшные щупальца. С верха обрыва вязкая лава с тихим шипением все падала и падала.
Мне стало понятно происхождение легенд о драконе, встречающихся в мифологии у разных народов в разных концах земли. Древние греки видели вязкие лавы Этны, Стромболи и Санторина. Гидра с ее непрерывно отрастающими семью головами – разве это не воплощение багрового потока с его черной застывшей корой? Он кажется то совсем остановившимся, то опять начинает вытягивать пылающие головы и здесь, и тут, и еще там, невзирая ни на какие преграды.
Японцам, китайцам и другим народам Дальнего Востока были знакомы эти стоголовые чудища. Даже скандинавы видели, как они поднимают головы среди мрака полярной ночи.
Однажды утром я оказался лицом к лицу с одним из таких bestes feu jetent (зверем, изрыгагощим пламя). Его огнедышащая пасть раскрывалась прямо передо мной. Ярко-красная глотка медленно задыхалась, я видел трепещуще-струящиеся оболочки, в то время как ее сернистое дыхание выделяло фиолетовые клубы дыма. За огненными губами торчали острые подвижные клыки. Иногда ярость чудовища умерялась, оно как будто переводило дух; жар спадал, распухший язык вяло опускался, острые, нацеленные на жертву клыки прятались. Но тотчас отвратительные челюсти, злобно оскалившись, раздвигались вновь.
Это было только зияющее отверстие небольшого паразитного конуса, а я только геолог, наблюдавший вулкан в век атомной энергии. У сверхъестественного чудовища не было никаких шансов заставить меня потерять голову. Но каковы были бы мои мысли, каков ужас, какой бесконечный мертвящий страх пробудила бы в моей душе подобного рода встреча, будь я пастухом или моряком Кампании или Сицилии, а встреча произошла бы 300 лет назад на склонах одного из средиземноморских вулканов!
Как же мне в моем рассказе не вспомнить о драконе?!





