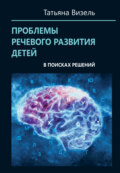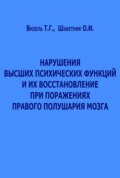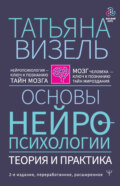Татьяна Визель
Приобретение и распад речи
Глава 2
Особенности распада речи у взрослых с афазией
Становление взглядов на основное нарушение речи у взрослых, а именно афазию, имеет длительную и насыщенную научными фактами историю. Она подробно изложена в труде Генри Хэда «Афазия и родственные нарушения». Поскольку эти взгляды охватывают не только проблему афазии, но и важнейшие положения, связанные со спецификой речи и ее обеспечения мозгом, они значимы не только для понимания потери речи у взрослых, но и для ее приобретения детьми.
В главе, выразительно озаглавленной «От схоластов до Галля», Г. Хэд пишет, что развитие наших представлений в области локализации функций в головном мозге составляет одну из самых удивительных глав в истории медицины в целом. Учение Аристотеля о зависимости человеческого разума от чувств и образов высветило связь разума и тела. Основоположник научной анатомии Андреас Везалий (Andreas Vesalius) был убежден, что «мозг создает духов животных из крови и воздуха, которые поступают через решетчатую пластину и другие отверстия черепа». Нервы для мозга, считал этот анатом, имеют то же значение, что и большая артерия для сердца. До конца восемнадцатого века мозг рассматривался как единственный источник жизненной энергии, поступающей во все части тела.
Первым, кто высказал убеждение, что внешне однородная масса мозга состоит из разных органов, которые обеспечивают жизненные, интеллектуальные и моральные способности человека, был французский невролог рубежа XVIII–XIX вв. Франц Галль (Franz Gall). Ироничное отношение к этому гиганту неврологии, которое имело место при его жизни, как показало время, оказалось неоправданным. Учение Ф. Галля о френологии, которое признавало зависимость духовных способностей человека от формы его черепа, придавало имени ученого огромный вес. «Этому человеку, – пишет Г. Хэд, – мы обязаны идеями о составных частях нервной системы, их функциях и взаимоотношениях друг с другом». По существу, Ф. Галлю принадлежит честь авторства идеи о функциональной специализации различных зон мозга. Значение этой идеи преувеличить трудно. Благодаря Ф. Галлю все более распространялись представления о том, что мозг не «действует как единое целое», а состоит из отдельных центров.
Ф. Галлю принадлежит множество научных работ, в том числе четыре тома «Анатомии и физиологии нервной системы», сопровождаемые великолепным атласом из ста листов. Череп Ф. Галля, согласно его желанию, был добавлен в его собственную коллекцию черепов, которая впоследствии стала храниться в Музее Ботанического сада во Франции.
Среди горячих поклонников Ф. Галля был невролог Жан Батист Буйо (Jean-Baptiste Bouillaud). В 1825 году он опубликовал статью под названием «Специальное клиническое исследование, демонстрирующее, что потеря речи соответствует поражению передних долей мозга, что подтверждает мнение Ф. Галля о месте локализации основного органа речи».
На основе имеющихся у пациента симптомов, утверждал Ж. Буйо, врач должен обнаружить локализацию болезни, поскольку ее симптомы различаются в зависимости от места поражения. Ж. Буйо устанавливает четкую разницу между высшими или произвольными действиями и низшими или автоматическими. Он утверждает: «Мозг как орган интеллекта и центр воли – это нервная сила, от которой зависят интеллектуальные действия, следовательно, поражение этого органа их нарушает, оставляя нетронутыми действия другого порядка». Эти принципы Ж. Буйо применил и по отношению к расстройствам речи. Он пишет: «Является очевидным, что для движений органов речи должен быть особый центр в головном мозге, потому что у людей, у которых нет иных признаков паралича, речь может быть полностью потеряна, в то время как другие пациенты с параличом конечностей, напротив, могут свободно использовать речь». В другом исследовании Ж. Буйо замечает: «Важно различать две причины, за которыми может последовать потеря речи; одна – это разрушение области запоминания слов, другая – неполноценность нервного принципа, который управляет движениями речи». Ж. Буйо подчеркивал также, что овладеть речью можно только с самого раннего детства и только посредством научения, потому что действия, необходимые для речи, принадлежат интеллектуальной жизни, в то время как просто движения речевых органов являются преимущественно инстинктивными.
Марк Дакс (Marc Dax,) из Сомьера высказал важное предположение, что потеря речи зависит от поражения левого полушария, но этот факт оставался полностью неизвестным в Париже до 1865 года. Он стал догмой только после открытия П. Брока. О данном открытии, пишет Г. Хэд, принято говорить, как о раскате грома среди ясного неба, но на самом деле это было не так, поскольку оно было подготовлено исследованиями других ученых.
Пациентом П. Брока был каменщик Леборн. Он потерял способность говорить и в 1840 году был госпитализирован в больницу Бисетра. Как установил П. Брока, пациент полностью потерял, артикулированный язык, но при этом мало отличался от нормального человека. Пациент был известен под именем месье Тан-Тан. Так звучал обрывок речи, который он был способен воспроизводить. По аналогии с эмболом в кровеносной системе этот обрывок речи был назван речевым эмболом. Пациент понимал все, что ему говорили, но, какой бы вопрос ему ни задавали, он всегда отвечал: «Тан, тан». Это «высказывание» он сопровождал самыми разнообразными жестами. Когда его не понимали, пациент сердился. Правая рука пациента была полностью парализованной. Правая нога была также ослабленной. Лицо было симметричным, но во время выполнения задания провисала левая щека. Язык двигался во всех направлениях и не отклонялся в сторону. Голос был естественным, мышцы гортани не пострадали. Слух, как сообщал П. Брока, сохранил остроту: месье Тан-Тан прекрасно слышал звук часов. Состояние его интеллекта определить было трудно. Тан-Тан понимал большую часть из того, что ему говорили, но не мог выражать свои идеи или желания. Считал он лучше, чем говорил, и показывал результат на пальцах.
П. Брока утверждал, что считать потерю речи у Леборна обусловленной параличом языка было бы ошибкой.
После смерти пациента через двадцать четыре часа было произведено вскрытие. Брока, по утверждению Г. Хэда, был превосходным анатомом, а потому произведенное им вскрытие мозга пациента можно было считать высоко достоверным. Оказалось, что внутренняя поверхность свода черепа выглядела так, будто была изъедена червями. Были повреждения оболочек мозга. На латеральной поверхности левого полушария, на уровне Сильвиевой щели, мягкая мозговая оболочка была поднята скоплением прозрачной серозной жидкости, находящейся в углублении вещества мозга. В целом была разрушена значительная часть левого полушария, но размягчение выходило далеко за пределы полости, и повреждение не могло быть сравнено с кистой, а представляло собой размягчение вещества мозга. Сделанные наблюдения по поводу размера очага поражения П. Брока резюмирует следующим образом: «Малая нижняя краевая извилина (первая височная); небольшие участки Сильвиевой извилины и островковой доли вместе с прилегающими частями полосатого тела; наконец, в лобной доле нижняя часть поперечной извилины (восходящая лобная) и задняя половина из двух больших извилин, обозначаемых как вторая и третья лобные. Из четырех извилин, образующих лобную долю, первая и самая внутренняя сохранила целостность; остальные извилины были размягчены и атрофированы».
Результаты вскрытия мозга Леборна были продемонстрированы на заседании Общества антропологии, и то расстройство речи, которое было у пациента, он назвал «афемией», четко обозначив, что он понимал под этим термином. При этом П. Брока подчеркнул, что «способность к артикулированному языку полностью отличается от общей способности языка», благодаря которой устанавливается постоянная связь между идеей и знаком, будь то звук, жест, фигура или очертание; если эта способность разрушена, пользование всем языком становится невозможным. Церебральное поражение может привести к неспособности артикулировать, даже если слуховой аппарат в норме и все мышцы, за исключением тех, которые отвечают за голос, губы и язык, действуют нормально. Никогда еще, – констатирует Г. Хэд, – два аспекта вопроса не были сформулированы так четко, как в этом сообщении П. Брока, достойном самого внимательного изучения. Демонстрация случая пациента Леборна была подтверждена результатами изучения П. Брока другого пациента по фамилии Лелонг.
Впоследствии были собраны другие случаи в пользу доктрины П. Брока, однако были и такие, которые свидетельствовали против локализации центра речи в третьей лобной извилине. Обнаружились случаи, когда третья лобная извилина оставалась материально не пострадавшей, а поражение занимало область задней части Сильвиевой борозды. Эти данные заставили П. Брока усомниться в том, всегда ли решающим в открытой им афемии оказывается поражение третьей лобной извилины. В результате П. Брока пришел к необходимости различения форм, которые «могут принимать речевые дефекты». При этом он имел в виду те нарушения, которые происходят из-за грубых интеллектуальных изменений, а также те, которые вызваны нарушением функций органов артикуляции. И хотя П. Брока не приходит к окончательному решению по этому поводу, он предупреждает о необходимости делать выводы только по отдельным случаям. По настоянию невролога Армана Труссо (Armand Trousseau), считавшего термин афемия неблагозвучным и означающим по-гречески нечестивый или позорный, П. Брока меняет этот термин на термин афазия. Г. Хэд не поддерживает это изменение, но следует ему, называя свой труд «Афазия и родственные нарушения».
В исследованиях того времени появляются утверждения, чрезвычайно актуальные и в наши дни. Еще более важно отметить, что, несмотря на их злободневность, они не получили окончательного и определенного разрешения. Имеются в виду представления о том, что речь состоит из физиологического и интеллектуального аспектов. Первый – это язык в форме мимики, письма и артикулированной речи; второй – это особая функция, связанная с употреблением слов.
Следующим ученым, внесшим существенный вклад в науку об афазии, был немецкий невролог Карл Вернике. Как известно, этот невролог является первооткрывателем:
а) сенсорного центра речи в мозге, добавленного к моторному центру речи Брока;
б) сенсорной афазии.
Свое открытие К. Вернике, так же как и П. Брока, сделал на основании клинических наблюдений и секционного посмертного изучения мозга двенадцати пациентов. В отличие от пациентов П. Брока, пациенты К. Вернике плохо понимали обращенную к ним речь, при этом у них присутствовала собственная речь, правда беспорядочная и путанная. Она отличалась многоречием (логореей), в ней присутствовало множество литеральных и вербальных парафазий, мысль, подлежащая оречевлению, казалась путанной, не передающей существа замысла. Локализацией очага поражения в мозге оказалась височная доля левого полушария.
Г. Хэд уделяет меньшее внимание открытию К. Вернике, чем открытию П. Брока, поскольку его не устраивает концептуальная позиция данного ученого. В частности, Г. Хэд не согласен с тем, что К. Вернике при описании своих пациентов не делает различия между нарушениями у них восприятия речи и пониманием речи, которые Г. Хэд вслед за выдающимся классическим неврологом 19 века Хьюлингсом Джексоном (Hughlings Jackson) считал принципиальными. Несмотря на эту критику со стороны Г. Хэда, нельзя не признать важность вклада К. Вернике в учение о патологии речи, тем более что в соавторстве с Людвигом Лихтгеймом (Ludwig Lichtheim) им создана первая неврологическая классификация афазий, о которой далее пойдет речь.
В конце XIX – начале XX веков интерес к последствиям церебральных поражений, обусловливающих расстройства речи, пробужденный П. Брока, К. Вернике и другими, быстро распространялся. В 1864 году Х. Джексон прочитал свою знаменитую клиническую лекцию «Потеря речи и т. д.», основанную на глубоком изучении клинических фактов. Но даже среди молодых людей, как с сожалением замечает Г. Хэд, его афористические изречения не были услышаны. Только поле того, как Арнольд Пик (Arnold Pick) посвятил Х. Джексону, «глубочайшему мыслителю невропатологии прошлого века», свой труд «Аграмматическая речь», стали осознавать его вклад в проблему. «Обычно истине требуется двадцать пять лет, чтобы стать известной в медицине» – это изречение, принадлежащее Х. Джексону и основанное на его личном опыте, являлось не только следствием мудрости этого ученого, но и его безграничной скромности. Если бы правилам, сформулированным Х. Джексоном, – пишет Г. Хэд, – следовали другие неврологи, это спасло бы их от «многих лет скитаний по пустыне». К сожалению, это замечание Г. Хэда до сих пор остается крайне актуальным.
Поистине революционным является положение Х. Джексона о том, что «деструктивные поражения мозга никогда не вызывают положительных эффектов, но обусловливают появление отрицательного состояния, которое позволяет проявиться положительным симптомам». Это мудрое изречение подлинного мыслителя стало аксиомным и прошло ту проверку временем, о необходимости которой говорил он сам. Теперь никто не оспаривает утверждение Х. Джексона, согласно которому непосредственный эффект поражения может не совпадать с функциональной ролью пострадавшей зоны. «Ошибочно рассматривать повторяющиеся высказывания безречевых людей, то есть неправильные слова, произносимые ими, и т. д. как прямое следствие поражения мозга. Эти положительные психические симптомы возникают в качестве компенсации, благодаря активности нервных структур, избежавших травм». Никакой очаг в мозге не может обусловить имеющиеся у пациента дефектные высказывания. Очаг может только разрушить речевую способность, привести к ее отсутствию, но все, что выступает, пусть и в виде ошибок в употреблении звуков, слов, предложений, – это результат активизации тех структур мозга, которые остались неповрежденными. Результат поражения – ведет только к «минус-симптоматике», считал Х. Джексон, а все, что пациент использует, пусть даже в самом несовершенном виде, это свидетельство появления процессов восстановления. Действительно, это так логично и понятно: то, что обусловлено непосредственно разрушением мозговой ткани, образно говоря, «пустота», тьма погашенных светил, а то, что появляется в качестве любых фрагментов функции, логично считать результатом явления новых сил.
Х. Джексон открыл глаза научному миру на принципиально важный аспект проблемы патологии речи, а именно на двойственность речевой функции. Конкретно он имеет в виду то, что наряду с артикуляторным речь включает интеллектуальный и эмоциональный аспекты. Последние Х. Джексон считает особыми свойствами ума, которые страдают именно при афазии, но при этом допускает, что некоторые другие аспекты мышления могут при этом недуге остаться ненарушенными. Это утверждение он основывает на том, что отдельные знаковые действия у пациентов с афазией страдают незначительно, а иногда кажется, что они вообще «ускользают от болезни». Идея о двойственности нарушений речи была развита Х. Джексоном для разделения их на относящиеся к высшему и низшему уровням. Эмоции проникают в речь в междометной манере, и поэтому их следует считать низшей речью. Эмоция как бы присваивает и подчиняет себе интеллектуальное высказывание. Речь пациента становится жаргонной или содержащей такие фразы как «О мой бог!», другие восклицания и ругань. Более того, она имеет тенденцию к персевераторности, к превращению в «шарманную речь». С позиции сегодняшнего дня нельзя не восхититься предположением Х. Джексона, что эти непроизвольные, эмоциональные фрагменты остаточной речи афазиков могут быть результатом включения в компенсацию правого полушария мозга, которое в то время считалось строго неречевым. К настоящему времени подтверждено, что правому полушарию принадлежит немалая роль в осуществлении речи, и, прежде всего, ее просодической и эмоциональной сторон (темп, ритм, интонирование).
Центральное место в учении Х. Джексона составляет его обращение к проблеме мозговой локализации речевой функции. Позиция Х. Джексона по этому поводу отличалась несовпадением с господствовавшими в то время убеждениями. Хотя он и соглашался, что чаще всего при нарушениях речи повреждается задняя часть левой лобной извилины, он не локализовал речь ни в ней, ни в какой-либо другой ограниченной части мозга. Удивительно, еще и еще раз подчеркивает Г. Хэд, что научный мир, увлеченный центрами и схемами, так и не прислушался к этим мудрым словам Х. Джексона.
В своем обращении к проблемам речи и мышления Х. Джексон наиболее далек от идей современных ему неврологов и замечательно предвосхищает нынешние взгляды, относящиеся к теориям языка и речи. «Конечно, – отмечает он, – мы говорим и думаем не только словами или знаками, но словами или знаками, относящимися друг к другу определенным образом. Действительно, слова в предложениях теряют свое индивидуальное значение, если так можно сказать; отдельные слова имеют любое значение, и все предложение становится единицей речи, а не кучей слов». По Х. Джексону, простая последовательность слов ничего не говорит нам, хотя каждое из них значимо; понимание предложения – это вскрытие отношений между субъектом и сказуемым.
Семантическую суть предложения Х. Джексон обозначал термином пропозиция и считал владение ею необходимым условием способности к осмысленной речи.
Любое предложение, по Х. Джексону, – результат пропозициональных процессов. При этом, например, такие тексты, как клятвы, Х. Джексон не отождествлял с пропозициональными предложениями, «поскольку они не имеют ни в сознании произносящего, ни в сознании человека, которому они произносятся, никакого смысла; их можно назвать „мертвыми предложениями“».
За много лет до открытия термина «агнозия» Х. Джексон четко описал это явление, обозначив термином «невосприятие», и проиллюстрировал его клиническими примерами. Восприятие неречевых образов безречевым пациентом, считал Х. Джексон, может оставаться неизменным, во всяком случае, в отношении простых изображений. Пациент может указать на любой объект, который он знал до своей болезни. Точно так же он узнает изображения всех предметов, которые знал до болезни. Он продолжает играть в карты или домино; он распознает почерк, хотя не может читать написанные слова; он отличает поэзию от прозы по разным концам строк в правой части страницы. Все это призвано показать, что неспособность читать происходит не из-за потери восприятия или непризнания букв как конкретных знаков или рисунков, а из-за потери речи. Написанные или напечатанные слова превращаются в символы «ничего» и становятся просто рисунками.
В настоящее время многие идеи Х. Джексона наконец подняты на щит, и избранные работы, подобранные и прокомментированные отечественным неврологом Е. Н. Винарской, изданы на русском языке в 1996 году.
Признание идей Х. Джексона великими не только вызывает чувство глубокого удовлетворения, но и служит подтверждением объективных закономерностей в эволюционном становлении культуры в целом и науки в частности.
Благодаря таким основным чертам личности Х. Джексона, как мощный ум, позволивший сделать великие научные открытия, прозорливый глаз, беспрецедентные добросовестность, щепетильность и скромность, перед нами вырастает фигура грандиозного масштаба, которая не была оценена как таковая современниками, но которая становится все величественней по прошествии многих лет.
Австрийский анатом Ричард Хешль (Richard Heschl) указал на то, что в височной доле мозга существуют две дуги, одна из которых отвечает за общий, то есть физический, слух, другая – за слуховое восприятие. При этом он подчеркнул, что эти дуги анатомически и функционально автономны. К этому следует прибавить, что данное воззрение Р. Хешля, отражающее столь дифференцированный подход к работе структур мозга, далеко не всеми отечественными и зарубежными афазиологами было подхвачено, развито и продолжено. До сих пор остается недостаточно внедренным в практику вопрос о взаимоотношениях между физическим слухом и слуховым восприятием, а также последствиями их нарушений. О значимости вклада Р. Хешля в науку говорит то, что его именем названа одна из извилин мозга.
Наиболее радикальные взгляды на природу афазии принадлежали современнику Г. Хэда, французскому неврологу Пьеру Мари (Pierre Marie). Согласно П. Мари, существует одна истинная афазия – сенсорная. Эту точку зрения П. Мари основывал на том, что именно сенсорная афазия представляет собой общее «символическое», то есть интеллектуальное, языковое расстройство и не обусловлена неполноценностью слухового восприятия (гнозиса). Г. Хэд пишет: «Никто до конца не понял, насколько позиция П. Мари совпадает с концепцией Х. Джексона». Этот факт не оценен по достоинству и в наше время.
По мнению К. Вернике, последствия выпадения части тоншкалы при сенсорной афазии проявляются в превращении речевых звуков в нечленораздельные шумы, подобные шуму листвы или шорохам, и в результате этого пациенты не понимают речь. Следовательно, К. Вернике допускал, что симптомы слуховой агнозии могут служить причиной нарушения понимания речи. Однако П. Мари упорно утверждал, что это не так. Он настаивал на том, что неполноценность визуального или слухового аспекта восприятия слов не приводит к афазии, при которой пациент наряду с нарушениями понимания слов и устной речи демонстрирует большую или меньшую неспособность читать, писать, решать арифметические задачи и выполнять другие действия. Г. Хэд назвал П. Мари иконоборцем, подчеркнув тем самым непоколебимость его убеждений и горячность, с которой он их отстаивал. Наиболее острой и, соответственно, вызывающей бурю дискуссий, была та часть воззрений П. Мари, согласно которой существует только одна афазия – сенсорная, а та, которая считается моторной, представляет собой сочетание сенсорной афазии и анартрии. Последнюю П. Мари отождествлял с любыми произносительными нарушениями, включая артикуляционную апраксию. Для исследователей того времени, констатирует Г. Хэд, «не было ничего более шокирующего, чем утверждение П. Мари, что третья лобная извилина не играет никакой роли в возникновении афазии» и что моторной афазии не существует. Это неизменно увеличивало число нападок на него, и в результате «он пал жертвой своего стремления к теоретической ясности». Не умалчивает Г. Хэд и о том, что П. Мари был подвергнут блестящей, по его выражению, атаке Жюля Дежерина (Jules Dejerine), который дал убедительное обоснование анатомии «четырехугольной» области мозга. Он показал, что любое поражение верхней, передней и наружной частей мозга должно затрагивать волокна третьей лобной извилины. Это было серьезным обоснованием того, что моторная афазия неизбежно возникает в результате разрушения волокон, исходящих из передней части языковой зоны мозга. Тем не менее П. Мари доказывал, что «разрушение лентикулярной зоны, то есть, условно говоря, передней части „речевого четырехугольника“, вызывает чистую анартрию». В отличие от этого, задняя часть этого четырехугольника является «языковой областью». Ее поражение или поражение волокон, которые ее снабжают, вызывает настоящую афазию, то есть интеллектуальное изменение. Следуя этим доводам, П. Мари исключил из афазии все примеры чистой анартрии, истинной вербальной апраксии и других случаев нарушения артикуляции. Критика Пьером Мари господствующих в то время представлений, пишет Г. Хэд, «прошла, как борона над заросшим сорняками полем». Она подрывала основные классические концепции того времени. Обстановка накалялась: точка зрения П. Мари об интеллектуальном характере сенсорно-афазических дефектов удовлетворяла исследователей так же мало, как и положение К. Вернике о выпадении при них речевой части тоншкалы.
Внимание, которое Г. Хэд уделяет анализу дискуссии, ведущейся П. Мари с его оппонентами, неслучайно, поскольку у самого Г. Хэда в это время активно созревала сходная с точкой зрения П. Мари идея о том, что афазия – всегда «результат нарушения символической формулировки и выражения», то есть уровня языка. Она и легла в основу его учения об афазии и создания первой лингвистической классификации афазий. При этом важно отметить, что Г. Хэд разделял позицию Х. Джексона и П. Мари относительно того, что существуют принципиальные различия между «невосприятием» речи (агнозией) и афазией или амнезией. Он полагал, что любое чувственное расстройство элементарнее, чем символическое. «Абсурдно говорить о пациенте с афазией, – писал Г. Хэд, – что он „не слышит слов“ или „слеп на слова“, поскольку его способность понимать речь не зависит от способа, в котором она воспринимается. Случаи „сенсорной“ афазии нельзя, следовательно, классифицировать как „глухоту к словам“ или как „слепоту к словам“», – резюмирует он. Стало очевидным, подчеркивает Г. Хэд, что гипотеза о том, что «нормальное использование языка основывается на слуховых и визуальных образах слов, не подтверждается опытом и не может объяснить феномен так называемых сенсорных расстройств речи».
В более позднее время учение об афазии было развито разными исследователями. Среди них наиболее распространенной является концепция афазий отечественного ученого А. Р. Лурия и представителей его школы. В нашей стране учение А. Р. Лурия занимает господствующее положение, и выделенные этим автором формы афазии принято оценивать как типичные. Вместе с тем имеются исследования, в которых содержатся взгляды на проблемы афазии, выходящие за рамки положений об афазии А. Р. Лурия или противоречащие им. К ним относится, в частности: работа Е. Н. Винарской «Клинические проблемы афазии» (1971), в которой описаны пациенты с грубой артикуляционной апраксией, но без типичных симптомов афазии, то есть без первичных расстройств понимания речи, чтения и письма; взгляды Е. П. Кок (1967), считавшей правомерным выделение в качестве отдельной амнестической афазии, не включенной А. Р. Лурией в его классификацию афазий. К ним же относятся данные докторской диссертации автора настоящей публикации об афазиях, названных атипичными. Причиной такого обозначения явилось то, что патогенез и клиническая картина таких афазий оказались не совпадающими с формами афазии, описанными А. Р. Лурией. Осмысление патогенеза выявленных несовпадений вылилось в потребность уточнения природы афазии в сравнении с той, которая постулируются в учении об афазии А. Р. Лурия.
Выводы
• История учения об афазии поражает обилием важнейших научных открытий и осмыслений клинических событий.
• Не все основополагающие положения, относящиеся к сути речевых расстройств, сформулированные классическими неврологами, изучавшими афазию, подхвачены и соответственно развиты современными исследователями в той мере, которая позволила бы разрешить дискуссионные вопросы в области патологии речи.
• Основным дискуссионным положением в рамках учения об афазии являются различия в понимании природы этого нарушения.
• Имеется необходимость в уточнении природы афазии, чему посвящена следующая глава, в которой сопоставляются особенности типичных афазий, описанных А. Р. Лурией, и атипичных афазий, выявленных автором настоящей публикации.