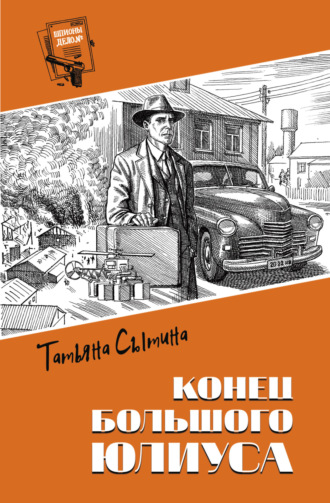
Татьяна Сытина
Конец Большого Юлиуса
– Вернулись? – спросил он, глядя на серое лицо Соловьева. – Садитесь, младший лейтенант.
Миша сел.
– Устали?
– Ничего, товарищ полковник… – вяло ответил Миша.
– Идите спать. Завтра вечером отправитесь в командировку.
Миша думал о том, что сейчас должны привезти от тетки доченьку – так звали в семье Окуневых младшую девочку. Как-то встретит ее Антонина Михайловна? Он вспомнил еще, что купил масло и забыл предупредить бабушку Окуневу, что оно за дверями на полочке…
– Полетите на самолете. В Одессу. Вы меня слушаете, младший лейтенант?
– Да, товарищ полковник! – вяло подтвердил Миша. – На самолете в Одессу…
– Надо закончить дело… – просто сказал полковник. – За эти три дня вы, наверное, поняли, что такое горе, что значит терять близких. Враг всегда приносит горе в наш дом, Соловьев!
– Я вспомнил то, что вы велели, товарищ полковник, – все так же вяло сказал Миша. – Насчет моей промашки. Когда мы пошли за Окуневым, еще одна машина проскочила вместе с нами светофор. И ведь, главное, шофер сказал, а я не обратил внимания. Это, конечно, был он. Кто ж решится в самом центре на желтый свет идти?
Смирнов долго молчал. Потом кивнул.
– Интересно, – заметил он. – Значит, у него есть машина. Шофер для пассажира на такое нарушение вряд ли пойдет.
– Куда ж он потом делся, товарищ полковник? Не для того, чтоб оправдаться, а ради существа дела – не было его на территории объекта, товарищ полковник! Что хотите со мной делайте, не было!
– Вернее всего, случилось так! – прервал Мишу полковник. – На стадионе он обнаружил Окунева, вышел, выследил и отправился по его следу. Это старая уловка тигров – ходить по следу охотника. Вот так! Установив, что Окунев обратился к нам, он принял решение расправиться с Борисом Владимировичем, ведь Окунев знал его в лицо. И вот тут вы, по-видимому, правы, Соловьев, – наблюдения он не держал. Он просто заметил адрес, уехал и вернулся утром к тому времени, когда служащие идут на работу. Нагло, но разумно! Вы с ним разошлись в минутах! Но сегодня об этом не думайте. Надо исправлять нашу общую ошибку. Вы полетите в Одессу. Там живет некая Мария Николаевна Дорохова-Ворошина. Учительница, преподает историю в школе. Теперь слушайте внимательно. В августе 1945 года в Германии, в городе Мюнстенберге, на нее напал человек. Ваша задача – выяснить все, что знает о нем Мария Николаевна. И чтоб ни одна душа не подозревала о цели вашего приезда в Одессу. Вы получите документы учителя, историка. Начнете с посещения городского отдела народного образования. Там узнаете адрес Марии Николаевны. Для всех, кроме нее самой, вы знакомитесь с диссертационной работой Марии Николаевны.
– Понятно, товарищ полковник!
– Сказать мало, надо действительно понять. Вот вы сейчас думаете, а почему бы не запросить Одессу по телеграфу, шифром… Поручить местным товарищам собрать материал! Верно?
Миша вздрогнул и слабо улыбнулся.
– Да, я так подумал. Мне показалось, что надо быстрее…
– Мы обязаны беречь людей. Всегда помните о семье Окунева! Чем крупнее дело, тем меньше людей должно участвовать в нем. Идите спать!
Смирнов вгляделся в лицо Миши. Юноша… Э нет! Перед ним сидел не юноша. За последние три дня с Соловьевым произошла перемена, на которую в обычных условиях потребовалось бы несколько лет. Он вытянулся, похудел, беспокойный, веселый блеск, загоравшийся в его глазах при малейшем поводе, исчез. Движения стали сдержаннее…
«Это ничего! – подумал Смирнов. – Это возмужание. Ну что ж, ему двадцать три года. Пора!» – Полковник вспомнил, какой бурный взрыв энергии, любопытства, восторга и нетерпения пришлось бы сдерживать в Соловьеве, если бы поручение давалось ему три дня назад, и на мгновение сердце у Смирнова сжалось. Стало жаль щедрой и легкомысленной юности, вот так же ушедшей в свое время от него, уже ускользающей от сыновей…
«Ну что ж, всему свое время! – вернул себя к действительности Смирнов. – Пора, пора! Соловьев вступает в новую пору жизни. Ничего, наше время было суровее, и возились с нами меньше! Определится парень!»
Так думал Смирнов, а говорил он другие, сухие и обидные, слова.
– Помните, что Одесса для вас всего лишь территория для операции. Вы не на курорт едете. Капитан Захаров передаст деньги и билет. Чем быстрее обернетесь, тем лучше. Но помните: быстрота и спешка – разные вещи. До свиданья. Выспитесь как следует.
Смирнов встал и через стол протянул руку Соловьеву. Тот поднялся, ответил на пожатие и с какой-то новой, поразившей Смирнова красотой – да, именно красотой, другого слова не подберешь – вытянулся прощаясь.
– Хорош будет, если… – И Смирнов не закончил мысль, потому что, постоянно находясь на линии огня, он, как и все старые солдаты, не любил загадывать.
– Желаю успеха, Малыш, – сказал он, кивком давая понять Соловьеву, что тот свободен.
– Это всего лишь территория, где я выполняю задание! – твердил себе Миша Соловьев, разглядывая небольшую полукруглую площадь, представляющую собой шедевр пропорций, площадь, куда вливался переулок, словно узкая река, не вмещающая потоков солнечного света…
– Но это прекрасно! – повторял он и старался не видеть, что ступает по тяжелым плитам, вырубленным человеческими руками и отшлифованным дождями и ветром. Старый камень на мостовой и на стенах домов отражал солнечный свет смягченным и придавал ему оттенки серебра. Отыскивая нужный номер дома в переулке, он заглядывал в каменные подворотни, изумлялся просторным дворам, траве, прорастающей сквозь щели в плитах, и чистейшему, прелестному звуку, источник которого он долго не мог определить, а, отыскав, впервые понял, как может петь струйка воды, падающая в каменный водоем.
– Да, прекрасно, но это не имеет никакого отношения ко мне! – повторял он себе и отворачивался от окон, широких, гостеприимно распахнутых, за которыми двигались и разговаривали красивые загорелые люди.
На пороге квартиры Марии Николаевны Соловьева встретил веселый черноглазый великан в морской тельняшке, в синих холщовых брюках. В руке у великана был велосипед со смятым передним колесом, он держал его, как предмет, не имеющий ни веса, ни тяжести… Узнав, что Соловьев хочет ознакомиться с диссертацией Марии Николаевны и посоветоваться о своей работе, великан добродушно кивнул и указал велосипедом в глубину коридора.
– Идите! Машенька на балконе… Я вот из рейса вернулся, хозяйствую. Будем знакомы – капитан Ворошин… Сейчас провожу вас.
– Машенька! – сказал великан, подходя к дверям балкона. – Раз уж к нам гость пришел, я думаю, надо прикончить эту самую ягоду! А?
– Рад поводу! – засмеялся очень юный женский голос. Миша шагнул через порог балкона, и внезапно все мускулы в теле у него напряглись от жалости, доходящей до боли.
Перед ним в низком плетеном кресле, залитая прямыми лучами солнца, сидела женщина в широком белом платье. Волосы ее, вьющиеся, странного серебристого оттенка, были сколоты тяжелым пучком на затылке, и на лбу золотился загар. То, что находилось ниже, было лишено формы, а, кроме того, по наклону головы и по напряженным плечам Миша догадался, что женщина слепа. Взглянув на загорелые плечи и руки, он понял, что она очень молода, и волна жалости снова захлестнула его.
– Так я сейчас ягоды принесу… – просительно сказал великан и исчез в глубине комнаты. Через несколько минут он вернулся с блюдом клубники и бутылкой сливок.
– Не ставь сливки на пол, опять разольешь!.. – усмехнулась женщина. – И усади гостя, он все еще стоит…
Ворошин хозяйничал решительно и просто. Он выложил всю клубнику с блюда в глубокие тарелки, залил сливками, вручил Мише столовую ложку и первым принялся уничтожать ягоды.
– За сервировку не осудите! – засмеялась Мария Николаевна. – Сегодня я не вмешиваюсь в хозяйство: в школе экзамены, я немного устаю!
Соловьев вдруг поймал себя на мысли, что он смотрит в лицо Марии Николаевны, не испытывая более тягостного чувства страха и жалости.
– Толя, это тебе! – Мария Николаевна протянула мужу свою тарелку. – Мне что-то больше не хочется!
– М-да! – сказал Ворошин, с сожалением косясь на почти полную тарелку Марии Николаевны. – Плохо вы знаете своего мужа! Вырвать из рук женщины последнюю в сезоне клубнику? Поступок низкий! Давай в холодильник поставлю, после съешь…
– Ну, как хочешь, благородный Ворошин! – засмеялась Мария Николаевна. – Тогда вот что, забирай велосипед и иди слесарничать во двор. А мы с товарищем поговорим о наших делах. Нет, нет, в коридоре нельзя, опять испачкаешь маслом паркет и Франциска Львовна будет сердиться…
Миша с благодарностью взглянул на Марию Николаевну. Ворошин ушел, прижимая к груди тарелку с ягодами. Загремела цепочка на входных дверях, и вскоре Соловьев увидел его внизу, на плитах двора, где он расположился около распростертого велосипеда с непосредственностью южанина, для которого дом простирается далеко за порогом.
– Что с вами стряслось, товарищ Соловьев? – неожиданно спросила Мария Николаевна, прикладывая руку к горячим каменным перилам балкона. – У вас беда?
– Да, Мария Николаевна! – неожиданно для самого себя тихо ответил Соловьев и впервые за последние дни глубоко и легко вздохнул. – Большая беда. Только рассказать вам о ней я не могу. Нас здесь никто не услышит?
– Идемте в комнату.
Мария Николаевна встала и прошла в комнату. Она села на диван, перебросила Мише подушку и сама облокотилась на валик, расправив складки своего широкого белого платья.
– Мария Николаевна, я ведь не учитель, я работник органов госбезопасности, – заговорил Миша, с трудом отрываясь от ощущения покоя, отдыха, неожиданно пришедшего к нему в этой прохладной, уютной, большой комнате. – Мария Николаевна, у вас хорошо, и, вероятно, это далось нелегко. А я должен вернуть вас на время к вещам тяжелым.
– Ну что ж, – тихо отозвалась Мария Николаевна, – если нужно…
– В сорок пятом году, в августе, вы находились в Германии. На вас напали. Мне нужно знать все о человеке…
Дверь скрипнула и отворилась. Мария Николаевна сделала поспешное движение вперед всем телом и даже руки протянула, как бы пытаясь помешать войти маленькой девочке лет четырех.
– Толя! – громко позвала Дорохова, и тотчас же снизу донесся голос Ворошина.
– Ау, Машуня?
– Толя, возьми Настеньку!
– Дочка ваша? – спросил Соловьев, с удовольствием разглядывая девчурку, толстенькую, озабоченную, с такими же веселыми и черными глазами, как у отца.
– Да, это Настенька. Она играла с девочкой соседки. Нет, дочка, ко мне сейчас нельзя! Я занята. Тебя возьмет с собой папа, вы вместе будете чинить велосипед!
Девочка выдвинула вперед пухлую, покрытую золотым пушком губу, деловито набрала воздуха и завела хорошую руладу, начиная с низкой, требовательной нотки, последовательно проходя все тональности вплоть до верхнего «ре». Но она не успела закончить, смуглые сильные руки подхватили ее, подняли в воздух, дверь закрылась, и рулада стихла в коридоре.
– Очень тяжело расстраивать вас, Мария Николаевна! – снова заговорил Миша. – Но поверьте, если бы не нужда, я бы не приехал!
Некоторое время Мария Николаевна собиралась с мыслями… Потом устало вздохнула и кивнула, как бы соглашаясь. Соловьев поспешно раскрыл записную книжку, готовясь делать необходимые заметки.
– Что знаю – расскажу! – сказала Мария Николаевна. – Неужели этот человек жив? Это большое несчастье! Сколько зла успел он натворить с тех пор? Плохие люди хуже волков… Нет, нет, вы курите, пожалуйста. Меня это не беспокоит. Сейчас я вам все расскажу… А если я что лишнее расскажу, вы меня остановите… Только, для того чтобы понять этого человека, надо многое знать! Вот надо рассказать вам о Сосновске. Конечно, ведь там, собственно, все и началось… Нет, что вы, я себя хорошо чувствую… Сейчас одышка пройдет. Это иногда бывает, это не страшно… Так я буду рассказывать, а вы все подробно запишите. Я понимаю, надо. Хорошо, что вы приехали…
«Мой отец, товарищ Соловьев, был шофером, человеком добрым и легкомысленным. Больше всего на свете он любил дальние рейсы и веселые компании. Он купил патефон и собрал больше тысячи пластинок. Я сделала ему каталог пластинок, и за это он купил мне новые туфли на белой каучуковой подошве. Первая красивая вещь, принадлежавшая мне. Помню, ложась спать, я взяла их с собой в постель.
Первое, что сделали немцы, заняв наш городок, – расстреляли восемьдесят два человека из городского партийного актива и открыли в клубе железнодорожников кафе-бар с веселыми девушками и отдельными кабинетами. Людей расстреливали ночью и говорили об этом шепотом. Бар гремел на весь городок и не закрывался круглые сутки.
Моему отцу бар понравился. Мать в семье голоса не имела, она, как всегда, боялась, что в одну из поездок отец встретит еще более незлобивую, любящую женщину, чем она, и бросит нас. Со времени прихода немцев она находилась в состоянии непрерывного страха за меня, потому что в городе упорно держался слух, что немцы заберут всех девушек: самых красивых пошлют в бар, остальных – на работу в Германию. Как всякая мать, она считала меня красивой и боялась. Кроме того, перед приходом немцев во время бомбежки маму контузило, и она иногда вела себя странно. Она умерла хорошо. Вышла за щепками во двор, присела на крыльцо, сказала: “Машенька, отец…” – и умерла, говорили, от разрыва сердца.
Мне было тогда четырнадцать лет. Школа закрылась, я отсиживалась дома. Отца мобилизовали возить немецкие грузы. Однажды он выпил лишнее, что-то перепутал и нагрубил немцу. Случилось это во дворе автобазы, при народе. Отца раздели и выпороли на глазах у толпы.
Всю ночь отца колотило от боли и злости. К нему зашел товарищ. Он убеждал, что отец отделался даром, немцы за меньшее расстреливали. Отец бился головой о спинку кровати и ругался страшными словами. Под утро он выпил всю водку, оставшуюся в доме, и сказал мне:
– Я, дочка, конечно, не сахар. Но холуем не был и не стану! Я ухожу в одно место, в лес, где люди посвободнее живут, а ты царапайся сама, как можешь. Прибейся к тете Поле и живи, она добрая.
Теперь я понимаю, он был лишен отцовских чувств. Я связывала его, и он, не задумываясь, бросил меня, как котенка, на добрых людей. Тогда я очень обижалась, плакала и представляла себе, как мы с ним опять встретимся и я ему все выскажу. Позже мне рассказали, что он погиб в партизанском отряде, в первом бою, схватившись врукопашную с гитлеровцами.
Да… отец ушел в лес, а я меняла вещи на картошку и вечерами сидела без огня, потому что «на огонек» заходили гитлеровцы.
У меня был знакомый мальчик Гена Волков… Он учился в школе классом старше, не боялся купаться под мостом, где было самое сильное течение, и сам выдумывал длинные истории о приключениях разных людей, и они мне казались лучше всяких книг. Мы дружили, и я с некоторых пор стала замечать, что у Гены появился от меня секрет. Я догадывалась, в чем дело: партизаны осмелели в нашем районе, и гитлеровцы по вечерам боялись нос на улицу показывать, а начальство у них разъезжало только в бронированных машинах. Я сказала как-то: «Гена, неужели ты меня не возьмешь помогать партизанам?» Он объяснил, что помочь мне не может, сам только помогает кое-кому, да и потом он сказал, что я в такие дела не гожусь, характер у меня очень мягкий. Ну что ж, я постеснялась настаивать, хотя мне очень хотелось помогать партизанам.
Вскоре я попала в облаву на рынке. В комендатуре немец во время обыска обошелся со мной нахально, и я вцепилась ему ногтями в лицо. Полгода меня держали в тюрьме на Забродинке, в подвале, где гнилая вода стояла почти до колен. Среди заключенных был один дедушка из поселка, Федор Иванович. Гитлеровцы забрали его на огородах, он прошлогоднюю картошку копал, ну они и посекли старика лопатой. Раны у Федора Ивановича не заживали, перевязывать было нечем, а умирать старику не хотелось. Очень он просил по ночам с ним разговаривать, только у нас заключенные были тяжелые, все больше смертники, и люди не хотели бередить себя разговорами, молчали и ждали либо случая бежать, либо своего часа. А еще, конечно, запах шел тяжелый от дедушки, и сидеть с ним рядом было невозможно. Но я вскоре привыкла, раны ему обчищала, переворачивала раза три в день, чтоб тело не мертвело. А по ночам он мне свою жизнь рассказывал. Он работал театральным парикмахером и много видел интересного…
При гестапо был отдел по борьбе с партизанами, и в этом проклятом отделе находился русский, по прозванию Жаба; фамилии его никто не знал.
Что сказать вам об этом человеке? С девяти утра до часу дня он допрашивал. Потом обедал и спал. Вечером играл на бильярде в баре и там же напивался к трем часам утра. Солдат-порученец привозил его домой замертво.
Жабу в городе ненавидели страшной ненавистью и несколько раз пытались убить, только он, как зверь, чуял покушение и уходил с опасного места в самую последнюю минуту.
Он был не просто жестоким человеком. Ведь, товарищ Соловьев, даже у самого жестокого имеется своя, пусть мерзкая, но логика – злится и мучает. Жаба никогда не злился. Он мучил спокойно и по какому-то одному ему понятному выбору. Бывало арестует человека, который и близко к партизанам не подходил, иногда даже прохвоста какого-нибудь выглядит и, не торопясь, потихонечку замучает на допросах. Даже сами гитлеровцы не любили его и боялись, ходили слухи, что он никому из них не подчинен и связан с каким-то очень высоким начальством.
Вот так ни с того ни с сего замучил дедушку Федора Ивановича. А потом вызвал меня. Внешне каков он был? Хорошо, я вам его опишу. Почему он оставил меня в живых? До сих пор не понимаю. А оставил. Даже из тюрьмы велел выбросить.
Меня привели к нему рано утром, часов около девяти. Охрана ушла, на его допросах никто никогда не присутствовал. В кабинете были серые стены и сильно пахло карболкой, табаком и спиртным перегаром – могильный запах. Посередине кабинета стоял человек лет тридцати шести, высокий, худой, жилистый, с очень широкими плечами и узкими бедрами. Может быть, он был пьян, может, болен, только глаза у него были бесцветные и почти не отражали света. Брови, густые, светлые, сходились на переносице, и от них тянулся к губам тонкий, длинный нос с плоским мясистым кончиком. Он стоял, обхватив себя за плечи руками, и трусился мелко-мелко, – видно, его крепко знобило.
Он долго меня не замечал, а когда от напряжения у меня в ко – ленке косточка хрустнула, дернулся и спросил, знаю ли я, что мой дед подох? Я поняла, что он спрашивал про Федора Ивановича, и объяснила, как было дело. Он еще раз переспросил, действительно ли я не внучка ему, а потом спросил: “Где сейчас Федор Федорович Гордин?” Я говорю – не знаю и никогда о таком не слышала. Он позвал солдата и велел выбросить меня из тюрьмы. Я с ним говорила спокойно оттого, что убеждена была в своей смерти. А когда меня выгнали из тюрьмы, я долго не уходила от ворот, все боялась… Все казалось, что опять схватят, арестуют и тогда уже конец…
Несколько дней я была очень счастливая. Отмылась, выспалась, к свету привыкла. Потом прибежал Гена и сказал, что Лену Жевакину угоняют с другими девушками в Германию, а Лена – нужный человек, выполняет ответственные поручения. Гена спросил, не поменяюсь ли я с Леной, есть возможность сговориться с гитлеровским уполномоченным за большую взятку. Если я согласна, надо сейчас же идти на вербовочный пункт, а Лена останется и будет продолжать работу. “А ты все равно без толку сидишь, – сказал он. – У тебя характер тихий…” Я сказала – ладно. Всю ночь проплакала, вещи, которые сохранились, тете Поле отдала, а утром пошла с Геной на вербовку. Сначала немец вынес мне пальто Лены и платок, я надела, а свое отдала немцу, и он ушел, а потом пришла Лена, и солдат толкнул меня за проволоку. Я даже попрощаться не успела, Лена ушла с Геной. А меня отвели в отделение к девочкам.
Когда нас увозили на вокзал, мне все хотелось дом свой увидеть на прощанье, но шел дождь, и я ничего не увидела, да и брезент на грузовике был наглухо застегнут. Погрузили нас, как телят, – в товарный, без печки, без нар – и повезли. С крыши течет, колеса стучат, а девочки плачут и поют: “Прощайте, мама, вас я не увижу, прощай, моя родимая земля. Страна Германия, тебя я ненавижу, девчонку русскую покорить нельзя!” Самодельная песня, а мы ее часто пели.
В Германии я сначала работала у бауэра, в деревне, а потом меня бауэр отослал, потому что я носила продукты нашим военнопленным, близко был лагерь. За это полагался расстрел, продукты мы воровали, но ведь нельзя же дать пропасть своим людям? Так что я еще дешево отделалась.
Из лагерного распределителя меня направили на химический завод, и вот там я начала сдавать. Кашляла, волосы выпадали, ногти слезали, зубы расшатались. Если бы наши пришли на месяц позже, я бы пропала – так доктор сказал.
Про то, как мы наших встречали, говорить не буду, это дело известное. Нас, русских девушек, собрали всех вместе, стали лечить и отправлять на Родину.
Однажды я с подругами пошла в город и встретила Жабу. Он стоял с нашими офицерами и смеялся, рассказывал им что-то. Так хорошо, так дружно они стояли, и вот это меня больше всего испугало!.. Теперь подумайте, что он за человек! Он меня видел один раз в жизни. Какие-нибудь двадцать минут, да и выглядела я тогда иначе, совсем девчонкой была… Но запомнил! Как увидел, перестал смеяться, простился с офицерами и пошел прочь…
Товарищ Соловьев, какая же я была глупая! Мне бы объяснить офицерам, они бы сами… А я кинулась его догонять! Он не бежал, шел и вроде спокойно, но так быстро, что я бегом не успевала. Один раз упала, туфлю потеряла… Наконец нагнала! И навстречу вышел офицер, такой толстенький, с добрым лицом, танкист. Я ему закричать хотела, но в это время поравнялась с Жабой…
Больше я, товарищ Соловьев, ничего не помню…
Сейчас я закончу. Ничего, я отдышусь, это у меня бывает…
Да, очнулась я уже в палате… Долго болела. Одиннадцать раз оперировали. Все надеялись хотя бы частично зрение сохранить. И немножко сохранить лицо.
Однажды хирург Андрей Севастьянович присел ко мне на постель пьяненький, обнял и сказал: “Маша, Маша, прости, ничего я тебе больше не могу сделать. Сапожник я, а не хирург!” И заплакал.
Когда поправилась немного, меня повезли в Москву, а уже из Москвы – в Одессу, к профессору Филатову, все хотели зрение вернуть. Учиться я начала еще в Германии, на слух, за седьмой и восьмой классы. Андрей Севастьянович иногда читал, иногда сестры, больные тоже, кто свободен, приходят и говорят: “Давай, Маша, почитаю”. Сдала в Москве за десятилетку, поступила в заочный педагогический институт. И все было ничего. А вот в Одессе стало худо на душе. Филатов посмотрел, говорит: “Девушка, не надо от человека ждать больше, чем он может! Я не Святой Дух. Пока ничего сделать не могу…” Вот когда я почувствовала, как сильна была во мне надежда поправиться! Надо жить, перестраиваться на положение настоящей слепой, а у меня руки опустились. Остался год до окончания института – я учебу бросила. И знаете, товарищ Соловьев, страшное ощущение было, как будто я не только слепая, но и глухая к тому же! Не слышу людей, не могу звуки разделить, все сливается в грохот, все машины летят на меня.
Начала учиться улицы переходить с палочкой – не получается! Стыдно, страшно просить, чтоб перевели. Люди, жизнь – все мимо меня, как река, и я за течением уже не успеваю! Видите ли, тут еще, конечно, была причина: в зеркало я смотреться не могла, но руками свое новое лицо хорошо изучила и понимала, каково людям на меня смотреть.
Однажды стою вот так на углу, мучусь и чувствую, кто-то взял под руку и повел на другую сторону улицы… Я поблагодарила и опять остановилась. Слышу тот же человек снова подходит и спрашивает: “Вы что, не умеете еще одна ходить?” Это был Анатолий Васильевич. Он меня повел в клинику. По дороге мы разговорились, я кое-что рассказала. Он тогда очень хорошо со мной поговорил. “Переживаете вы, – говорит, – Маша, законно. Горе у вас огромное. А жить надо. Учение бросать вам невозможно, потому что связь с людьми только через труд бывает. А без людей вы пропадете. Как ни тяжело – кончайте институт…” На меня его слова хорошо подействовали. Первое время он приходил редко, из жалости навещал. Ну, а потом чаще стал бывать. Настало время мне выписываться из клиники, а идти некуда. Я решила уехать потихоньку, чтоб не связывать своим горем Анатолия Васильевича. Мне дали пенсию, я уже договорилась с нянечкой, чтобы она мне чемодан купила, билет домой, в Сосновск, продукты на дорогу и проводила на поезд. К вечеру пришел Анатолий Васильевич и забрал меня из клиники. Привез сюда, говорит: “Маша, живите сколько хотите. Кончайте институт, сил наберитесь. Там посмотрим, как ваша жизнь сложится. Меня вы не стесните, я все равно больше на корабле нахожусь”. Так мы прожили еще полгода. Когда его мать узнала, что он на мне женился, приехала из Ростова и на коленях перед ним при мне стояла, плакала, чтобы он отступился от меня. Да. Меня прокляла. И уехала, обратно в Ростов. Так и не помирилась с нами до сих пор, даже внучку не хочет видеть… Ну, да это я вам все уже лишнее рассказываю…»
Несколько раз повторила Мария Николаевна подробности своих встреч с Жабой. Соловьев шифровкой стенографировал необходимое.
В дверях показался капитан. Он подошел, глянул на капельки пота, облепившие лицо жены, на ее руки и хмуро покосился на Соловьева.
– А ты здорово устала, Машуня! – сказал он и распахнул двери на балкон. Только сейчас Соловьев заметил, что в комнате висит облако табачного дыма, а свет за окном стал оранжевым. Дело шло к вечеру.
– Ребята приходили, рыбу какую-то притащили тебе показывать, но я отослал… Обедать пора, Машуня…
Мария Николаевна молчала. Вся она как-то сжалась и ушла в складки своего широкого белого платья.
Соловьев поспешно встал.
– Простите, Мария Николаевна, и вы, Анатолий Васильевич, что задержал… Нет, спасибо, обедать не могу остаться, дела. Большое спасибо за внимание и помощь.
Он пожал руку Марии Николаевны и с болью подосадовал на себя – такой горячей и сухой была ее рука.
Капитан проводил Соловьева до ворот.
– Мария Николаевна плохо чувствует себя, – виновато сказал Соловьев, останавливаясь, чтобы проститься с капитаном. – Идите к ней! До свидания и спасибо, Анатолий Васильевич!
– Ничего! – улыбнулся капитан Ворошин, с привычной осторожностью пожимая своей огромной смуглой ручищей руку Миши. – Дочку ей подкину – все пройдет! Еще раз приедете в Одессу – заходите.
Миша ушел. Некоторое время капитан стоял хмуро, сосредоточенно глядя ему вслед, потом повернулся и пошел домой. Выйдя из-под темной арки ворот, он остановился и несколько мгновений стоял посреди двора, глядя на балкон, где стояла женщина в белом и тонкими золотисто-смуглыми руками прижимала к груди голенького ребенка.
Что-то с силой, мягко толкнуло в грудь капитана, и он опять – в который раз – испытал тот высокий душевный подъем, чувство, обостряющее в душе его все лучшее, сильное, умное, – чувство, которое за всю его жизнь, богатую людьми и событиями, помогла узнать только Маша и без которого он уже не умел, не мог приближаться к женщине.
Примерно в то же самое время, когда шифрованное донесение Миши Соловьева пришло по телеграфу из Одессы в Москву, в пригороде Берлина шел дождь.
Два человека торопливо направлялись из сада на террасу маленького каменного особняка. За домом женщины с веселыми криками поспешно снимали белье с веревок. Дождь шел отвесный, крупный, с мутным стеклянным отливом.
На террасе было сумрачно и пахло резедой.
– Прошу садиться, господин майор! Продолжим нашу беседу здесь… – предложил хозяин и выдвинул навстречу кресло, плетенное из белой и красной соломы.
Женщины вбежали в дом. Капли дождя со свистом ударялись о листву винограда, обвивающего террасу. Хозяин дома ходил по террасе, перекатывая в пальцах длинную черную сигару. У хозяина дома был странный облик – он был худой, но в то же время при взгляде на него чувствовалось, что каждая мышца его тела тренирована и полна сил. Невысокий, в старомодном длинном и широком сюртуке, по-юношески коротко остриженный, он двигался порывисто. Возраст его не поддавался определению, хотя именно этим занимался сейчас гость, советский майор органов госбезопасности. Майор давно и много знал о Гейнце Штарке, но встретился с ним впервые.
3 марта 1943 года в одном из городов Советского Союза в четырнадцать часов Штарке подошел к первому встречному, оказавшемуся начальником сборочного цеха, и сказал на отличном русском языке:
– Гитлер – психопат и предатель. Остальные наши «деятели» – ублюдки и предатели. Германия погибает, господа надо что-то делать, пока не поздно. Будьте добры, немедленно передайте меня в руки ваших властей, я постараюсь хоть чем-нибудь помочь моим несчастным соотечественникам. Я профессиональный разведчик с большим стажем.
Это происходило в далеком тыловом городе, и начальник цеха принял Штарке за сумасшедшего. Он прошел мимо, но через несколько минут вернулся и для очистки совести, на всякий случай, отвел Штарке к ближайшему милиционеру. В отделении милиции Штарке разложил перед начальником набор документов и сказал:
– Все они «липовые», как у вас говорят. Настоящее мое имя, на которое, кстати сказать, у меня никогда не было документов, – Гейнце Штарке. Почему я поднимаю руки? Видите ли, господин начальник милиции, в вашей стране я убедился в одном: человек может существовать без войн. Опыт содружества наций в вашей государственной системе это доказал. Больше того, при вашей государственной системе война не выгодна ни человеку, ни государству. Значит, в мире происходит чудовищная, преступная нелепость. Я не могу больше в ней участвовать. Все. Будьте добры немедленно сообщить обо мне в Москву, я еще пригожусь. Я ас – разведчик международного класса!
Последующие события несколько охладили энергию Штарке. В Москве ему объяснили, что он не «герой», а преступник, заявивший о своих преступлениях. Штарке подал заявление с просьбой позволить ему искупить свои преступления на фронте борьбы с фашизмом. Суд учел заявление Штарке, и действительно, все оставшиеся до победы два года Штарке честно сражался на тех участках фронта, куда его направляли немецкие организации сопротивления фашизму.
Вскоре после конца войны тяжелое сердечное заболевание заставило Штарке уйти на покой.
Недавно Штарке исполнилось семьдесят два года, но майор колебался в фантастических пределах между тридцатью пятью и шестьюдесятью. Лицо без морщин. Горячие, молодые глаза, пепельно-серые волосы без седины и без блеска, легкие движения, чистый звучный голос. Сорок шесть?


