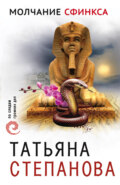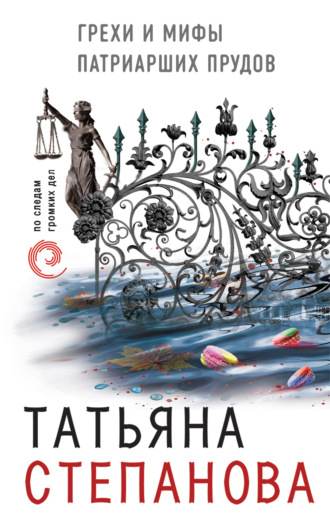
Татьяна Степанова
Грехи и мифы Патриарших прудов
© Степанова Т. Ю., 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
* * *
Глава 1
Пять органов чувств – минус все
Доктор сказал, что помочь стимулировать память помогут пять органов чувств.
Я загибаю пальцы: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Доктор особо выделил обоняние и слух. Начал задавать настойчивые вопросы. Что я слышала в тот момент? Какие звуки витали вокруг меня? Он говорил – не могло быть так, чтобы не существовало никаких звуков, так не бывает. Окружающая нас действительность не терпит тишины. Абсолютной тишины вообще никогда не бывает. Что вы слышали? Шум транспорта? Голоса? Может, кто-то кого-то звал? Пусть не близко, не рядом, а вдалеке? Шум ветра? Щебет птиц? Шорохи? Шуршание? Сирену полицейских машин и «Скорой»? Шум воды, льющейся из крана? Скрежет металла? Скрип половиц? Хлопанье дверей? Стук?
Я сказала, что не слышала ничего. И не слышу до сих пор. То есть слух мой не пострадал, и доктор это отлично знает. Я слышу хорошо, когда он спрашивает меня. И слышу все остальное. Но в памяти моей я не слышу ничего. Абсолютная тишина есть, она существует. Доктор не прав. Абсолютная тишина – как вата, как войлок окутывает меня, едва лишь я пытаюсь вспомнить.
Обоняние… И снова доктор очень настойчив. Он снова призывает меня сосредоточиться и вспомнить – чем пахло?
Ничем, милый доктор.
Очень интеллигентный, весьма воспитанный, с хорошими манерами, с отлично поставленным голосом, излучающий сочувствие и участие – добрый доктор-мозгоправ. Психотерапевт, приглашенный матерью по совету знакомых из «ее круга общения».
Он снова задает свои настойчивые вопросы, перечисляя – чем пахло тогда? Приятным, неприятным?
Запах травы? Хвои? Цветов? Влажной листвы? Это же было лето – теплое дождливое лето. Может быть, пахло бензином? Гарью? Асфальтом? Деревом? Железом?
Духами? Одеколоном? Потом? Табаком?
Он не продолжает. Он ждет, склонив голову набок, что я отвечу. Я говорю за него, заканчивая список плохих запахов. Спермой? Мочой? Дерьмом? Блевотиной?
Ничем, ничем не пахло.
Нос мой словно заложило.
Я и до сих пор чувствую запахи, лишь поднося пахучий предмет совсем близко к ноздрям.
А тогда вокруг меня пахло ничем.
Доктор не упоминает запаха крови. Не упоминаю его и я.
Хотя, говорят, крови было много.
Но я не помню.
Никаких запахов я не ощущала. Я не помню запахов. И когда чувствую их сейчас – никаких ассоциаций. Никаких воспоминаний.
Память моя пуста.
Зрение как стимул вообще отпадает. Мне показывали фотографии той дороги в лесу. Приходили в больницу люди из полиции. И показывали мне фотографии, снятые уже после того…
Ну, после всего…
Говорили – взгляните, может, вспомните что-то? Вы ведь там шли.
Я шла?
Там?!
Осязание… С этим сложнее. Потому что я…
Нет, я не помню, что ощущали рецепторы моей кожи – холод, жар, влагу. Этого я не помню совсем.
Но когда осязание сопряжено со вкусом…
Вкус…
Я высовываю кончик языка, совсем как змея, пробующая окружающий мир.
Вкус…
Кончик языка свербит и чешется. Но я не помню ничего.
Точнее, я не могу описать это словами. У меня не хватает слов.
Доктор, когда я это ему сказала, снова предложил прибегнуть к помощи ассоциаций и метафор. На что это было похоже?
Вкус чего?
Что всплывает в памяти, когда вы – вот как сейчас, полуоткрыв рот, – прикусываете кончик языка зубами?
Что приходит на ум? Какой вкус? Вкус чего?
Мифы, доктор…
Я вспоминаю мифы. То, что я учила когда-то.
Какие мифы? Да разные. Вкус… вкус… вкус…
Яблоки Гесперид… Золотые, большие. У них медово-приторный вкус, они чем-то похожи на груши. Гере подарили их на свадьбу с Зевсом, из их семян вырос сад, и его охранял дракон. Гераклу, прежде чем он, совершив свой подвиг, нарвал этих яблок с ветвей, пришлось по щиколотку ступать в драконьем говне, служившем для яблонь Гесперид отличным компостом.
Яблоко Париса – оно кислое на вкус. Зеленое, с острой кислинкой, крупное. Похожее на те, что продают во всех супермаркетах.
Вкус кислоты… нет… вкус меда…
Гиметский мед – тот, знаменитый, с горы Гимет. Темный, засахаренный, полный кусочков отломанных сот и застрявших в них дохлых пчел.
Нет, нет, конечно, нет…
Амброзия – пища богов. Вкус ее… жалок.
Это был лишь жидкий ячменный отвар, сдобренный медом.
Гранат… зерна… Еда Персефоны. Острый кисло-сладкий вкус, терпкость на кончике языка.
Язык свербит…
Но нет, не то. Ломака и притворщица Персефона в чем-то и точно как я. Маменькина дочка. И пережить ей пришлось немало. Спуститься туда… в царство мертвых, как и мне. И вернуться оттуда назад.
Но и это сравнение ложно. Это не вкус зерен граната.
Вкус молока козы Амалфеи с Крита…
Козье молоко. Я вообще не знаю его вкуса. Я никогда не пью молока – ни коровьего, ни козьего.
Вкус того, что ели Лотофаги… Говорят, они копались в иле и ели корни лотоса. Ну совсем как вьетнамцы!
Но это не вкус азиатской кухни.
Снова мимо.
То, что лопал Одиссей на пиру у Цирцеи, – сыр, жареная ячменная мука, вино…
Нет. Не то.
Вкус соуса Гарум, что так любили в Риме. Он же вонял! Его даже было запрещено изготовлять в городах. Людей тошнило от вони гниющих рыбьих внутренностей, что ферментировались в каменных ваннах на палящем солнце.
Но в Риме это ели.
Устричный соус?
Соевый соус?
Нет, не тот это вкус.
Это не сладкое и не соленое.
Не кислое.
Терпкое, да…
Так что кончик моего высунутого языка горит как в огне.
Я прикусываю язык зубами до боли.
В глазах доктора мелькает тревога. Он, похоже, что-то увидел на моем лице. Он мягко и очень настойчиво окликает меня. Я не отвечаю. Я давлю на кончик своего языка сильнее и сильнее.
Доктор снова зовет меня по имени.
И еще раз.
И только тогда я реагирую. Я разжимаю зубы. Они так крепко стиснуты, что это дается мне с большим усилием.
Кончик языка по-прежнему в огне. Там острая боль.
В памяти моей по-прежнему ничего. Никаких воспоминаний. Там нет ни темноты, ни черноты, ни сумерек, ни тумана, ни мглы.
Там сплошная пустота.
По лицу доктора я вижу, что он по-прежнему встревожен. Его удивила и даже напугала моя реакция. Он старается не подавать вида – он профессионал. Но я это чувствую.
Он испытал безотчетный приступ паники и страха на нашем сеансе.
Что он подумал?
Что я решила откусить свой собственный язык?
И выплюнуть кровавый кусок моей плоти на этот девственно-чистый пол, покрытый ламинатом, в его кабинете, расположенном на девятом этаже бизнес-центра «Лотте-Плаза»?
Глава 2
Топор
Что видели ангелы?
Что-то или кого-то они точно видели. Но лица их остались невозмутимыми.
Ангелы из белого гипса на своих невысоких постаментах. С крыльями за спиной, похожими на странную помесь крыльев птицы и бабочки. Ангелы-статуи, вылепленные из гипса без особого искусства и старания. Созданные по какому-то общему лекалу – с гладко причесанными кудрявыми головками, миндалевидными глазами без зрачков, без всякого выражения. Облаченные в белые гипсовые хитоны, бесполые, равнодушные скульптуры, годные лишь для того, чтобы их купили со скидкой по сходной цене и поставили где-то на кладбище над свежей могилой.
А что видели цапли и журавли?
Тоже вылепленные из гипса, раскрашенные водостойкой краской в серый, черный и белый цвет? Птицы-статуи, стоящие в траве в одиночку и попарно. Те, что в одиночку, обратили свои головы к земле, замерли в охотничьей стойке, поджав одну ногу и нацелив клюв в траву. Те, что попарно, распластали гипсовые крылья, изогнули гипсовые шеи, скрепленные проволокой, в безмолвном брачном танце.
Кого или что видел нелепый гипсовый орел, взлетевший на обломок серого камня? Орел неизвестной породы – может, беркут, а может, просто мутант, созданный воображением, – с кривым, хищно загнутым клювом и когтями, впившимися в грязный обломок, который уж никак не тянул на скалу или утес?
Что видела огромная гипсовая жаба, важно распластавшаяся посреди маленького садового фонтана фэншуй? Гипсовые жабы не квакают, не стреляют липким языком, когда мимо пролетает комар или оса. Гипсовые жабы фэншуй – нелепые, с распяленным ртом, усеянные гипсовыми бородавками, выкрашенные в грязно-зеленый, болотный цвет, – созданы для того, чтобы приносить своим владельцам удачу и богатство.
Если жаба кого-то и видела, она не скажет, она промолчит. Так же, как гипсовые кладбищенские ангелы, и садовые журавли-цапли, и еще целый выводок фантастических существ, вылепленных из того же самого гипса: слоников-божков Ганеши, больших китайских черепах – символов долголетия и достатка, садовых гномов, кошек с выгнутыми спинами, гипсовых мопсов.
Может, вся эта немая скульптурная нежить вообще ничего не успела заметить, потому что…
Потому что нападение произошло молниеносно.
Женщина успела лишь открыть входную дверь, как в лицо ей полетела тряпка, мокрая, пропитанная чем-то едким, резко пахучим – ацетоном или нашатырем.
Один вдох и…
Мокрая тряпка облепила голову и лицо, лишая возможности дышать и видеть. Женщина вцепилась в нее рукой, пытаясь содрать с лица, пытаясь крикнуть, но вместо крика из обожженного химическими парами горла вырвался лишь хрип.
А в следующую секунду в лицо женщины – в ее скулу – вонзилось тяжелое лезвие топора.
Этот самый первый удар мог стать смертельным, но рука, сжимавшая ткань, приняла на себя всю его страшную силу.
Безымянный и указательный пальцы – отрубленные, словно сухие хворостинки, – отлетели к стене.
Женщина глухо и пронзительно закричала и упала навзничь. Ничего не видя из-за тряпки, подобно савану, укутавшему ее голову, кашляя кровью, заливающей ее рот и лицо, она перевернулась на живот, пытаясь встать на четвереньки.
И тут лезвие топора вонзилось ей в спину в области крестца.
Кровь хлынула потоком на дощатый пол. Женщина все пыталась приподняться. В какой-то миг ей даже это удалось, но она тут же рухнула снова, увлекая за собой то, за что пыталась ухватиться здоровой рукой. Тяжелые предметы упали на пол, что-то разбилось, загрохотало. Она не видела ничего – ослепленная, сраженная болью, истекающая кровью, она хрипела, извиваясь на полу.
И вот она почувствовала, как кто-то наступил ей на спину ногой, сильно прижимая ее к полу, не давая возможности ползти.
Лезвие топора обрушилось снова. Она дернулась в агонии, и тот, кто убивал ее, промахнулся – метил ударить в область шеи, но топор отклонился от ее судорожного толчка, и лезвие вонзилось в левую лопатку, перерубив кость.
Она уже не могла кричать. Горло заливало горячим.
Она знала: это ее кровь.
Она знала и то, что через секунду умрет.
Топор обрушился ей на затылок, и черепная кость раскололась.
Потом были слышны звуки новых и новых ударов – словно на деревянной колоде топором рубили мясную тушу.
Женщина давно уже была мертва, но ее добивали и добивали, рубили, рассекали, словно страшась того, что искорка жизни все еще могла сохраниться в бездыханном, истерзанном теле.
Глава 3
Неглубокая могила
Катя – Екатерина Петровская, криминальный обозреватель Пресс-службы ГУВД Московской области – не могла понять, отчего полковник Гущин так встревожен.
Фразы, которые она от него услышала, казались ей непоследовательными и лишенными всякой логики. Сначала он сказал: Это дело мы никогда не раскроем. Это глухарь.
А потом, когда они уже воочию увидели ту неглубокую могилу в перелеске у Калужского шоссе, он изрек: Это дело плохое, это дело совсем дрянь.
Катя не помнила, чтобы полковник Федор Матвеевич Гущин – шеф криминального отдела – когда-либо прежде делил убийства на плохие и хорошие. В этом не было логики.
Логики не наблюдалось и в других его словах в эту субботу.
Катя встала в это утро очень рано. Давно хотела в свой законный выходной со вкусом, толком, расстановкой побегать в Нескучном саду. До Нескучного сада от Фрунзенской набережной, где находится ее дом, – рукой подать, только мост перейти. Перебежать.
Катя оделась по-спортивному, обула новые кроссовки, взяла маленький рюкзачок – бутылка минералки, зеленое яблоко. Словом, все, о чем пишут глянцевые журналы, когда рекомендуют своим продвинутым читательницам утреннюю пробежку на свежем воздухе.
День выдался ясным и прохладным – середина октября напоминала, что не за горами заморозки. Нескучный сад в это время года очень красив. Сюда тянутся со всей Москвы – побегать, покататься на велосипеде, просто прогуляться, обозревая и сам Нескучный, и Парк Горького в его новом облике.
По мосту Катя поскакала как кузнечик – прытко и совсем не заботясь о дыхании для долгого марафона. И как следствие – уже в начале аллеи Нескучного задохнулась. Постояла, наклонившись и уперев руки в колени. Да, прыть надо убавить, а то метров через пятьсот не то что не побежишь, а поползешь словно улитка.
Она отдышалась и легонько затрусила вперед, но не успела даже углубиться в парк, как зазвонил ее мобильный – настойчиво и громко.
Катя тогда подумала – не буду отвечать. Кто бы это ни был, не отвечу. У меня выходной, я в парке, настроилась на пробежку, на горячий душ после, хороший завтрак и лень без конца и без края.
Она достала телефон и глянула, что за номер, – полковник Гущин. Его личный мобильный.
Не буду отвечать…
Телефон все звонил, звал.
Не стану…
Не буду есть, не стану слушать… Подумала – и стала кушать.
Она ответила.
Гущин сказал, что на каком-то там километре Калужского шоссе – она не запомнила, на каком, – в перелеске обнаружен труп. Он, мол, туда собирается выехать. А затем он добавил ту самую фразу: «Это дело мы никогда не раскроем».
Катя хотела сказать – ну и ладно, бог с ним. Мало ли трупов и нераскрытых дел!
Но Гущин ее удивил: «Вот когда я тебя с собой беру, мы все раскрываем. Такие дела распутываем!»
Катя подумала: что это – комплимент ее уму, сообразительности или просто констатация факта, что она для полковника Гущина что-то вроде счастливого талисмана, кроличьей лапки?
– Я хочу, чтобы ты тоже поехала, – проговорил Гущин. – Это дело глухарь. Там писать уж точно особо не о чем. Тебе как репортеру это будет малоинтересно. Но я хочу, чтобы ты поехала со мной.
Ну где логика, скажите? Где во всем этом логика?
Катя подумала, сколько раз прежде она сама чуть ли не с боем добивалась, чтобы полковник Гущин брал ее – криминального обозревателя Пресс-центра – на места убийств. Сколько сил она положила на то, чтобы между ними возникло доверие.
Случилось почти невозможное, такое редко бывает в реальной полицейской жизни между представителями разных служб: они не только стали доверять друг другу, они подружились! И правда, были такие дела, такие случаи.
И вот шеф криминального отдела – вещь небывалая, неслыханная в полиции – стал порой сам (!) звонить ей – криминальному репортеру Пресс-центра – и приглашать на места преступлений.
Катя надувалась от гордости, считая, что помогает ему в расследовании. А то! Но вот оказывается, что дело-то вовсе не в этом, не в ее способностях. А в том, что шеф криминального отдела, в общем-то, суеверен, как и большинство людей, часто имеющих дело с опасностью и смертью.
Он внушил себе, будто Катя – нечто вроде счастливого талисмана.
Катя сказала, что она бегает в Нескучном и ей потребуется час на то, чтобы вернуться домой и собраться.
А что еще она могла ответить? Послать шефа криминального отдела куда подальше? Так он в следующий раз, когда стрясется суперсенсационное убийство, погонит ее палками прочь!
Ну, съездит она, глянет на тот труп, на этот глухарь.
Гущин сказал, что через час подъедет и заберет ее из дома.
В эту субботу полковник вел служебный джип сам – его шофер приболел. И Катя видела, что давненько Гущин не брал в руки шашек… то бишь не садился за руль сам, привыкнув к переднему пассажирскому сиденью.
Катя переоделась в сухое – спортивный костюм даже после столь недолгих физических упражнений промок от пота. Она успела принять горячий душ. Но совсем не стала пользоваться косметикой – никакой. Кто там ее станет разглядывать, в этом лесу у Калужского шоссе? Эксперты? Они сами небось с пятничного похмелья. На полковника Гущина Катя вообще внимания не обращала.
Нет… Вот тут она сама с собой лукавила. После Истринского дела, когда полковник Гущин своей решительностью и быстротой действий фактически спас от смерти маленького ребенка, Катя смотрела на толстяка-полковника словно другими глазами. Будто какая-то завеса приоткрылась в их отношениях.
Гущин надел старую куртку, под этой старой курткой у него был старый костюм – чтобы не трепать новый по грязи в лесу. Он был чисто выбрит, и его глянцевая лысина блестела как зеркало.
Пока они ехали ни шатко ни валко по Москве, по Профсоюзной улице, он помалкивал. Но где-то в районе метро «Калужская» вдруг многозначительно изрек:
– Перхушкин тут на днях спрашивал меня о тебе. Интересовался.
Катя не сразу поняла, о ком речь. А, новый начальник штаба – маленький прыщавый человечек с усами, переведенный в областной Главк откуда-то с глубокой периферии. В последние годы это просто стало какой-то напастью – нашествие «понаехавших» из самых глухих углов. Видно, где-то наверху укрепились во мнении, что периферийники на руководящих постах в полиции, не связанные со столичными элитами и делами, не станут брать взятки или будут их брать с меньшей алчностью. «Понаехавшие» в большинстве своем были люди малообразованные и серые как мыши, но с невероятными чисто провинциальными амбициями. Все они как огня боялись дальнейшей ротации кадров и возвращения со столичных хлебов назад в свою тьмутаракань и потому всеми правдами и неправдами пытались зацепиться за московскую жизнь. Кто как – кто учебой в академии МВД, а кто женитьбой на москвичке.
– Проявлял настойчивый интерес, – продолжил полковник Гущин. – Спрашивал, между прочим, как ты… с кем… замужем ли.
– Федор Матвеевич, я замужем.
– Я так и сказал Перхушкину. Упоминать не стал, что вы с мужем живете раздельно.
Катя покосилась на Гущина. Кто бы говорил! Не далее как несколько лет назад Главк потрясли сенсационные подробности личной жизни самого шефа криминального отдела. Выяснилось, что примерный муж и семьянин много лет имел и вторую семью, и побочного сына. Сынок был верзила и богатырь – Катя имела честь с ним познакомиться в ходе расследования одного из дел.
Супруга Гущина метала громы и молнии, грозила разводом. Они официально не развелись, однако тоже находились в стадии многолетнего раздельного проживания.
– Я сказал Перхушкину, чтобы он о тебе и думать забыл.
– Да, это вы ему хорошо сказали, Федор Матвеевич, – Катя улыбнулась толстяку.
Неизвестно, что подумал при этом прыщавый выскочка с периферии. Наверное, решил, что Гущин сам положил на нее глаз…
– В одиночестве нет никакой пользы, – назидательно заметил Гущин. – Но каждый сам выбирает свой путь. Вы с мужем – люди молодые, вполне еще можете…
– Вряд ли мы будем когда-то опять вместе, – сказала Катя. – Что-то не верится.
– В общем, это ваше дело. Это не мое дело, – Гущин снова глянул на Катю. – А Перхушкин уж точно здесь третий… может, даже четвертый лишний.
Катя покивала – скучно вам, Федор Матвеевич, неохота ехать в свой выходной по вызову на место обнаружения какого-то там трупа, вот вы и чешете языком, проявляете заботу и любопытство, и снова заботу о своем «маленьком друге» – бедном одиноком криминальном репортере, что когда-то помог вам распутать пару-тройку сложных дел.
Беседуя таким образом, они оказались там…
Там, где все это и началось.
Там, где не было уже места ни скуке, ни праздному любопытству.
Там, где царил лишь страх.
Хотя поначалу весь этот таинственный и жуткий кошмар и правда выглядел как полный «глухарь».
Выйдя из машины, Катя в первую минуту увидела лишь хаос этого места. Калужское шоссе, некогда такое узкое, подверглось масштабной реконструкции. Его расширяли, строили эстакады, закладывали новые полосы движения, нещадно и варварски уничтожая весь прилегающий к дороге ландшафт. Горы грязи, рвы жидкой глины – ничего, кроме грязи и глины, в которой увязала строительная техника. Все это было там, возле Калужского шоссе, и все это волной накатывало на то, что ютилось рядом.
Гущину пришлось объехать огромный массив Хованского кладбища, примыкавший к нему строительный рынок, больше похожий на трущобы, вырулить на узкое шоссе, проложенное к поселку, который состоял из домов-кондоминиумов, отгороженных от хаоса стройки бетонным забором. Окна домов смотрели на все это утонувшее в грязи безобразие хмуро и сонно.
Им пришлось обогнуть по кругу еще один поселок, расположенный чуть дальше от шоссе, – здесь, среди старых обветшалых дачных домов, высились новые особняки из красного кирпича. Проселочная дорога нырнула в перелесок, что располагался между поселком и шоссе.
Катя увидела полицейские машины. Гущин остановился – дальше пешком, недалеко.
Стоя на опушке этого клочка подмосковного леса, Катя огляделась по сторонам. От поселка их отделяло не более полукилометра. Еще ближе располагалось Калужское шоссе с перепаханными строительной техникой обочинами. В грязи навалены бетонные сваи, трубы, тут же горы мокрого песка. А вдали среди всего этого грязного строительного хаоса маячат два здания прекрасной архитектуры – словно два корабля, все сплошь из стекла – такие, что и в центре Москвы особо не встретишь, потому что подобная продвинутая «стеклянная архитектура» – редкость.
Здания под офис-центры суперсовременной конструкции построили в «жирные» годы, когда цены на столичную недвижимость нещадно росли и фирмы и компании перебирались за МКАД.
И вот эти чудесные стеклянные корабли сейчас выглядели так, словно сели на мель среди океана глины, израненной земли, ям и колдобин. Немытые витражи окон и стен покрывала толстой коркой серая пыль и коричневая взвесь глины. Все подъездные пути были разрушены и разбиты. Суперсовременные стекляшки выглядели мертвыми и заброшенными.
Позже Катя все вспоминала это место, полное почти физической боли изнасилованной стройкой земли. Это были идеальные декорации для Смерти. Для той неглубокой могилы, в которой они обнаружили первого мертвеца.
Труп в лесу, как сообщил подошедший к полковнику Гущину оперативник, обнаружила собака. Ее хозяин отправился прогуляться со своим четвероногим питомцем из поселка в местный лес. Спустил пса с поводка, пес нырнул в заросли и начал хрипло лаять. Когда хозяин подошел, то увидел, что тот остервенело роет палые листья и землю и рычит, словно учуял под землей что-то опасное. Затем пес вцепился зубами в какую-то синюю ткань или пластик и начал тянуть, продолжая рыть землю. Когда его хозяин подошел и начал оттаскивать пса за ошейник, то увидел в разрытой дыре нечто.
Ногу в ботинке.
– Он сразу позвонил в полицию. Мы приехали, – сообщил Гущину оперативник. – Самого очевидца попросили задержаться. Он возле машин, собака там же. Не псина, а монстр.
Гущин глянул на очевидца издалека, подходить не стал. Катя подозревала – потому что рядом маячила эта псина. Не какой-то там домашний любимец – ретривер или мопс, даже не овчарка – огромный черный мастино-наполитано. Зверюга устрашающего вида с морщинистой мордой, заляпанной слюной и приставшей к ней хвоей и грязью, и налитыми кровью глазами навыкате.
Неудивительно, что с таким чудовищем его хозяин уходил гулять в лес, подальше от поселка. Пес скалил зубы и глухо рычал на полицейских.
Полковник Гущин попросил, чтобы с очевидца сняли показания по форме и отпустили восвояси – вид пса его нервировал.
Оперативник повел их в заросли.
То, что им предстояло увидеть, находилось в небольшой промоине рядом с пнем поваленной ели.
Катя снова оглянулась назад – отсюда Калужское шоссе не видно. Кругом кусты. Здесь очень компактное, замкнутое, закрытое пространство.
– Неглубокая могила, – сказал оперативник. – Воспользовались промоиной, немного подкопали и забросали сверху тело землей и листьями. Собака легко учуяла запах.
Сейчас, когда лесная могила была вскрыта полицией, Катя тоже ощутила этот запах. Его ни с чем не спутаешь. Запах разложения.
Что-то синее… Типа клеенки или пластиковой шторы для душа – там, в этой рытвине.
Эксперт-криминалист кивнул им и осторожно откинул измазанный глиной саван.
И сразу что-то там побежало, поползло, извиваясь, корчась, пытаясь скрыться от света. Катя быстро отвернулась. Насекомые. Падальщики. Жуки, черви, личинки-трупоеды. Пусть они снова зароются в землю. Потому что наблюдать за их пиршеством нет сил.
Через несколько секунд она все же заставила себя посмотреть. Но широкая спина полковника Гущина заслонила от нее то, что было внизу. Потом он чуть переместился влево, и Кате словно по фрагментам стало являться место захоронения.
Осыпавшиеся стенки ямы. Желтая, измазанная чем-то бурым кость – позвоночный столб, торчащий из туловища. Дикое, нелепое зрелище – часть позвоночника, торчащая прямо из воротника грязной куртки серого цвета.
Катя закрыла глаза. Глубоко вздохнула.
Зачем Гущин привез меня сюда?
Это был труп мужчины без головы и кистей рук. Из воротника куртки торчал острый фрагмент позвоночника. Из задравшихся, пропитанных бурым – наверняка кровью – рукавов торчали разбитые кости.
Серая куртка не застегнута. Под ней – залитый кровью серый шерстяной свитер. Грязные джинсы спущены вместе с трусами до колен, и там, в области половых органов…
Катя снова отвернулась.
– Ни головы, ни рук. Мелкие осколки, фрагменты костей. Не пилой отчленяли, – полковник Гущин склонился над ямой. – Убийца сделал все, чтобы тело не опознали.
Катя отошла чуть подальше – запах гниения выворачивал наизнанку. Да, отсутствие головы и кистей рук говорит о том, что были приложены усилия, чтобы убитый остался неопознанным. То, что отчленили кисти, говорит еще и о том, что убийца знал, что личность жертвы можно установить по отпечаткам пальцев. А это возможно лишь в случае, если жертва была ранее судима.
– Криминальные разборки? – спросила Катя по репортерской привычке – лишь бы говорить, не думать, не смотреть туда, а то вырвет. Голос ее звучал странновато, потому что она все пыталась между словами дышать ртом и ни в коем случае не носом – эта вонь!
– Не знаю, – ответил Гущин. – Факт, что голову и кисти ему оттяпали чем-то не похожим на пилу. Варварски оттяпали. И потом эти пятна в паху, похоже на ожоги… Какова давность смерти, по-вашему?
Это он спросил у местного эксперта-криминалиста.
– Вскрытие даст точный ответ. По моему мнению, судя по состоянию тела, не менее трех дней, – ответил тот. – Мы его на месте осматривать не будем, аккуратно извлечем и отправим патологоанатому. Состояние трупа таково, что осмотр и исследование надо проводить комплексно, в прозекторской. Я созвонился с коллегой Сиваковым. Он сегодня дежурит по области, и у него окно. Он сказал, чтобы труп везли прямо к нему.
Катя поняла: состояние нашпигованного червями и жуками тела таково, что эксперт боится, что оно лопнет, расползется у него прямо в яме, если он будет его там ворочать, осматривать.
Эксперт и оперативники начали доставать тело. Гущин внимательно наблюдал за их действиями. Когда труп покинул свою неглубокую могилу, полковник осмотрел яму – там ничего не было, кроме земли и палых листьев.
– Судя по всему, убили не здесь. Сюда привезли и похоронили. А что стало причиной смерти? – спросил он эксперта. – Раны на половых органах?
– Что-то я сомневаюсь, – ответил тот. – Они выглядят скверно, однако это все внешние повреждения. Возможно, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Но головы его у нас нет. Экспертиза что-то прояснит – состояние его внутренних органов, анализ крови.
Гущин натянул резиновые перчатки и сам лично обыскал куртку безголового.
– Ничего. В карманах пусто – ни документов, ни бумажника, – он хотел было перейти к обыску спущенных брюк, уже потянул на себя ткань, пытаясь расправить, однако эксперт помешал ему.
– Федор Матвеевич, нет. Оставьте осмотр до лаборатории. А то я боюсь, что мы его внутренности с листьев начнем собирать.
Гущин сразу же отступился. Экспертов он всегда слушал.
Пока тело очень осторожно, на брезенте, несли в вызванную «труповозку», он спросил у местных оперативников, что с осмотром прилегающей территории.
– Сами видите, какой листопад, – оперативник показал на толстый слой палой листвы под ногами. – Там, там и там зафиксировано нарушение слоя листьев и перегноя, похоже на след волочения. Труп волокли до этого места на той самой синей шторе для душа, которой потом тело и накрыли при закапывании. Следов ног того, кто это сделал, на этой почве мы не нашли и не найдем. Следов машины нет. Его сюда волоком тащили.
– Ясно, что не оттуда, – Гущин кивнул на заросли, за которыми гудело Калужское шоссе. – Скорее всего, приехали по проселочной дороге. Возможно, ночью.
– Почему ночью? – спросила Катя.
– Риска меньше, – ответил Гущин. – Хотя сейчас темнеет уже рано. И я не думаю, что убийца местный.
– Почему? – Катя уже заинтересовалась.
– Местный нашел бы другое, гораздо более пригодное и уединенное место в этом лесу. А тут ясно – воспользовались первой попавшейся ямой недалеко от проселка. Постарались поскорее избавиться от тела, даже закопали кое-как. Собака вон в одночасье нашла.
– Значит ли это, что и убитый – тоже не здешний?
Гущин глянул на нее. И она увидела на его лице – обычно бесстрастном, порой даже ленивом – тревогу.
Она никак не могла взять в толк, отчего полковник Гущин так встревожен. Мало ли было в его практике неопознанных тел? Мало ли трупов, лишенных головы и кистей? Криминальные разборки. Скорее всего, это какой-то браток-уркаган. Свои же и прикончили. И сделали все, чтобы ни по фотографии, ни по отпечаткам пальцев из полицейского банка данных его не опознали.
Печально, конечно, если это дело так и останется глухим висяком, глухарем, как выразился полковник Гущин. Но мало ли? Что поделаешь? Не все убийства раскрываются. Такова реальность.
Но этот взгляд Гущина…
– Федор Матвеевич, что с вами? – тихо спросила Катя. – Я же вижу – что-то не так. И вы… вы словно привидение увидели.
Гущин лишь глянул на нее снова.
– Посмотри на его раны. – Он наклонился к ней близко, шепнул: – На кости рук. Он был еще жив, когда руки ему отрубали. Видишь, вся ткань куртки на рукавах и на полах пропитана кровью. Он был еще жив… Начали не с головы. Это дело плохое. Это дело совсем дрянь.
Катя ощутила холодок, пробежавший у нее по спине.
Почему-то она сразу в ту минуту поверила Гущину на слово.
Но потом тут же усомнилась – нет, нет, такое уже бывало раньше, трудности для опознания, криминальная разборка…
Она хотела сказать, что уж в морг, в прозекторскую, она ни за что не поедет! Пусть уж Гущин с Сиваковым там сами…
Но что-то ее остановило.
Катя впоследствии все думала: что же ее тогда остановило? Она ведь не хотела ввязываться в это дело с изувеченным телом. Она не испытывала никакого репортерского любопытства. Обычно это было движущей силой всех ее поступков. Но в этот раз – нет. Ей, наоборот, хотелось убраться оттуда подальше. Но она не убралась. Она поехала вместе с Гущиным на вскрытие.