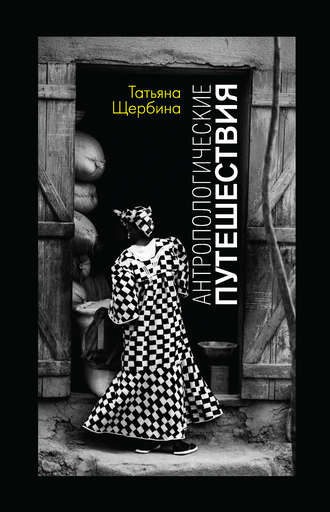
Татьяна Щербина
Антропологические путешествия
Во Франции городские проблемы решаются сообща: мэром и жителями. К какой бы политической партии ни принадлежал мэр, он не позволит себе что-то рушить или строить ради сиюминутной выгоды, а горожане всегда готовы придумывать всякие усовершенствования. Так произошло и здесь: два театральных деятеля, продюсер и специалист по машинерии, придумали проект, мэру он понравился, и проект уже воплощается в жизнь. Называется «Машины острова». Остров решили разделить на две части, жилую – здесь будет раздолье архитекторам, которые смогут построить фантазийные дома (в исторической части, понятно, ничего не тронь): поскольку «вписывать» не во что, творить можно свободно – и рекреационную. Тут будет сорокапятиметровое «дерево» – гигантская металлическая конструкция с деревянной отделкой в форме баобаба, на ветвях которого будут висячие сады, а на самом верху – «птицы»: в них можно будет летать вокруг дерева, этакий новый вид колеса обозрения. На нижних ветвях расположатся бары-рестораны, и по многочисленным висячим мостикам можно будет взбираться по «дереву». Часть его уже стоит, полазать можно и сегодня, а целиком дерево вырастет только через несколько лет.
Авторы проекта Франсуа Деларозьер и Пьер Орефис сделали свои мастерские открытыми для публики, каждый может наблюдать за тем, как продвигается работа, над созданием машин трудятся сорок пять человек. В зале экспонатов зрители катаются на деревянных рыбах, крабах и осьминогах, впоследствии они займут свое место в другом огромном сооружении – морской карусели, ее открытие готовится в 2009-м. Сейчас же по острову бродит первая готовая машина – слон. Размером он в несколько раз больше настоящего (12 метров высотой), на него забирается группа человек сорок, и он, издавая рев, отправляется из «стойла» на прогулку по острову. Чтоб никого не задавить, слон пускает из хобота фонтан. Кто не отреагировал на рев, призывающий посторониться – вынужден будет бежать, как демонстрант от водомета. Слон перебирает своими деревянным ногами (внутри, понятно, все металлическое) как настоящий, идет к набережной, делает круг и возвращается домой. Так он совершает пять прогулок в день.
Как говорит один из авторов проекта, Пьер Орефис – идея заключалась в том, чтоб соединить животное и машину, театр и улицу, «воображаемые миры» Жюля Верна, механику Леонардо да Винчи и индустриальную историю Нанта. А в практическом плане – чтоб это был не обычный парк аттракционов, где дети развлекаются, а взрослые за ними присматривают со стороны, а чтоб на равных. «Машины острова» – и движущиеся скульптуры, памятники судостроительной истории города (сочетание дерева и механизма), и «парк культуры и отдыха», сделанный не в резервации, за забором, а рассредоточенный по острову. Впрочем, культура как таковая – выставки, концерты, спектакли – сосредоточена в другом месте, называемым Lieu Unique. Название возникло из идеи сохранить инициалы LU – все, наверное, знают печенья и кексы этой марки, продающиеся повсюду в мире. В 1846 году в Нант приехал молодой человек по имени Lefevre (Лефевр), и чтоб заработать на жизнь, стал печь печенья. Печенья так понравились нантцам, что он быстро разбогател и открыл завод – спрос на его печенья вышел за пределы города, а потом и Франции. Женился господин Лефевр на девице по фамилии Utile (Утиль), так что его завод стал называться LU, эти инициалы красуются на башне, венчающей здание в стиле арт-деко. Теперь на сорока тысячах метрах бывшей фабрики печений, самых распространенных в мире (снаружи и не подумаешь, что внутри могла быть фабрика) – галереи, бутики, концертные залы и даже баня. А марку в 2007 году поглотил гигант Данон, поскольку большая рыба рано или поздно угодит в пасть кита, и печенья выпускаются уже не в Нанте.
LU остался номинальным символом Нанта, чья история сегодня расположилась на семи этажах великолепного музея, бывшего дворца королевы Анны Бретонской, а «Машины острова», скорее всего, станут его новой эмблемой. Сохраняясь как музей, Франция никогда не забывает изобретать будущее. Как сказала мне русская подруга, обитающая между Парижем и Москвой: приезжаешь в Россию – все говорят о близости апокалипсиса, и он действительно чувствуется, оказываешься во Франции – и нет никакого апокалипсиса.
2008
Прошлое

Вроде есть вещи, которых будет хотеться всегда:
замки, устрицы, пальмы – ничего подобного,
Атлантический океан – как с гуся вода,
виноградник в колечках – сто раз опробованное —
прованские маки, оливковые стада,
овечки вечности с боков поездов сверхскорых,
а люди, которые, без которых..?
Простолюдины, как оказалось.
Даже не ангелы, падшие или павшие
в сраженьях с космической темной кашей —
просто летняя буйность и зимняя чахлость,
гормональные крылья,
в порывах как бы нездешней пыли
не успеваешь ахнуть.
Поиски личного краха -
сбагрить себя в объятия вертопраха,
обновленная версия замусоренного «я» —
нелицензионная,
так что ей понадкусывают края
и надорвут клаксоны.
Хотелось друзей вытащить из щелей,
а они там ссохлись и стали хрупки,
посадить на клей
лапки их, стебельки, скорлупки -
ушки склеиться могут, такая ценность.
Прошлое значит «перехотелось».
Рона-Альпы: высокая Франция

Монблан – самая высокая точка Европы. Рона – самая полноводная и бурная река Франции, питающая Средиземное море. Те, кто рождались на берегах Роны, в окружении вечнозеленых склонов и вечноснежных вершин, будто стремились им уподобиться. Потому регион Рона-Альпы – родина великих изобретателей и просто изобретательных людей. Которые сумели превратить бедную, не имеющую видимых ресурсов, горную деревню Межев, в фешенебельный курорт, а умирающим сегодня фермам Вуарона нашли новое применение. Здесь братья Люмьеры изобрели кино и еще 173 новинки прогресса, Жан-Жак Руссо с прогрессом боролся, став первым экологистом, гренобльцы затеяли французскую революцию, жители Аннси сделали свое озеро самым чистым в Европе, а шартрезские монахи придумали элексир долгой жизни. В Шамони изобрели альпинизм, виноделы Божоле ухитрились прославить простенькое вино на весь мир, савойцы купили и хранили плащаницу Христа, которая защищала их от чумы. За последние десятилетия рональпийцы сделали свой регион мировой столицей кулинарного искусства, покорять всевозможные вершины для них – образ жизни.
Лион-Люмьер
Лион – древний город, он существовал еще до н. э. и назывался Лугдунум (сократившись в течении веков до Лиона, это же слово означает по-французски – лев), во времена Римской империи был столицей Галлии, теперь это – второй город Франции. Его обширная историческая часть сохранилась настолько хорошо, что занесена в мировое наследие ЮНЕСКО. В XV веке, когда ткачей во Франции стало больше, чем покупателей хлопка, лионцы не растерялись и завезли из Китая технологию изготовления шелка. Посадили массу тутовых деревьев, которыми питается шелкопряд (ими и теперь окаймлены лионские тротуары), и стали шелковыми монополистами, пока ткачи не восстали против хозяев с оружием в руках почти за полвека до французской революции. Сегодня от шелковой традиции остались платки фирмы Гермес и длинные крытые переходы между домами – трабули: их построили специально для того, чтобы рулоны шелка при переноске не намокли под дождем. Если знать трабули – всего их 350 – по старому городу можно передвигаться с комфортом, скрываясь от пекла и ливней. Изобретательность у местных жителей в крови.
Антуан Люмьер был бедным живописцем, а жена его – прачкой. Антуана увлекал прогресс, поэтому он отдал сыновей, Огюста и Луи, в технический колледж, а сам сменил кисть на фотоаппарат. Слово фотограф тогда еще не родилось, это все равно был «художник», тем более, что отпечатки приходилось прорисовывать от руки. Самой большой проблемой фотографирования было то, что стеклянную пластину надо было намазывать эмульсией непосредственно перед тем, как вставить ее в аппарат и начать снимать. Снять кадр занимало не секунду, как теперь, а многие часы. Антуан экспериментировал, пытаясь изобрети сухую эмульсию, чтоб фотографировать можно было не только в лаборатории. Но тщетно. Секрет светочувствительности нашел его сын Луи и открыл в 1882 году маленький заводик по производству фотопластин. Через десять лет завод выпускал 18 миллионов пластин в год, так что это Луи положил начало любительской фотографии. Семья Люмьеров быстро разбогатела, и распределение ролей было таким: Луи – гений, его брат Огюст – менеджер, их отец Антуан – транжира. Антуан настолько был потрясен свалившимся с неба богатством, что начал строить дома, шутили, что у него «каменная болезнь». Он завел особняки по всей Франции, хотя семья жила только в одном из них, под Лионом, напротив семейного завода. Выход рабочих с завода – первые кинокадры в истории. Теперь в особняке – дом-музей и институт Люмьеров, и только ради того, чтобы побывать здесь, стоит приехать в Лион. Первую кинокамеру Луи соорудил из швейной машинки и оптического ружья, сто первая по сравнению с ней – как ноутбук рядом с ЭВМ. Ею снимают до сих пор – раз в год дают в руки великим режиссерам, приезжающим сюда, поскольку Институт Люмьеров – Мекка кинематографа. Здесь не только выставлены аппараты и фотографии, можно посмотреть и все ранние фильмы.
Луи изобрел пластину для цветного фото, граммофон с плоской мембраной вместо колокола, протез кисти руки, панорамную фотографию и еще массу вещей, оставшихся в тени его главного изобретения: кинокамеры и самого кино. Первый фильм Люмьеры решили показать в Париже: сняли Гранд-кафе, поставили 33 стула, повесили афишу: «Кинематограф» (названия фильмов поначалу не писали, да и содержание их не имело значения – впечатлял сам факт движущейся картинки) и приготовились продавать билеты. Но никто не пришел. Тогда Антуан позвал своих состоятельных друзей, с которыми свел знакомство по ходу «каменной болезни» и попросил их купить билеты на сеанс. Цену назначили в 1 золотой франк, сегодняшняя цена билета в кино осталась ему эквивалентна. Друзья пришли, Антуан заплатил хозяину кафе проценты с выручки, но тот, видя, что зазвать народ на «Кинематограф» непросто, сказал, что хочет получать по 30 франков в день, вне зависимости от количества сеансов и публики. Они заключили контракт на год, но уже через неделю на диковинные показы собралась толпа в три тысячи двести человек. Пришлось вызывать конную полицию. Прибыль росла день ото дня, а хозяин так и получал свои 30 франков. Друзья же, первыми поддержавшие «Кинематограф» – Гомон, Пате и другие, стали его знаменитыми дистрибюторами. Поначалу зрители воспринимали кино не как плоскую картинку, а как возникающую в воздухе реальность, и когда в знаменитом люмьеровском фильме «Прибытие поезда» поезд поехал, все в панике разбежались, думая, что сейчас он их задавит.
Есть и некоторая мистика в имени Люмьера: Люмьер, всю жизнь экспериментировавший со светом – в фотографии и кино, носил фамилию, означающую «свет». Кроме того, его родной Лион прозвали городом света, поскольку каждый год 8 декабря во всех окнах города зажигаются свечи. Впервые это произошло в 1852 году: открытие статуи Девы Марии переносилось в течение трех месяцев – возникало то одно, то другое препятствие, и когда, наконец, статую открыли, жители, не сговариваясь, зажгли в окнах свечи и высыпали на улицы, как в большой праздник. Постепенно он и стал праздником города, длящимся четыре дня. Многие приезжают в Лион специально на световые феерии. Вероятно, в связи с этой традицией в Лионе возник «план света» (Plan Lumiere – опять двусмысленность): освещать ночью фасады домов. Потом это нововведение распространилось по Франции и по всему миру.
Второй после Люмьера знаменитый лионец, Антуан де Сент-Экзюпери, так прославился в качестве писателя, что мало кто знает о том, что и он был изобретателем: ему принадлежат пятнадцать патентов – устройства и приспособления для приземления самолетов (он был летчиком), в том числе, в отсутствие видимости. Так что никаким другим именем и не могли назвать лионский аэропорт.
Божоле
Недалеко от Лиона, в долине Роны, растут виноградники Божоле. С вином региону не слишком повезло. Виноградники большие, а урождается один сорт гамэ (gamay), в то время как «великие вина», как их называют во Франции, делаются из трех сортов, да и среди ординарных вин Божоле – не в первых рядах. А для французов вино – предмет гордости. Божоле происходит от названия городка Божё (в переводе – «красивая игра») и означает территорию вокруг этого места, так же как вина Бордо делаются не в городе, а в Бордоле – бородосской области. С давних, феодальных еще времен, так повелось, что владельцы виноградников Бордо сами занимались виноделием и к работникам своим относились уважительно, а хозяева Божоле забирали у работяг все, так что те могли попользоваться лишь молодым вином. Оно хранится недолго, выпивать приходилось быстро, но каждый год это был праздник: появилось новое божоле – можно выпить. В наши дни, в начале 60-х, виноделам божоле, помнившим традиции предков, пришла в голову счастливая мысль: устраивать праздник нового вина по всей Франции, а потом и по всему миру. “Le Beaujolais nouveau est arrive!” (Новое Божоле пришло!) – формула, которую знают теперь и в Москве. Рекламная кампания была придумана настолько удачно, что во многих странах люди считают Божоле лучшим французским вином. Крупнейший дистрибютор Божоле Жорж Дюбёф не только наладил международную сеть продаж, но и построил «Хутор Божоле» (Le Hameau du Beaujolais) – нечто вроде диснейленда, посвященного вину. Здесь показывают трехмерные фильмы об истории вина, кукольные представления, спектакли автоматов, по десяти гектарам хутора курсирует маленький поезд, в саду растет все то, с чем дегустаторы сравнивают вино: деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды – сад запахов и вкусов. Развлечение на целый день, с рестораном и дегустационным залом, естественно. Так что «красивая игра» оправдала свое историческое название. Надо сказать, что Божоле первым наладило путь сообщения между Парижем и югом Франции. Бывший вокзал, построенный в 1864 году, тоже – часть хутора Дюбефа, Божоле первым из вин сумело найти себе массовый рынок сбыта. Рональпийцы и здесь оказались самыми находчивыми.
Гренобль
Гренобль – столица французских Альп и некогда суверенного герцогства Дофине – город-инвалид. Его разбомбили американцы в конце второй мировой войны, охотясь на немцев, которые не зря звали Гренобль «маленькой Сибирью»: город, окруженный заснеженными зимой горами, был центром французского Сопротивления. Так что фашистов партизаны уже уничтожили, и американцы попусту раскурочили архитектурный ансамбль. Центр Гренобля больше всего похож на Париж. И здесь открылось в 1739 году первое во Франции кафе (после открытия первого ресторана – «Прокоп» – в Париже) – «Круглый стол». Оно открыто и сейчас, а название его связано вовсе не с королем Артуром и рыцарями Круглого стола, а с идеями равенства и братства, которые распространились в Гренобле за полвека до революции. Началась она именно здесь, когда Ассамблея (парламент) Дофине собралась, чтоб потребовать от короля проведения реформ. Король ответил ее роспуском. Парламентарии восстали, и когда королевская армия прибыла для усмирения, народ стал срывать с крыш черепицы и забросал ими солдат. Идея родилась, вероятно, из географического положения города: как написал Стендаль, «здесь каждая улица кончается горой». Можно было бы кидаться камнями с горных вершин, но крыши – ближе. Стендаль, кстати, не любил свой родной город и не упускал случая лягнуть его пером, в частности, ему казалось, будто «фасады перестроены двадцать лет назад», хотя еще далеко было до этих уродливых бетонных коробок 60-70-х годов, заткнувших дыры, проделанные бомбами, но горы, взявшие город в кольцо, возможно, и навевали депрессию в начале 19 века, когда еще не существовало альпинизма, лыжного спорта и зимних Олимпийских игр. Не было и «шариков» или «яиц» – это уникальный здешний городской транспорт: канатная дорога, на которой подвешены четыре прозрачные сферы, перевозящие из нижней части города в верхнюю, на гору Шартрез. Больше нигде так не полетаешь над городом в прозрачной скорлупе. «Яйца» на Пасху даже украшают – яйца все же.
Гренобльские изобретатели почему-то персонально не прославились, хотя это город, где ученых больше, чем булочников – 17 тысяч. Здесь разработали плоский экран компьютера, здесь трудятся нанотехнологи, но наглядными остались лишь две придумки: «дофинский гратен» (le grattin dauphinois) – картошка, запеченная со сметаной, и инфраструкутра города, приспособленная для инвалидов, в том числе, трамвай без подножки. Рона-Альпы – вообще пионер в этой области, если инвалид захочет путешествовать, ему – сюда.
Вуарон-Шартрез
Шартрезский горный массив и Вуаронские просторы – редкий во Франции заповедник дикой природы. В 1084 году монахи основали здесь свой орден. В отличие от других орденов, утверждавших христианство с мечом в руках или в спорах о церковной доктрине, шартрезцы стали отшельниками. Ушли в леса, добывали там руду и древесный уголь, продавали и на то жили. Однажды монахи, знавшие наизусть все окрестные травы, получили таинственный рецепт эликсира долгой жизни и заказ создать его. Брат Жером Мобек составил элексир, а потом на его основе и ликер Шартрез, менее крепкий, состоящий из 130 трав и меда. После этого два века монахи не знали покоя, скрываясь от преследователей, которые хотели выкрасть рецепт. В конце концов, король получил рецепт, но вернул обратно: королевские аптекари сочли его непонятным и неосуществимым. А секрет изготовления знали только два монаха ордена, передававшие его другим двум монахам перед своей смертью. Так продолжается по сей день: зеленый (55 градусов) и желтый (40 градусов) «Шартрез», а также сам эликсир (71 градус) делают два монаха в дубовых бочках и медных чанах своего заводика в Вуароне, монастырь их тоже находится неподалеку, в Шартрезском природном парке. В этих местах производств мало, и все они – маленькие, зато знаменитые: в Вуароне, например, производят лыжи Россиньоль (Rossignol). Есть здесь и озеро – Паладрю. Одна частная компания купила его, и это единственное частное озеро во Франции. Так что всем желающим половить в нем рыбку приходится платить не только за лицензию на ловлю (во Франции же все делается по закону!), но и за «аренду» озера. Но купили его не для того, чтоб нажиться на рыбаках-любителях. Владельцы затеяли на дне озера раскопки и уже раскопали много интересного. Дно – известковое, и все, что когда-либо, тысячи лет назад, падало в Паладрю, оказалось обернутым в мел, как в непроницаемый кокон. И доставаемые сегодня предметы сохранились в первозданном виде, отчего раскопки приобрели международный статус.
По берегам озера стоят старые фермы. Просторы в Вуароне российские, так что у каждой фермы земли – необозримо. У Кристианы ферма наследственная – и стада были, и козы, и куры, и поля плодоносили, а ее муж Патрик двадцать лет проработал булочником. Теперь сельское хозяйство свернулось, и семья осталась без работы. Но рональпийцы всегда что-нибудь придумают. Исчезли покупатели яиц и молока – их можно купить в любом магазине, зато количество путешественников увеличилось на порядки. И Патрик с Кристианой оборудовали на своей бывшей ферме chambres d’hote – комнаты для гостей. Это совсем не то что отель: здесь живешь как дома, питаешься вместе с хозяевами, общаешься, у каждого гостя своя комната с ванной и туалетом. Деревенский уют, озеро, тишина, на лугу пасутся хозяйские лама и лошадь, в подклети – белые голуби и попугаи. И стоит этот отдых на природе копейки. Хозяевам нравится новое дело: в гостиной висит карта мира, истыканная разноцветными кнопками: они отмечают страны, гостей из которых принимали. Теперь у них появилась и Россия. Одновременно со мной на ферме остановились два инвалида в колясках (для них здесь специально оборудованные комнаты), журналист из региональной газеты, предприниматель, уставший от городской суеты, и мы все вместе ели дофинский гратен, салаты с грядки, сыры собственного изготовления и домашний пирог.
Шамбери
Жан-Жак Руссо, прибывший из Женевы в Шамбери и проживший на окраине города в поместье Шарметт «единственный счастливый период в своей жизни», настолько проникся экологическим, как сказали бы теперь, сознанием, что дальше всю жизнь порицал прогресс (а какой уж особенный прогресс был в середине 18 века!), считая, что страсть к роскоши истощает Землю, и стал автором бестселлера «Новая Элоиза», романа в письмах. Это были письма к его возлюбленной, с которой они встретились в Шамбери. Руссо считал, что весь свой «магазин идей» он обрел именно здесь. Теперь в Шарметт – дом-музей, где два раза в неделю играется костюмированный спектакль: посетитель как бы попадает в XVIII век в гости к самому Жан-Жаку. На удивительных кроватях спали тогда люди: коротких, с десятком подушек – почти сидя. Потому что боялись позы смерти: лежат только покойники.
О том, что Вы приближаетесь к Шамбери, указывает крест на горе напротив. Католический дух, выветрившийся из светской Франции, чувствуется здесь повсюду. Внутри церквей – иллюзия рельефов, каменной резьбы, на самом деле – это рисунки-«обманки» пьемонтских мастеров двухсотлетней давности. Эти «обманки» были первыми, так что шамберийцы ими гордятся. К обманкам пришлось прибегнуть, поскольку церкви были разграблены и разрушены проклятыми революционерами. Для гренобльцев революционеры – рыцари равенства и братства, для шамберийцев – разбойники. Американцы тоже разбойники: в конце второй мировой уничтожили треть города, сбросив на него 720 бомб (жители сосчитали), но в отличие от Гренобля Шамбери залатали не бетонными коробками, а создали иллюзию архитектурного ансамбля. Центр Шамбери – это XIV–XV век. Поскольку раньше здесь текли речки, а местность была болотистой, то дома строили на высоких столбах, и улиц как таковых не было, улицы – это туннели в самих домах, а еще шамберийцы умудрились построить подземные туннели, высотой в человеческий рост. Шамбери был столицей большого Савойского герцогства, простиравшегося до Ниццы, Женевы, Турина, и только в 1860 году Савойя распалась на три части: одна отошла к Франции, две другие – к Италии и Швейцарии. Но и сегодня жители Савойи (теперь так называются департаменты – Савойя и Высокая Савойя) чувствуют единство со своими соседями-альпийцами.
В Шамбери уцелел герцогский дворец и Святая Часовня. Звание «святой» носят две часовни: Сан-Шапель в Париже, где хранится терновый венец, и Сан-Шапель в Шамбери, где хранилась плащаница Христа. Она уже давно в Турине, но звание у часовни осталось. Плащаницу купил в 1453 году савойский герцог Луи. Как считается – для того, чтобы привлечь паломников, то есть, деньги, и действительно, приезжих в столице стало тогда вдвое больше, чем местных жителей. Но не только экономике помогла святыня. Когда разразилась эпидемия чумы, она не затронула Савойю, и миланский архиепископ собрался идти пешком в Шамбери, чтоб поклониться чудодейственной плащанице и тем спасти зачумленный Милан. Савойский герцог решил избавить старика от длинной дороги и сам привез плащаницу в Турин, чтоб архиепископ забрал ее там. Это было 14 сентября 1578 года. Турин так никогда и не вернул плащаницу, и она стала называться туринской. Столицу Савойи тоже пришлось перевести в Турин, поскольку Франция, с которой савойцы воевали веками, захватила Шамбери, правда, на время. А в 1860-м савойцы сами проголосовали за присоединение к Франции, и если что изменилось от этого в их жизни, так это вспыхнувшая страсть к шоколаду. В Шамбери его ели больше, чем где бы то ни было. Страсть породила мысль сделать шоколадным самый драгоценный продукт – трюфели. Шоколадные трюфели покорили мир, а кондитерская-родоначальник сохранилась в первозданном виде – единственное уцелевшее деревянное здание в Шамбери. И там продолжают делать трюфели. Город давно привык быть скромным – не то что во времена, когда здесь останавливались короли. Генрих IV жил в нынешнем памятнике архитектуры – отеле с высокой башней (чем выше башня – тем богаче владелец), тогда, в 16 веке, отелем назывался богатый дом, где останавливалась знать, а для простых путешественников были auberges (постоялые дворы). Теперь и отели, и «комнаты для гостей» есть на любой вкус и кошелек.
Аннси
Речки в Шамбери замостили еще триста лет назад, а Аннси, город 12 века, не знавший ни революции, ни бомбардировок, остался французской Венецией. Аннси стоит на рукавах, вытекающих из озера, раньше к каждому дому можно было подплыть на лодке или подъехать на лошади с противоположной стороны. Теперь каналы объявлены неприкасаемыми, и только террасы домов романтично расположились у воды. Рукава были бурными, но их давно научились смирять, и первые дамбы, хоть и подстрахованные современными, продолжают служить. Озеро Аннси – самое чистое на свете. В него стекают горные реки, городские отходы сливать запрещено, а систему очистки здесь поначалу поставили такую, что даже рыба пропала, пришлось ослабить фильтры. В Аннси вся вода – питьевая и минеральная, из озера, из фонтанов, из водопровода. Озеро теплое – как море, и отдых – не в толпе и среди красот: горы, замки, зелень. Рядом Экс-ле-Бан с самым большим во Франции озером Бурже и термальными источниками. Эффект явственный: я вошла в серный бассейн с синяком, а вышла без него. В Аннси построили велосипедную дорогу на 35 км, идущую в Альбервиль (третий, после Шамони и Гренобля, олимпийский город) – сюда не допускаются машины. Регион вообще переходит на велосипеды: на любой из многочисленных стоянок его можно взять и на любой другой оставить.
Левый берег озера – демократический: кэмпинги и аппартаменты, правый – дорогие отели. Один из них – отель-музей: бывшее аббатство Таллуар 17 века, где сохранилось все как было, и суперсовременная начинка нисколько не диссонирует со старыми деревянными дверьми, натертыми воском лестницами и арочными сводами. В регионе все старые дома построены аркадами, так прочнее: там, где горы – почва подвижная, и прямоугольная конструкция долго не простоит. Хозяйка отеля – словенка, понимает по-русски, а один из акционеров – актер Жан Рено. Здесь останавливались и Черчилль, и Никсон, а Поль Сезанн прожил почти полгода, написав свою знаменитую картину «Озеро Аннси» и множество акварелей. Отель – он же картинная галерея, он же – концертный зал, летом здесь устраивают спектакли фейерверков на воде, винный погреб такой, что можно найти вина столетней давности, которых в мире осталось несколько бутылок. В «Аббатство Таллуар» я зашла просто посмотреть на историческое место, и уходить не хотелось. Хозяйка пригласила посидеть в саду, принесла воды и печенья, предупредив, что воробьи очень любят одно из них, «мадлен», и вправду, воробьи так и кружились, норовя «мадлену» украсть, а потом просто выхватили из пальцев. В Аннси повсюду так, птицы не боятся людей, потому что их никто не гонит. По заветам Руссо, здесь живут в согласии с природой, по всему Аннси висят таблички, на каких раньше красовались девизы городов: «Аннси находится под видеонаблюдением». И люди ведут себя так, будто на них смотрит глаз Божий.
Межев
Аннси – это уже Высокая Савойя, рядом есть пару подъемников, но настоящая высота начинается в Межеве. Весь Межев застроен шале – деревянными домами, и кажется пряничным городком. Дизайн – альпийский: двери, даже металлические двери лифтов, разрисованы цветочками, всюду разложены гобеленовые подушечки, звенят колокольцы расписных карет, запряженных лошадьми. Строгое правило: кучером может стать только межевский фермер, это чтоб сторонние люди не зарились на легкий заработок, а шла бы помощь сельскому хозяйству, переживающему в эпоху глобализации тяжелые времена. По историческому центру (Межеву – восемьсот лет) передвигаться можно либо пешком, либо в каретах. Здесь всего-то 4,5 тысячи жителей, а туристов – в десять раз больше. Наряду с Куршевелем это – самый роскошный горный курорт. В Куршевель едут на ярмарку тщеславия, в Межев – скрыться от телекамер и пересудов. В Межеве это закон: не предавать публичности имена своих гостей. В шестидесятые еще не бегали от папарацци и поклонников: Эдит Пиаф, Роже Вадим, Жан Кокто были шумными завсегдатаями Межева и прозвали его «21-ым округом Парижа». Здесь сплошь дорогие бутики, 91 ресторан, из которых несколько со звездами Мишлен, а один – ресторан Марка Вейра – и вовсе культовый. Французы могут не знать певцов и писателей, но поваров-звезд знает каждый ребенок. Рона-Альпы – мировая столица гастрономии. Международный конкурс поваров называется конкурсом Поля Бокюза. Его ресторан – в Лионе, сорок лет подряд ему присваивают три звезды Мишлен (высшая награда для ресторана, таких по миру – пару десятков). Бокюз – патриарх, самый молодой трехзвездный повар – Марк Вейра. Зимой он в Межеве, летом – в Аннси. У французов принято ездить за тридевять земель, только чтоб поужинать в подобном ресторане. Раньше русские путешественники смеялись над культом еды, но постепенно прониклись: в кулинарном искусстве есть свои школы, гении, правила, открытия. Это искусство вдруг стало более убедительным, чем нынешнее изобразительное: художники повадились замусоривать мир и – что самое обидное – исторические места всякой дрянью. На смотровую площадку крепостного замка 13 века в Аннси прикатили гигантское белое яйцо-бельмо, а в буколическом саду дома Руссо расставили красные пластмассовые ящики.
Межевский шеф-повар Эмманюэль Рено (** Мишлен) – «герой соцтруда», как и его друг – булочник-кондитер Реми Кост. Это почти буквально такое звание, в переводе: «Лучший рабочий Франции». В Межеве есть и «послы» – не дипломаты, а местные жители, пенсионеры, которые добровольно и бесплатно помогают туристам. Мы прибегли к услугам одного посла: он довез нас на машине от ресторана Рено «Снежинки из соли» до аэродрома, поскольку за обедом мы пили вино и не могли сесть за руль. За это посла пустили полетать с нами на четырехместном самолете вокруг массива Монблан. Чувствуешь себя орлом, летая между горных вершин, а не сурком, которые тут к концу лета еле передвигают ноги от обжорства. Посла найти просто: обратиться в туристический офис (во Франции они есть в любом, самом маленьком городке и местечке), где говорят по-английски, а в Межеве – и по-русски, и там вызвонят свободного посла.
Межев был беден как церковная крыса. На что построить горную дорогу для связи с миром, чем жить, если даже масло приходится сбивать вручную? До сих пор в Межеве живет пожилая женщина, по привычке продолжающая сама делать масло в ступе, изготовленной ее братом в 1914 году. Спасение пришло в виде Ноэми Ротшильд, которая приехала сюда в первую мировую войну ухаживать за ранеными и дала деревне денег. На них построили шоссе, а дальше благополучие нарастало как снежный ком: водопровод, центральное отопление, подъемники. В 1936 году Арнольд Аллар изобрел лыжный костюм, потом открыл магазин своей марки одежды, теперь этот дом, самый высокий и единственный здесь каменный – символ Межева. Аллар не соглашается продавать свою марку ни в одном другом месте, а среди горнолыжников она стала знаком отличия, и богатые люди залетают сюда на своем самолете, чтоб купить что-нибудь от Аллара. Здесь и конфеты продают собственного изобретения, и нигде их больше не купишь – «льдинки Межева»: шоколад внутри белой меренги. Но Межев – не только зима, хотя тут все для нее, и лыжные станции, и снежный гольф, и снежное поло. Летом здесь часто скрываются от жары. Можно поселиться в пряничной гостинице или снять трехэтажный шале с бассейном, сауной, кухней и горничной. Недешево (например, Chalet des Sens – 25 тысяч евро в неделю в высокий сезон на 9 человек), но шале не пустуют.






