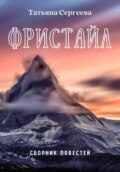Татьяна Сергеева
Торт немецкий- баумкухен, или В тени Леонардо
А зимой грянуло настоящее эпохальное событие, о котором стали подробно писать не только наши газеты и журналы, но и запестрели страницы всех заграничных изданий. Петербург загудел, как встревоженный улей, и моя кондитерская неожиданно стала настоящим центром всяческих дискуссий и обсуждений этих новостей. Дело в том, что в январе 1787 года императрица отправилась в длительное и сложное путешествие в Тавриду. Как писали газеты, целью его была инспекция территорий, только что присоединённых к России в ходе войн с Турцией. В 1783 году Крым был объявлен присоединенным к России. Эти земли были переданы под управление князю Потёмкину, который и занимался организацией сего грандиозного похода около четырёх лет. Конечно, конечно, я хорошо помню, что обещал вам, любезные читатели, избегать описаний знаменательных исторических фактов. И вовсе не хочу утомлять вас, сведениями, которые вы и без моего участия можете почерпнуть в разных исторических источниках. Описанием сего путешествия кто только не занимался: и секретари государыни, и приглашённые послы, и частные лица. Кого интересуют подробности, всегда могут их найти в библиотеках или в старых газетах.
Но в данном случае мне трудно будет избежать кое-каких подробностей, поскольку мой друг Николай Львов, по служебным обязанностям своим, стал непосредственным участником сего похода. Он оставил о сём путешествии великолепные записки, после, когда я едва уговорил его дать мне их прочитать, я просто зачитывался ими. Постараюсь быть по возможности кратким в их пересказе.
В свите государыни по долгу своей секретарской службы находился неизменный Александр Андреич Безбородко, который не отпускал от себя Николая Львова ни на шаг. Конечно, они не ехали с императрицей в её двенадцати местной карете, запряжённой сорока лошадьми (в этой изумительной карете был кабинет с обеденным столом на восемь персон, канцелярия, библиотека и даже (пардон!) отхожее место), но следовали за ней, как говорится, по пятам.
В каждом из городов, в которых по замыслу великого стратега князя Потёмкина, планировался отдых государыни, возводились настоящие Путевые дворцы, которые оснащались мебелью, посудой и столовым бельём. Стены их обивались разноцветной шёлковой материей под цвет изысканной мебели, расписывались художниками, раззолачивались и украшались. Вот эти сведения имеют в моём рассказе главное значение.
Как я уже упоминал, верный друг и ближайший родственник Львова Василий Капнист в то время жил в Киеве и был предводителем Киевского дворянства. Как после подробно рассказывал мне Николай, он встретил поезд императрицы во главе депутации дворянства, и произнёс соответствующую событию речь. Выполнив свой чиновничий долг, Василий оказался в объятиях Николая. Они были необычайно счастливы этой встречей и, что называется, отвели душу. Именно тогда впервые услышал Николай от Капниста имя Владимира Лукича Боровиковского – потрясающего художника, с которым, как всегда у него бывало, случайно завязавшаяся дружба продолжалась до конца его дней. В то время Боровиковского знали немногие лица в Киевской губернии: кого интересовал некий богомаз, вышедший из семьи богомазов. Открыл его как художника именно Капнист. Он с восторгом рассказывал Львову о талантливом самородке, по его рекомендации расписавшем великолепными аллегориями стены в Кременчугском Путевом дворце. Как друзья оказались в этом дворце прежде государыни, я сейчас и не припомню, только Львову не только понравились эти росписи, они его просто потрясли тонкостью живописи и совершенно непривычным взглядом на аллегорию. Путевой дворец в Кременчуге с великолепными росписями произвёл на императрицу большое впечатление. По настойчивой просьбе Львова, (от Безбородки она знала, конечно, что в кругах деятелей искусства звали его «Гением вкуса», и потому особенно прислушивалась к его мнению) она особенно внимательно изучила обе написанные Боровиковским аллегории. Они весьма польстили её самолюбию. На одной из них был изображён Пётр Первый в облике землепашца, и она сама, засевающая поле… Другая аллегория изображала её в образе Минервы в окружении семи мудрецов Древней Греции. Как и просил её о том Николай, Екатерина согласилась встретиться с автором этой живописи. Встреча оказалась благотворной: Екатерина рекомендовала Боровиковскому ехать в Петербург и поступать в Академию художеств. Честно говоря, о том и речи не могло быть – Владимир Лукич был уже не первой молодости… Но решение о переезде в столицу было принято незамедлительно, и художник начал готовиться к отъезду, получив твёрдое обещание от Николая Львова о всяческой поддержке.
Признаюсь, любезный читатель, что столь длительное моё отступления от основного повествования понадобилась мне только для того, чтобы объяснить, как появился в кругу Львова ещё один замечательный человек – великий русский художник Владимир Лукич Боровиковский.
Императорский поезд вернулся в Петербург через полгода странствий. К счастью, вскоре после этого события был, наконец, достроен Почтовый департамент, и Николай Львов получил в нём прекрасную многокомнатную квартиру в бельэтаже. Счастливое семейство, с неизбывной благодарностью распрощавшись с гостеприимным хозяином Безбородкой, благополучно переехало под собственный кров. По случаю переезда был, как положено, устроен блестящий дружеский вечер. Мы с Наташей были приглашены на него в числе прочих гостей. Перед тем я отправил Львовым свой экипаж, заполненный до самого верха коробками и пакетами со сладостями и свежей выпечкой. А три «печки», с особым мороженным моего собственного изобретения, имеющим большую популярность в столице, я вечером вёз в карете на своих коленях. В этой квартире одна за другой родились у Львовых ещё три дочери. Семья была самая счастливая, и родители и дети просто купались во взаимной любви. Жили Львовы в полном достатке: в эти годы Николай был очень успешен и востребован по всем своим ипостасям. У них было немалое количество крепостных, слуг для работы по дому и для воспитания детей.
Двери этого гостеприимного дома всегда были распахнуты настежь: в нём постоянно кто-то жил, то ли из новых друзей, то ли из старых знакомцев. Часто и надолго здесь останавливался Капнист, приезжавший в Петербург по делам или только для того, чтобы встретиться с друзьями. Про литературные собрания и не говорю: с этого времени, хоть и редко, но проходили они только в квартире на Почтамской.
Боровиковский был уже в Петербурге, и Николай поселил его у себя. Он, как мог, поддерживал нового друга: художника в столице никто не знал, и только благодаря его ходатайствам, Владимир Лукич получал заказы на росписи в построенных Львовым церквях и храмах. Знаю точно, что расписал он в Торжковском монастыре и знаменитый Борисоглебский храм, возведённый также по проекту Николая.
Что до меня, то я познакомился с Боровиковским, конечно, в доме Львовых. Владимир Лукич мне понравился с первого взгляда. Был он со всеми приветлив и доброжелателен, как после выяснилось – к деньгам относился довольно беспечно. Даже тогда, когда они стали словно прилипать к нему, нисколько не думал о будущем – посылал на родину в Миргород родственникам и друзьям огромные посылки, а по субботам раздавал деньги нищим. Владимир Лукич быстро сблизился со всеми друзьями Львовых, а главное очень тесно сошёлся с Левицким, с которым они были земляками. Добрейшей души человек, Дмитрий Григорьевич вызвался давать Боровиковскому уроки живописи. И в течении нескольких лет они работали в его мастерской, как говорится, бок о бок. Вот в это время и стал Боровиковский постоянным посетителем моей кондитерской – ведь дом Левицкого был по соседству. В первый раз они пришли уже к вечеру вместе. Оба выглядели усталыми, с покрасневшими от работы глазами. Я тут же велел своим людям оказать им самое большое внимание. Эти великие мастера попросили и меня присесть рядом и попить чаю вместе с ними, я, конечно, был немало этим польщён. Вскоре художники немного расслабились и разговорились. А Владимир Лукич, посмеиваясь, заметил.
– А знаете, Адриан Францевич, мне Дмитрий Григорьевич нынче рассказывал, как вы с ним над портретами младших смолянок работали… Он убеждён, что только благодаря Вашим вкуснейшим кренделькам и шанежкам, он сумел такие шедевры живописи создать.
Я смутился не на шутку, но оба мастера так искренне рассмеялись, что мне ничего не оставалось, как только засмеяться вместе с ними.
После этого случая Боровиковский заходил в кондитерскую довольно часто. Но совсем коротко я сошёлся с ним только через несколько лет, когда он, по моему приглашению, поселился летом у меня на даче. Но о том будет рассказ особый.
Жизнь продолжалась. Машенька, конечно, осталась по-прежнему самой главной заказчицей платьев у Наташи. Поскольку она то полнела до родов, то худела после них, дорогие платья нужно было постоянно перешивать и переделывать. А позднее и новые фасоны стали очень отличаться от прежних, а Марии Алексеевне Львовой всегда должна была выглядеть комильфо. Для того обе наши мастерицы пускали в ход всю свою творческую фантазию и изобретательность. Платья то украшались кружевами и вышивкой, то становились более скромными, уютными и домашними. От того, что было у наших жён помимо человеческой привязанности общее дело, они были очень дружны. Имели от нас с Николаем какие-то свои тайные дела и секреты. Мы с моим другом только посмеивались и подшучивали над ними, когда они прятались в будуаре у Машеньки или в комнате у Наташи, когда Львовы изредка посещали нас.
С годами я, благодаря своему профессиональному умению, приобретал всё большую известность и уважение среди людей состоятельных и весьма влиятельных. Меня знали обыватели не только Васильевского острова, но и всего города. Выбирали меня неоднократно на общих собраниях и на всякие ответственные выборные должности, с обязанностями своими я всегда справлялся ответственно и исправно. И всё же – моя жизнь, тем временем, постепенно теряла для меня привлекательность. Кондитерская моя процветала, и, в конце концов, я совершенно отошёл от дел, поскольку и мой первый помощник Пётр, и поумневший и возмужавший Никита прекрасно справлялись и без меня. Ну, а я … А я вдруг заскучал. Не улыбайтесь, пожалуйста, мой любезный читатель, я сейчас всё разъясню. Скучно мне стало от того, что я про дело своё теперь всё знал, никаких сюрпризов я более от него не ждал – в денежных делах, так же, как и в кондитерских, я стал недюжинным специалистом и мог просчитать всё наперёд, избегая убытков в прибыли. Я завидовал Николаю в его неистощимой фантазии, в том, что голова его была всегда занята какими-то новыми грандиозными планами, делами. У меня же всё шло по проложенному когда-то руслу, никаких тебя открытий и новшеств… Тужил я тужил, тосковал- тосковал, и вдруг заболел идеей, о которой даже Наташе не сразу посмел сказать. Решил я, друзья мои, открыть свой ресторан. Вот именно – ресторан. Надо признаться, что несколько заведений с этим громким названием уже существовали в центре города. Я не раз посещал их. Но рестораны эти были всё одно, что трактиры: было в них шумно и неуютно, народ пришлый, совершенно непонятный, сновал туда-сюда, да и кухня была какая-то пёстрая: ни образа конкретного, ни стиля. А про убранство зала и обеденных столов и говорить нечего. И, чем я больше думал о собственном таком заведении, тем более представлял, каким оно должно быть, каким я его хочу видеть. У меня был богатый опыт в организации своей образцовой кондитерской, которую за долгие годы существования ни один конкурент в Петербурге не мог перещеголять: ни по замыслу всего предприятия, ни по уюту в зале, ни по моей фирменной выпечке, конечно. И ресторан я возмечтал открыть в таком же стиле, чтобы всё в нём было по самому высшему разряду, начиная от зала, уюта, какой-то особой выдумки для привлечения гостей (какой – я пока и представить себе не мог) и по вышколенному поведению всех слуг. Ну, а самое главное – это, конечно, кухня. Мечтал я, на этот раз, кухню представить преимущественно из русских блюд, для приготовления которых был у меня в наличии мастер высокого класса – мой родной дядя Ганс. Хоть и постарел он изрядно, но имел голову совершенно ясную, и прекрасные руки кухонного умельца. А тут ещё подлил он, что называется, масла в огонь: сообщил мой любимый дядюшка, посетив нас с Наташей недавно вечером, что его хозяин, уважаемый Юрий Фёдорович Соймонов на неопределённо долгое время должен по своим служебным делам уехать в Москву и собирается забрать с собой своего личного повара. Но дядя Ганс на старости лет не хотел переезжать в чужой город. Старик был совершенно потерян и расстроен, пришёл ко мне посоветоваться. А у меня даже дух перехватило – так всё прекрасно может сложиться – в моём ресторане будет первоклассный повар. Конечно, дядя мой уже стар, но я подыщу ему хороших помощников, которыми он будет руководить, и бог даст, кто-то из них займёт со временем его место… Конечно, я ни ему, ни жене ничего пока говорить не стал, но пообещал дядюшке позаботиться о нём и непременно найти выход, если он решит остаться в Петербурге.
Но мечты о ресторане упирались в самую главную проблему – он должен был находиться в каком-то доме, который ещё предстояло построить. В этом-то и была для меня самая главная загвоздка. Это было для меня почти непреодолимым препятствием. А тут на нас с Наташей вплотную надвинулась ещё одна серьёзная проблема, о которой лет этак пять-шесть назад мы даже и помыслить не могли. А дело-то было самое житейское. Дело было в том, что наши дети росли, росли и требовали для себя всё большего жизненного пространства. Они теперь жили в разных комнатах, постепенно увеличилось количество слуг, няньки сменились гувернёром и гувернанткой, появились учителя… И старый уютный дом Наташиных родителей стал, что называется, трещать по швам. Наш родной дом становился нам теснее день ото дня. Летом нас спасала дача, которую я купил по соседству с дачей Львовых, заплатив немалые деньги за уцелевший от пожара дом тому самому купцу- погорельцу, но к зиме наше многочисленное семейство со всей челядью опять оказывалось в тесноте на Кадетской линии. Конечно, жена моя это прекрасно видела, но молчала. Лишь однажды, когда горничная, столкнувшись с ней на узкой лестнице, вылила на её платье кувшин с водой, Наташа, ни слова ей не сказав, только разрыдалась. Тогда я и решил, что пора нам поговорить обо всём серьёзно. Мы просидели за этим разговором почти всю ночь. Наташа понимала, что родительский дом надо оставить ради нашего семейного благополучия, но для неё это было очень тяжёлым решением. Она плакала, а я успокаивал, вот так и проговорили много часов. Тогда я и решился ей сказать о мечте своей по поводу ресторана. Жена слушала меня очень внимательно, как всегда, всё поняла без лишних объяснений. И мы приняли решение о строительстве нового трёхэтажного дома. На первом полуподвальном этаже мы размечтались расположить её артель, девушки которой уже давно работали без непосредственного участия хозяйки, на втором, в бельэтаже – будет мой ресторан, а на третьем – просторная наша квартира. Я решил просить Львова составить проект того дома, который мы только что придумали с Наташей.
На следующий день, не откладывая дела в долгий ящик, отправил я человека к Юрию Фёдоровичу Соймонову с нижайшей просьбой принять меня в угодное для него время. Человек вскоре вернулся и сообщил, что Юрий Фёдорович нынче дома и готов меня принять. Я заторопился к нему. Дело в том, что именно Соймонов до отъезда в Москву отвечал за строительство частных домов по чётной стороне Невского, которое было совсем недавно разрешено. Я твёрдо решил построиться именно там.
Юрий Фёдорович принял меня в своём кабинете. Внимательно выслушал меня, и… неожиданно отговорил от какого-то ни было строительства на Невском, объяснив, что это очень хлопотно, очень дорого, а самое главное – долго.
– Я Вам одну мысль подам, – по-доброму улыбнулся он. – Нынче на Миллионной улице продают дом наследники купца Еремеева. Мне кажется, дом этот Вам подойти может по всем признакам: он двухэтажный, весьма вместительный и в центре города. Еремеев-то для себя строил, и, насколько я знаю, сам Николай Львов ему отопительную систему в доме проводил по своему проекту, который Вам прекрасно известен. Купец ни дня в нём не успел пожить, вскоре помер, а наследникам дом оказался не нужен, вот и продают. Я сегодня же справки наведу и Вам сообщу, как с ними связаться. Если о цене договоритесь, то, поверьте мне, это для Вас большая удача будет. Насколько я понимаю, Вы ведь и кондитерскую в новом месте захотите открыть, не оставлять же её на Кадетской линии, про артель Вашей жены я и не говорю… Это будет Вам легко сделать: по соседству с домом Еремеева большой доходный дом наполовину пустой стоит, там можно хоть мастерскую Вашей жены открыть или хоть ту же кондитерскую.
Я был очень признателен Соймонову. Вскоре сделка с наследниками дома была совершена, денег мне хватило в обрез, и я тут же выставил на продажу свою кондитерскую, за которую рассчитывал получить хорошие деньги. Но продажа её должна была занять достаточное время. Но когда я сообщил своему преданному помощнику Петру, что хочу продать кондитерскую и открыть ресторан, он словно остолбенел и несколько минут не мог произнести ни слова. Решив, что он испугался, что я его выгоню на улицу, я стал убеждать его, что мы будем, как и прежде, работать вместе, и Никиту, конечно, я тоже заберу с собой. Но Пётр, придя в себя, сообщил мне такое, что теперь уж я онемел от неожиданности. Дело в том, что этого кухонного умельца когда-то рекомендовали мне знакомые повара из Воспитательного дома, в который он попал в младенческом возрасте. В Воспитательном доме многим ремёслам обучали, но Петруша прилип к кухне, да так и провёл в ней все отроческие годы, а потом вообще стал трудиться там в качестве повара. Мне сказывали, что доподлинно о его родителях ничего неизвестно, но по слухам он – дитя очень важного сановника, такого важного, что я даже предположительно называть его опасаюсь. На имя Петра приходили в Воспитательный дом большие суммы на протяжении всех лет, в которые он числился воспитанником, и Пётр об этом знал. Но буквально месяц назад пришёл к моему помощнику некий стряпчий или душеприказчик, разве поймёшь?! Так вот этот человек сообщил, что благодетель Петруши почил в бозе и оставил ему огромную сумму в наследство. Вот такая вышла история. Петруша мой долго не мог переварить это сообщение, никому не сказывал, помалкивал, но, так же, как и я в старые времена, размечтался открыть собственное дело. Строил планы, и пока не решался советоваться со мной, не зная, как я отнесусь к такому известию. Ну, а тут я с продажей кондитерской… Пётр чуть не на колени передо мной встал, умоляя продать ему наше детище и оставить его самого здешним владельцем. Обещал, что вывеску сделает не «Кондитерская Кальба», а «Кондитерская по рецептам Кальба»… Вот такие дела! Конечно, мы тут же обговорили с ним все наши финансовые дела, и сделка, счастливая и выгодная для обоих, была произведена. Запнулись мы только на судьбе Никитки. Пётр-то, конечно, даже представить не мог, как это он с ним расстанется, был он для него, не имеющем никакой родни, как младший братишка. За прошедшие годы превратился озорной Никитка в серьёзного кондитера Никиту Иваныча. Парень теперь был непростой, заметный, с острым умным взглядом, достаточно образованный – не зря монахи Торжковского монастыря над его детскими мозгами потрудились. Молоденькие гувернантки на него засматривались, когда выбегал он по службе из кухни в зал. Про его способности кондитера тоже много лестных слов можно сказать: кое в чём он не только Петра перещеголял, но даже и меня иногда поражал фантазией своей. Позвали мы Никиту, объяснили ему, в чём дело и напрямик спросили, с кем он хочет остаться. От неожиданности он было совсем растерялся. Но подумав немного, выбрал меня, поскольку считал, что многим мне обязан. Я, конечно, очень тому обрадовался, не ровён час, мог обоих своих помощников потерять, на которых так надеялся.
К сожалению, Николай, хотя и был в то время в Петербурге, помочь мне никак не мог. В семействе Львовых в то время наступили тяжёлые времена, о которых я расскажу чуть позже. Я не смог показать другу свой новый дом. Но в ответ на моё письмо он подробно описал тонкости строительства этого здания, в благоустройстве которого он принимал самое деятельное участие, его достоинства и недостатки. Отопление, и в самом деле, организовывал он непосредственно и заверил меня, что с этим у меня проблем не будет. Мы с Наташей стали готовиться к переезду. У нас сложился чёткий план: в доме на втором этаже будет наша квартира, большая, многокомнатная, с отдельным входом для прислуги и с несколькими комнатами для неё в мансарде. А внизу мы расположим Наташину артель. А в соседнем доходном доме на втором этаже будет находиться мой ресторан… Кстати, сразу сообщу Вам, любезный читатель, что эта идея была счастливой. Дело в том, что в этом доме находилась творческая мастерская наставника Боровиковского художника Лампи. Владимир Лукич бывал здесь почти ежедневно и, конечно, как только мы переехали на Миллионную, частенько стал захаживать к нам в гости. В конце девяностых годов Лампи уезжал из России на родину в Австрию, и оставил Владимиру Лукичу свою прекрасную мастерскую, где Боровиковский и поселился, и мы с ним оказались самыми ближайшими соседями.
Покупатель на наш семейный дом нашёлся достаточно скоро: известный в Петербурге ювелир, тоже немец по происхождению, живущий на Васильевском острове, пожелал его приобрести, как можно скоро. Его очень устраивало отдельное помещение, где располагалась Наташина артель, нравилось, что оно имеет отдельный вход. Он мечтал здесь оборудовать свою удобную ювелирную мастерскую. Мы быстро сговорились. Вскоре наше семейство переехало на Миллионную улицу и начало обживать новые большие и удобные комнаты, в которых и мы с женой, и дети наши чувствовали себя прекрасно. Через некоторое время я смог вплотную заняться организацией своего ресторана.
А Николай Львов, как всегда, занимался самыми разными, серьёзными делами, совершенно несвязанными между собой. «Неугомон» – звала его любящая жена.
Как зеницу ока, долгие годы берегу я пожелтевший от времени листочек, на котором мелким острым его почерком вот такие стихи:
«Зачем? Да, мне зачем метаться?
Мне –шаркать, гнуться и ломаться?
Лишь был бы я здоров и волен.
Я всем богат и всем доволен.
Меня всем Бог благословил:
Женил и дал мне всё благое.
Я счастье прочное, прямое
В себе иль дома находил.
И с ним расстаться не намерен.»
Наш любимый архитектор строил и проектировал по всей России, редко бывал и дома, и в Никольском, а любимая его жена, Мария Алексеевна, отчаянно скучала без него. Вместе с детьми она уезжала на всё лето до глубокой осени в имение, где с хозяином и без присутствия оного во всю кипело строительство, и оставалась там до глубокой осени. Мы с Наташей неизменно получали приглашение пожить в разгаре лета в Никольском. Недавно я нашёл пожелтевшей от времени листок – чудом сохранившийся отрывок письма Марии Алексеевны, датированный 1788 годом. Она писала нам: «Знаете ли вы, что ваш Николай Александрович совсем ныне засписивел, и уже со мною жить не хочет. Я живу одна, а он всё по графам и князьям и по их прислужницам разъезжает. Да это мне не больно. А больно то, что вы меня бросили в Никольском совсем одну…»
Ну, разве не разжалобишься от таких слов!
Оставив свои дела на надёжных помощников мы, конечно, с благодарностью откликались на приглашение, чем приводили в восторг и собственных детей, обожавших эти поездки, и детей Львовых, встречавших нас радостными криками и восторженным визгом.
А Никольское сказочно преображалось, на моих глазах: старое имение меняло свой облик. Целых десять лет положил Львов на преобразование родных Черенчиц, ставших Никольским. Это было его родовое гнездо, здесь он ни от кого не зависел и был архитектором, строителем, инженером, садоводом, художником – всё в одном лице. Но ведь это была и моя вторая родина, я очень близко к сердцу принимал все преобразования в ней. Постепенно выравнивался ландшафт, особая дренажная система осушила древнее болото, то самое, в которое мы с Николенькой провалились когда-то в детстве, вместо него образовался целый каскад прозрачных прудов, украшенный оригинальными статуями. Я не устаю повторять, что мало понимаю в архитектуре и в тонкостях строительства, но знаю точно одно: Львов умел превращать обычные хозяйственные постройки в барских усадьбах в нечто фантастическое, небывалое прежде в России. И, прежде всего – в Никольском. Чудную кузницу, например. Знаете, как она выстроена? Из разноцветных валунов с арками, напоминающими античную руину. Внутри – всё, как положено: горн и наковальня, склад для угля, тёплая комната для кузнеца, навес для подковывания лошадей и ещё что-то – не помню… Но как фантастически смотрелись внутри кузни стены из валунов, когда по ним скользили блики от кузнечного горна!
А мой любимый потрясающий погреб-ледник! Этакая кирпичная, облицованная камнем пирамида, разделённая фантазией архитектора на три уровня. Верхний – словно парковая беседка, освещённая сверху окнами в куполе, так любимыми Львовым. Здесь прохладно в любую жару, и мы, друзья Львовых, любили пить там чай в полдень и вести долгие беседы. Ниже, на втором этаже – круглое просторное помещение с отдельным входом. Там всегда стояли огромные бутыли с прекрасным вином, которое производили в Никольском под зорким присмотром хозяйки имения. Вино это имело славу не только в Торжке, но и в ближайших губерниях и приносило Львовым немалый доход. А внизу – это собственно ледник, глубиной метров десяти. Николай придумал использовать в нём не зимний лёд, коим забивались подобные сооружения в русских усадьбах, а природные грунтовые воды. За лето они накапливались в огромном резервуаре, а зимой промерзали до самого его дна… В этом леднике любые продукты могли храниться длительное время. Я сам не раз, приезжая в Никольское, готовил для хозяев и многочисленных гостей большие запасы мороженного, которое оставлял на хранение в этом леднике. Мы с удовольствием поедали мой десерт порой в течение нескольких дней.
Это, конечно, не все фантастические постройки Николая, были и другие – один дровяной сарай с колоннами, фронтоном и портиком чего стоит! А ещё – оранжерея, ветряная мельница, скотный двор, конюшня…
Но вот, наконец, приступил мой друг и к постройке долгожданного дома. Матушка его, Прасковья Фёдоровна, Мария Алексеевна с детьми, а также и мы – многочисленные и бесконечные гости устраивались пока в старом деревянном доме, а рядом, что в присутствии хозяина, что и без него, пока он был в служебных разъездах, во всю кипела стройка – возводился дом-дворец архитектора Львова. Я нисколько не иронизирую: для Николая его собственный дом в Никольском был именно дворцом – в два с половиной этажа, с бельведером – ажурной беседкой на крыше, из которой можно было лицезреть прекрасную панораму вокруг. Столько сил, энергии, фантазии, инженерного гения было в него вложено! Основная идея создателя – это комфорт! Комфорт и удобство – вот главные его девизы. Мы, друзья Львова, посетив Никольское несколько раз, уже ничему не удивлялись, но не переставали восхищаться: и водоподъёмной машине, которая доставляла воду в бельэтаж, и знаменитой Львовской системе отопления, при которой воздух в доме был всегда не только тёпел и чист, но разносил по комнатам запах свежих роз. А чего стоили уникальные обои в гостиной, сделанные Марией Алексеевной из соломы и расшитые цветной шерстью! Меня, повара, просто в восторг приводила паровая кухня, где паром вращался огромный вертел, и сама собой мылась посуда…
Когда я вспоминаю прекрасные дни и вечера в Никольском, в кругу друзей Львовых, рядом с самыми дорогими для меня людьми – Николаем и Марией Алексеевной, и всеми нашими детьми, которые были здесь же, рядом с нами, то у меня… Нет, не слёзы наворачиваются. На моих губах невольно возникает грустная улыбка. Да. Улыбка! Как ни тяжела для меня утрата Львовых, но сколько ни суждено мне прожить, светлая память о них, никогда не исчезнет в моей душе.
У меня сохранилось стихотворение Николая, посвящённое этому счастливому периоду нашего общего существования. Я храню, как зеницу ока.
«Я истинно, мой друг уверен,
Что ежели на нас фортуны фаворит
(В котором сердце не во всю зачерствело)
В Никольском поглядит,
Как песенкой своё дневное кончив дело,
Сберёмся отдохнуть мы в летний вечерок
Под липку на лужок,
Домашним бытом окруженны,
Здоровой кучкою детей,
Весёлой шайкою нас любящих людей,
Он скажет: «Как они блаженны!»
Ах, какие это были замечательные вечера! Мы, друзья Львовых, наезжали толпой, «весёлой шайкой», как любил нас называть хозяин усадьбы. Как-то так получилось, что именно в это время во Львовско-Державинском кружке собрались любители музыки, да не просто – музыки, а музыки русской, народной. Как всегда, это увлечение пошло от Николая. Как-то раз, когда после долгой разлуки мы уединились с ним в его кабинете, он показал мне несколько толстых исписанных тетрадей.
– Знаешь ли ты, о, инородец, что в них?
– Нет, конечно, – улыбнулся я.
– Так вот… Здесь более двухсот записанных мною русских песен. Это такая сокровищница, такая… Ведь именно в этих песнях открывается самый дух людей прежних времён и такие яркие картины старой жизни! Но представь себе – все эти сокровища никто и никогда не записывал! Я первый!
– Двести песен! – Я был потрясён. – Когда же ты успел?!
Николай засмеялся и пожал плечами.
– Ты думаешь, я знаю? Я тысячи вёрст по России исколесил – и везде эти песни слышал, записывал на почтовых станциях, у ямщиков в долгом пути, во время деревенских гуляний… Я не просто эти песни записал, я ведь их на ноты положил. Это, между прочим, труд непростой: это тебе не итальянский вокал, надобно очень постараться, чтобы в чьём-то фальшивом исполнении услышать мелодию. Вдруг моя попытка собрать и записать эти напевы, каким-то новым лучом осветит музыкальный мир?
В те годы Николай особенно сблизился с Петром Вениаминовым, которого знал ещё по службе в Измайловском полку. Пётр Лукич недавно был отставлен от военной службы, вёл довольно безалаберную, кочевую жизнь и подолгу жил в Никольском. Как я уже сказывал, часто бывал здесь Василий Капнист наездами из Малороссии, появился в нашей компании и совсем ещё молодой Иван Крылов… Пётр Вельяминов и Василий Капнист прекрасно пели народные песни. Им всегда аккомпанировал на гуслях Боровиковский. На мой неискушённый взгляд, виртуозно играл на скрипке Крылов, он был самоучкой, кроме скрипки умел владеть ещё несколькими инструментами… У Николая был оркестр из сорока восьми крепостных музыкантов, которые играли на народных инструментах – гремушках, дудках, жалейках, свирелях, рожках…