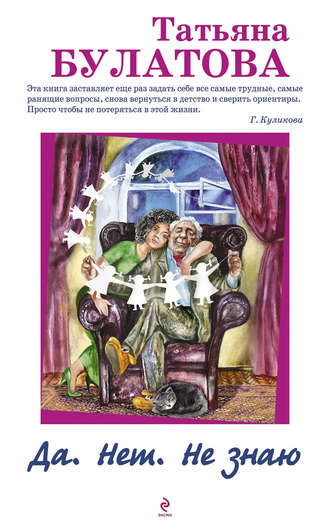
Татьяна Булатова
Да. Нет. Не знаю
Своей матери, так же, как и Аурика, он никогда не видел, но благодаря воспоминаниям Коротича-старшего имел о ней четкое и благостное представление как о человеке утонченном и нежном. Во всяком случае, ее фотографии, развешенные на стенах отцовского кабинета, свидетельствовали именно об этом.
К браку своих родителей Миша Коротич относился с невероятным пиететом еще и потому, что этот не вовремя и так трагически распавшийся союз стал для него воплощением абсолютной любви и преданности. Умершая от родов мать словно и не исчезала из жизни невольного виновника своей смерти и своим незримым присутствием ограждала в муках рожденного сына от обвинений отца, так и не смирившегося с этой страшной заменой. И хотя он точно знал, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется, в своем случае старший Коротич мог утверждать обратное: меняется!
Став взрослым, Миша легко простил отцу периодически возникающую отчужденность в свой адрес. Как будущий математик, юноша видел тщетность отцовской теории, основанной на нахождении хорошо известной неизвестной. Отцовское уравнение не могло быть решено в принципе, потому что к нему приложила руку равнодушная Судьба, которой, в сущности, глубоко наплевать на научные законы.
В отличие от коллекционера Одобеску, пытающегося своим воспитанием стимулировать в дочери инстинкт продолжения рода, старший Коротич делал все, чтобы продемонстрировать сыну опасность серьезных отношений: «Боги завистливы!» – не уставал он повторять сыну избитую истину, сопровождая это, как ему думалось, подходящим советом:
– Не женись, друг мой. Терять – это так больно!
– Терять вовсе не обязательно, – как мог, сопротивлялся отцу Миша, но в ответ натыкался на глухое молчание.
Младший Коротич задыхался в атмосфере вечной памяти по ушедшей: его собственное воображение рисовало ему живой образ матери, а отец настойчиво подводил его к холодному могильному камню, всякий раз произнося одну и ту же фразу: «Миша, скажи: «Здравствуй, мама»». – «Здравствуй, мама», – сначала с готовностью, а потом – с растущим сопротивлением произносил юный Коротич и рвался из кладбищенского холода домой. Прервать традицию еженедельных поездок на кладбище можно было, только уехав на край земли. Но «край земли» не подходил будущему математику по одной-единственной причине: там не было высшего учебного заведения, где, как казалось юноше, и кипит настоящая жизнь. Поэтому он мечтал о переезде в Москву, невзирая на мощное сопротивление отца.
– Неужели мы не можем поладить? – недоумевал профессор.
– Я должен проложить себе дорогу самостоятельно, – упирался будущий студент мехмата МГУ.
– Но зачем?
«Затем, – мысленно отвечал Миша Коротич, – что я хочу жить по-другому. Не так, как ты: в окружении старых фотографий и маминых вещей. Я тоже люблю ее, но это не значит, что мы оба должны пребывать в непрекращающейся скорби. Я хочу совершать собственные ошибки. И даже если переезд в Москву – это ошибка, я никогда об этом не пожалею!»
Разумеется, ни о чем подобном младший Коротич вслух и не заикался: он просто молча делал свое дело, избегая общения с отцом, взгляд которого вызывал в нем тоскливое и гнетущее чувство вины. Поэтому, когда решение о переезде обернулось реальностью, ощущение вины в юноше усилилось. Профессор Коротич наотрез отказался сопровождать собственного сына в Москву и на сообщение о том, что тот стал студентом первого курса механико-математического факультета МГУ, отреагировал вяло, сопроводив это словами: «К чему изобретать колесо? От добра добра не ищут».
Понимая, что обижает сына, старший Коротич не находил себе места, переходя от одного портрета жены к другому, но признаться самому себе, что он просто тоскует по этому белобрысому и с виду тщедушному мальчику, ему не хватало мужества. «Временное неудобство, – пытался он рационально объяснить новые чувства, сидя в полумраке своего кабинета с давно остывшим стаканом чая в руках. – Выучится, вернется».
«Не вернется», – подсказывала ему интуиция, но он гнал от себя дурные мысли, пытаясь представить, что рано или поздно все будет хорошо.
Узнав о планах сына, приехавшего домой, в Ленинград, на первые в своей жизни студенческие каникулы, профессор Коротич понял, что мечтам не суждено сбыться. И, чтобы скрыть свое разочарование, предложил партию в шахматы. Впервые за столько лет его послушный и мягкий Миша отказался от игры, объяснив это тем, что хотел бы просто поговорить.
– Одно другому не мешает, – заметил отец.
– Мешает, – возразил ему сын.
– Тогда о чем ты хочешь со мной поговорить? – поинтересовался старший Коротич и подумал, что сын сейчас произнесет традиционное «о маме», но Миша молчал, видимо, размышляя над тем, в какую форму облечь мучительный для себя вопрос.
– Почему ты никогда не был со мной ласковым?
Профессор растерялся, и у него предательски задрожали руки. Чтобы скрыть это, он даже засунул их в карманы:
– Я не люблю все эти телячьи нежности. И потом – я никогда не опускался до криков в твой адрес. Никогда не унижал тебя лишними замечаниями. Всегда давал тебе право на самоопределение. Никогда не вмешивался в твои отношения с товарищами… Я уважал тебя и общался с тобой, как с равным. Откуда этот вопрос? Разве ты был чем-то обделен?
– Ты ни разу не погладил меня по голове, – опустив глаза, произнес Миша, понимая, что следующий вопрос, который он собирался задать отцу, может привести к полному разрыву между ними.
– Это неправда, – разволновался профессор и начал расхаживать по кабинету.
– Это правда, – продолжил его сын. – Знаешь, у меня всегда складывалось впечатление, что я тебе мешаю.
– Нет, – поторопился ответить старший Коротич, а через секунду добавил, присев рядом: – Хотя, если быть честным…
– Я так и думал, – проронил Миша и коснулся отцовской руки: – Но я же не виноват…
– А кто виноват? – чуть громче, чем обычно, произнес профессор. – Кто виноват в том, что ее не стало?
– Но ведь ты тоже…
– Что я тоже?
– Ты тоже имеешь отношение к моему рождению.
– Если бы я знал, что так будет, то настоял бы на том, чтобы Эмма отказалась от этой дурацкой идеи – иметь детей во что бы то ни стало. У нее было больное сердце, – смягчившись, объяснил он сыну и постучал по ручке дивана своими длинными пальцами. – Что это меняет теперь?
– Ничего. Но, знаешь, очень тяжело жить и постоянно чувствовать себя виноватым в маминой смерти.
– Какая глупость! – отрекся от своих слов профессор.
– Это не глупость, – не поддался на отцовскую уловку юноша. – Ты подчеркивал это всегда.
– Но я тоже живой человек, – сдался старший Коротич.
– И я, – напомнил ему сын и отвернулся. – Мне тяжело приезжать домой.
– А от меня что ты хочешь?
– Свободы, – самонадеянно потребовал Миша.
– Ты свободен, – молниеносно отреагировал профессор. – И ты можешь не утруждать себя ничем. Как-нибудь переживу. Мне не впервой терять близких.
– Папа, но я же не умер.
– Умер я, – отрешенно произнес старший Коротич и резко встал. – Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, – автоматически ответил растерявшийся юноша и молча проводил взглядом выходящего из кабинета отца.
Это была их последняя встреча. И внешне она ничего не разрешила, даже, казалось, только усугубила разрыв между родными людьми. Любовь между отцом и сыном, так повелось изначально, всегда имела привкус обиды, которая в случае с профессором усиливалась еще и от того, что сын не принял его мучительной жертвы ценою в целую жизнь. «Да и что эта молодежь знает о жизни?» – успокаивал себя старший Коротич, держа перед собой портрет жены. Впервые за столько лет его посетило ощущение бессмысленности своего существования, но не оттого, что не стало Эммы, а оттого, что по-настоящему опустел дом, по которому бродил задумчивый беленький мальчик, обделенный отцовской любовью. «Но ведь она была!» – бормотал себе под нос профессор и понимал, что надо бежать, искать исчезнувшего мальчика, просить о прощении, признаваться в собственной глупости, рассказывать о своих чувствах и говорить, говорить… Но с места не трогался и только в сердцах переворачивал портрет жены. На плотном картоне химическим карандашом была сделана запись: «На добрую память». «Тень тени», – профессор цитировал Платона и думал о своем. Было счастье, осталась тень. Была Эмма. Тоже тень. Он сам стал «тенью тени», и его сын вырос в тени. А теперь он из нее вышел и не хочет обратно. «Имеет право», – с грустью признался себе профессор и впервые за много лет заплакал с каким-то странным наслаждением. Сын хотел свободы, а на самом деле – свобода нужна ему, старому дураку! «Какой смысл жить дальше?» – спрашивал себя он и радовался тому, что знает ответ. Жаль, что так поздно. Нет, хорошо, что так поздно: когда за плечами уже целая жизнь, и есть взрослый мальчик, и впереди – долгожданное освобождение от скорби буден. И все произойдет само собой, без всяких усилий с его стороны, просто потому, что пришло время…
Известие о смерти отца настигло младшего Коротича по возвращении из гостеприимного дома Одобеску, где Георгий Константинович, преисполнившись несвойственного для него доверия, показывал тому свою коллекцию ювелирных украшений, объясняя состав сплавов, чистоту камней и специфику огранки. Миша Коротич слушал отца божественной Аурики вполуха. Ну да, красиво. Разноцветные. Блестят. Глаз радуют.
Испытывая поклонника своей Золотинки на прочность, барон Одобеску за партией в шахматы задавал тому внешне ничего не значащие вопросы: о жизненных планах, об отношении к браку, к детям, к профессии. Ответы Коротича убеждали Георгия Константиновича в том, что сидящий перед ним молодой человек мог бы стать хорошей партией для его дочери. Не хватало одного: согласия самой Аурики.
– Бесит, бесит, бесит! – кричала девушка на отца, как только тот призывал ее повнимательнее присмотреться к поклоннику.
– Ну что тебя бесит, дитя мое? – поднимал брови Одобеску и готовил аргументы.
– Он ниже меня на голову.
– В нашем роду все женщины на голову выше своих мужей. Это не новость. Это дань традиции.
– Но ты же высокий, – парировала отцу Аурика.
– Ошибка природы, я уже объяснял. Да и потом, кроме моего отца, никто не пытался жениться на родственницах.
– Ну и что? Представляешь, как мы смотримся?
– Меня лично не смущает. Низкорослый мужчина преумножает красоту своей женщины. Это общеизвестный факт. Твоя красота столь ослепительна, что небольшие погрешности во внешности партнера ей точно не помешают.
– А с чего ты вообще решил, что я хочу замуж? Ты что? Хочешь от меня избавиться?
– Упаси бог, Золотинка. Будь моя воля, я превратил бы тебя в камень и водрузил бы его на своем ночном столике.
– Ага, – смеялась Аурика, – а Глаша бы смахивала с него пыль и клала бы к его подножию лютики.
– Никаких лютиков, – вступал в игру Георгий Константинович. – Только лилии!
– Папа, ну хватит дурачиться. Я все поняла. Ты не хочешь, чтобы я выходила замуж!
– Ты меня разгадала! – хватался за голову Одобеску и одним глазом подмигивал Глаше. – Но все-таки я не стал бы с такой категоричностью отказывать небезызвестному молодому человеку.
Аурика собралась было вновь завести свою привычную песню о том, что Коротич – дурак, но вовремя спохватилась и выложила следующий аргумент:
– Между прочим, твой Миша просто мой товарищ. У него вообще в голове, кроме математических формул, ничего не задерживается. Он даже в кино о своей математике думает. Да он вообще в мою сторону не смотрит. Когда девушка нравится, ведут себя по-другому.
Георгию Константиновичу хотелось спросить: «Как Масляницын?», но вместо этого серьезно произнес:
– Аурика Георгиевна, не путайте робость с сухостью, а скромность с глупостью.
– Хороший мальчик, – осмелилась вставить Глаша и тут же опустила голову.
– Вот и выходи за него замуж! – захохотала Аурика. – Если он, конечно, не против.
– Место занято, – фривольно заявил Одобеску, нахмурив брови.
– Хватит, – оборвала развеселившегося отца дочь. – И так тошно…
Тошно было не только Аурике, но и Мише, трясшемуся в сидячем вагоне поезда Москва – Ленинград и в сотый раз перечитывавшему скупой текст телеграммы: «скончался», «соболезнования», «коллеги».
Город встретил Михаила Кондратьевича дождем, но в этом не было ничего особенного: Ленинград есть Ленинград. Не привыкать. В квартире – соседи, коллеги отца и ни одного студента. «Они его не любили», – догадался Миша, не отрываясь глядя на портрет в траурной рамке. Знакомое недовольное выражение лица. Строгий взгляд. Перерезавшая высокий лоб глубокая морщина. В гробу лежит другой человек. Спокойный и свободный.
– Сердце, – вздыхали присутствующие и торопились лично принести соболезнования, испытующе рассматривая младшего Коротича.
– Я знаю, – ответил он и опустил голову.
«Никакое это не сердце. Отец слишком долго ждал, когда это случится. Всю мою жизнь. Он же обещал маме. И себе: вот дождусь – и все, свободен. Он просто устал ждать, а когда перестаешь ждать, все происходит само собой. Так, как положено. И никто в этом не виноват: ни мама, ни я, ни он», – размышлял Миша, не сводя глаз с нового отцовского лица.
«Черствый мальчик», – перешептывались у него за спиной соседи. А Миша не был черствым – просто сдержанным, как и его отец. Откуда всем знать секрет, известный только отцу и сыну Коротичам, неожиданно воссоединившимся друг с другом при столь трагических обстоятельствах?
«Определенно – черствый», – повторяли, укоризненно переглядываясь, соседки. «Молчите, непосвященные! – машет крыльями сердитый ангел смерти. – Не мешайте им разговаривать. И так ничего не слышно. Приходится слух напрягать». У ангела своя работа. Самая что ни на есть обыкновенная, часто надоедает, потому что приходится делать дело в неподходящих условиях: стоны, слезы, плачь, вой. А есть легкие пациенты: ррраз – и все! Вот, например, этот. И парень у него тоже сообразительный, как будто знает, сейчас не поговоришь – не успеешь. Ангелу больше всего нравится эта часть: последние «прости, клянусь, если б я знал…». Чаще всего такой текст, но некоторые по-другому разговаривают, молча, хотя слышно хорошо, потому что по существу.
«Я буду о тебе всегда помнить», – мысленно обещает Миша отцу и трогает его холодные руки.
«Я тоже», – знает ответ юноша.
«Ты не сердись, что я уехал».
«Давно было пора», – подсказывает ангел и голосом профессора повторяет:
«Давно было пора».
«Говорят, на том свете…»
«Всякое наговорить могут! Доподлинно неизвестно».
«Все равно, – мысленно обращается к отцу младший Коротич. – Передай привет маме».
«Всенепременно, – отвечает за профессора ангел и усаживается рядом с молодым человеком. – Все будет хорошо», – обещает он и легко касается плеча Миши Коротича, отчего тому кажется, что над лицом отца воздух приходит в какое-то странное колебание и возникает ощущение, что покойник дышит.
«Не может быть», – грустит младший Коротич и пытается запомнить незнакомый отцовский облик, вытесняющий из памяти тот, который оказался запечатлен на портрете…
В Москву Миша вернулся с ощущением гулкой пустоты. Подумал пойти к Одобеску, но не решился и долго блуждал по переулкам, расположенным поблизости к Спиридоньевскому. Больше всего на свете он боялся сейчас встретить легкомысленную Аурику, отнесшуюся к его исчезновению как к своеобразному избавлению от недужных, как она считала, отношений с неинтересным во всех смыслах представителем противоположного пола. И только проницательный Георгий Константинович вспоминал о симпатичном ему юноше с грустью всякий раз, когда в его доме появлялось очередное двуногое недоразумение с пустыми и жадными глазами.
– Мне кажется, или ты не находишь себе места? – с опаской спрашивал обеспокоенный отец, замечая, как меняется Аурика.
– Все нормально, – отмахивалась девушка и приводила в дом поклонника за поклонником.
– Я даже не успеваю их запомнить, – жаловался Георгий Константинович Глаше и с надеждой смотрел на календарь в ожидании начала учебы. «Девочка мечется, – успокаивал себя Одобеску. – Ей хочется любви».
– Какая любовь! – взбрыкивала Аурика. – Этого только мне не хватало! Ты же прожил без любви всю свою жизнь!
– Это чушь! – устало возражал Одобеску.
– Ах, да, простите, – язвила Золотинка. – Я совсем забыла: у тебя была тайная любовь за закрытыми дверями. Между прочим, это ханжество!
– Ханжество – строить отношения, исходя из материальных и социальных характеристик.
– Да что ты, папа?! – сверкала глазами Аурика. – Не ты ли мне говорил: «Руби дерево по себе»?
– Это не я, – отказывался от авторства Георгий Константинович. – Это народная мудрость, активно используемая многочисленными представителями художественной словесности. Привести пример?
– Не надо, – бурчала Золотинка и рассматривала свои крупные руки с таким вниманием, как будто видела их в первый раз в жизни. – Знаешь что! Если рубить по себе, боюсь, топор будет не в кого втыкать – уж больно мелкая поросль. А мы, Одобеску, корабельные сосны.
– Только по комплекции, только по комплекции, – хлопотал отец и прижимал дочь к себе: – Аурика, посмотри вокруг! Неужели ты не видишь вокруг себя достойных людей? Что влечет тебя к этим бодрым спортсменам с дынями вместо рук?
– Какими дынями? – не понимала отца девушка.
– С этими, – объяснял Георгий Константинович и показывал на свои плечи. Аурика быстро понимала предложенный отцом ассоциативный ряд и смеялась над точностью его наблюдения:
– Это бицепсы.
– О-о-о-о, – картинно удивлялся Одобеску. – Мое золотко стало разбираться в анатомии?! А что говорит историческая наука о роли бицепсов в создании семьи? Или этот факт учеными замалчивается?
– Ничего не замалчивается, – опровергала отцовское предположение Аурика и всерьез отвечала: – Вся история Древнего мира – это история бицепсов.
– Где я могу об этом прочитать, Золотинка?
– Везде! – торопилась девушка наконец-то закончить этот разговор.
– Я бы не прижился среди варваров, – делал вывод Одобеску. – С детства ненавижу все эти подъемы с переворотом и бессмысленное размахивание стопудовыми гирями.
– Ты что-то путаешь, папа, стопудовых гирь не бывает!
– Увы, ты в этом разбираешься лучше, чем я, – сдавался Георгий Константинович. – Слава богу, я живу в наше время, когда помимо бицепсов ценится ум… – он замолкал. – И еще раз ум.
– Можно подумать, – отчаянно сражалась Аурика, – «ум и еще раз ум» – это исключительно свойство современного человека.
– К сожалению, нет, – голос старшего Одобеску становился строже. – И я вижу, что в последнее время тебя тянет именно к этим, с бицепсами. И мне вообще кажется, что ты с ними не разговариваешь!
– Почему?! – удивлялась Золотинка.
– Извини, конечно, но я не слышу. Вернее, слышу: или смех, или полное молчание.
– А ты что? Подслушиваешь? – поражалась Аурика.
– Нет, – отрицал свою причастность Георгий Константинович, а потом сдавался и тут же заявлял: – Да. Конечно, подслушиваю. Все нормальные родители подслушивают и подсматривают за своими детьми, торопясь «подстелить соломку».
– Какую соломку? – пугалась дочь.
– Господи, Золотинка, ты закончила три курса исторического ликбеза, а до сих пор не знаешь смысла выражения: «Знал бы, соломку подстелил». Объясняю: всякий родитель старается предостеречь свое дитя от ошибок и только этим можно оправдать его вмешательство в личную жизнь отпрыска.
– По-моему, хватит! – кривилась Аурика. – Ты стал вмешиваться чересчур часто.
– Старею, – пытался усыпить бдительность дочери Георгий Константинович. – Становлюсь ревнив и подозрителен.
– Па-а-па, – тянулась к нему Аурика. – Ну, что ты, ей-богу?!
– Да, – капризничал Одобеску. – Я не успеваю запоминать в лицо твоих поклонников. Они меняются слишком часто. А ты даже не заботишься о том, чтобы мне их представить.
– Па-па! Зачем? Разве я тебя не знаю? Ты запоминаешь только тех, кто тебе нравится.
– Это нормально, – стоял на своем Георгий Константинович, лихорадочно соображая, как бы ему ввернуть упоминание о Мише Коротиче, столь неожиданно исчезнувшему с горизонта.
– Скажи мне, папа, тебе хоть кто-то из моих знакомых нравился?
– Нет, – мгновенно реагировал Одобеску. – То есть да. Один.
– Один?! – буквально подпрыгивала от возмущения Аурика, еще недавно плакавшаяся на отсутствие внимания к себе со стороны лиц мужского пола. – Попробую угадать. Уж не Коротич ли это?
– Как ты угадала, глупая девчонка? – рычал Георгий Константинович и поправлял волосы надо лбом.
– И чем же тебе этот валенок так нравится?
– У него есть принципы! – вставал на Мишину защиту Одобеску.
– Какие?! – стонала его дочь.
– Зачем тебе знать, глупое дитя?!
– Интересно, – не сдавалась не на шутку разозлившаяся Аурика.
– Если бы тебе было интересно, ты бы забила тревогу! Ну, на худой конец навела бы справки: куда делся этот юноша, безмолвно таскавшийся за тобой с журналом под мышкой? Да-а-а! Забыл совсем – он же ниже тебя на голову. Или на полторы?
– Твой Коротич испарился, не сказав ни здрасте, ни до свиданья. Просто исчез – и все.
– А если у него обстоятельства?!
На шум в гостиной выглядывала Глаша.
– Няня, – призывала ее к ответу Аурика. – Тебе нравится Коротич?
– Миша? – переспрашивала Глаша.
– Вы что, сговорились?! – вскакивала девушка и с остервенением хлопала себя по бокам.
– Спокойно, – срывался Одобеску. – Спокойно, моя девочка. Зачем так нервничать?!
– Да потому что ты все решаешь за меня! – кричала Аурика и покрывалась пятнами.
– Княжна Тараканова! – ахал Георгий Константинович и бросался к полкам, уставленными альбомами с репродукциями. – Смотрите, – доставал он увесистый том, посвященный истории Третьяковской галереи, и быстро находил нужное изображение. – Точно! Одно лицо!
Аурика выхватывала из рук отца книгу и внимательно смотрела на репродукцию картины Флавицкого.
– Ничего общего, – отказывалась она признать сходство и, захлопнув альбом, швыряла на диван.
Георгий Константинович хватал дочь за руку и насильно усаживал рядом с собой.
– Ну, хорошо, хорошо, – соглашался он и гладил ее по голове. – Не хочешь быть княжной Таракановой, не надо. Но мне кажется, очень похоже. Смотрите, Глаша, – звал он помощницу и предлагал подтвердить сходство.
– Нет, – отрицательно качала головой женщина и с жалостью смотрела на воспитанницу.
– Вот видишь, – злорадствовала Аурика.
– Вижу, – отвечал Одобеску и, усаживаясь поудобнее, хитро интересовался у Глаши. – А на кого похожа?
– На вас, – быстро отвечала женщина и прятала глаза.
– Слышала? – обращался Георгий Константинович к дочери. – На нас.
Маневр удался, Аурика разом обмякала и прижималась к отцу уже совершенно с другим чувством:
– При чем тут вообще княжна Тараканова?
– Да ни при чем, – отказывался от своих слов Одобеску. – Померещилось…
– Мне кажется, ты нарочно меня дразнишь.
– Нарочно, – соглашался Георгий Константинович. – Потому что «и в гневе ты прекрасна», дитя мое.
Аурике нравились слова отца, но она по привычке сопротивлялась:
– Вообще-то я не самозванка.
– Ты – нет, – устало выдыхал Одобеску. – Вокруг тебя – пустые самозванцы.
– Ты преувеличиваешь, – успокаивала его дочь.
– Имею право. Ты у меня одна. И все это, – Георгий Константинович обводил глазами гостиную, – ничего не стоит, если какой-нибудь самозванец украдет тебя у меня.
– Ты говоришь так, как будто…
– Я говорю так, потому что ты не разбираешься в людях. Найди Коротича, Золотинка.
– О господи! Дался тебе этот Коротич!
– Мне не с кем играть в шахматы, – жаловался Одобеску и пытался скрыть улыбку, чувствуя, что цель близка.
– Поиграй со мной, – предлагала промежуточное решение Аурика.
– Ты занята, – притворно вздыхал Георгий Константинович, усыпляя бдительность своей Золотинки. – Каждый вечер ты исчезаешь из дома в неизвестном направлении и оставляешь меня одного. И ведь часто – почти до утра. Я волнуюсь. Мне грустно…
– Зато когда я дома, ты запираешься у себя в комнате.
– Все правильно: в гостиной ты пьешь чай с очередным самозванцем, а у меня пересыхает во рту, и я чувствую себя лишним.
– Ты ведешь себя, как ребенок, – начинала раздражаться Аурика, понимая, куда клонит отец. – Не ты ли сам неоднократно говорил мне о том, что парки и подъезды – не лучшее место для беседы?
– Я и сейчас так думаю, – признавал правоту дочерних слов Одобеску. – Но что-то подсказывает мне, что тебе не о чем с ними разговаривать.
– С какой стати?! И почему ты вообще считаешь возможным указывать мне, с кем общаться?!
– Ты не права, Золотинка. Я не указываю.
– Нет, указываешь! – взбрыкивала Аурика, вырываясь из отцовских объятий.
– Все равно, – улыбался Георгий Константинович, – найди Коротича. Вы же товарищи?
– Ну, – ворчала девушка.
– Вот и найди.
* * *
Отцовскую просьбу Аурика пропустила мимо ушей. Делать ей нечего. Исчез и исчез – скатертью дорога. Захочет – объявится. Никуда не денется! А не объявится – еще лучше. В сентябре все равно увижу. А пока лето – нужно получать удовольствие на полную катушку! Весь август. Потом будет некогда. Начнется учеба – не до того…
Вот Аурика и старалась изо всех сил, легко отзываясь на традиционное: «Хорошая погода, не правда ли?» Щедро раздавала номер своего телефона, принимала приглашения в кино, на прогулку, с готовностью отвечала на рукопожатия, доверчиво открывала губы для поцелуев и пару раз даже отправлялась в гости к плохо известным молодым людям, прихватив с собой для безопасности двух бывших одноклассниц, оставшихся коротать лето в городе.
И оба раза Аурика Одобеску сбегала из гостей в самый неподходящий момент по нескольким причинам: во-первых, ей, как правило, доставался ухажер по остаточному принципу – на тебе, боже, что мне негоже, а, во-вторых, – ему точно не до беседы: он сразу, без объяснений, попытался перейти к «главному». Про то, как выглядит это «главное», девушка догадывалась. Но она так не хотела. Ей противно: чужой дом, смятая постель и вместо скатерти – газета, на которой разложено скудное угощение.
– Ну что ты носишься со своей девственностью, как с писаной торбой! – посмеивались над ней ее бывшие одноклассницы. – Ты зачем сюда поехала? Чай пить?
– Я так не могу, – пожимала плечами Аурика.
– Тогда зачем? – недоумевали девицы и щедро делились друг с другом подробностями вчерашней ночи. – Зря ты ушла, – сочувствовали они Аурике, самонадеянно считая ее наивной дурочкой, избалованной папиной дочкой.
– Больше не пойду, – зарекалась их одноклассница, но уже к вечеру наряжалась «на охоту».
– Какая красавица, – шептала Глаша ей вслед и запирала дверь на все замки.
– Это-то меня и тревожит, – огорчался Георгий Константинович и отправлялся к себе. Ему не до Глаши: перед ним не законченная с Коротичем шахматная партия, из суеверных соображений оставленная на доске до возвращения Миши – вдруг вернется! Но неожиданно, буквально через два часа, вернулась Аурика: брови сдвинуты, выражение лица кислое, от быстрой ходьбы испарина на высоком лбу.
– Ты рано сегодня, – вышел ей навстречу Одобеску, услышавший знакомую поступь. – Свидание отменяется?
– Нет, – скупо ответила девушка и прокричала Глаше, чтобы набрала ванну.
Георгий Константинович больше не задавал никаких лишних вопросов и снова прятался у себя, чтобы не попасться под руку явно чем-то недовольной Аурике.
«Что происходит?» – тревожился Одобеску, на цыпочках подкрадываясь к дверям в ванную, как будто по шуму льющейся воды можно догадаться, что именно. «Душно на улице», – подсказывала ему Глаша и робко гладила руку Георгия Константиновича, а потом, испугавшись собственной смелости, отдергивала свою и прятала ее в кармане фартука. «Наверное», – шептал встревоженный отец, в глубине души понимая, что дело совсем не в этом.
Через какое-то время Аурика вышла из ванной с угрюмым лицом. Решительно подошла к окну, раздвинула шторы, сощурилась от света и снова задернула их, наслаждаясь искусственным полумраком гостиной. «Так мне и надо!» – размышляла девушка и с особым сладострастием страдалицы вспоминала детали сегодняшней встречи у памятника Пушкину, где она обычно встречалась со своими одноклассницами перед тем, как пуститься в ежевечернее странствие в поисках удовольствий. «Сомнительных удовольствий», – честно призналась себе Аурика, но внутри что-то предательски екнуло, и она добавила: «Чертовски соблазнительных удовольствий».
Своих приятельниц Аурика увидела сразу же, удовлетворенно отметив, что те стоят в окружении трех молодых людей пижонского типа. Издалека они показались ей воплощением мужественности и стиля. Отметив, что компания обратила на нее внимание, девушка радостно помахала им рукой и, втянув живот, чтобы казаться стройнее, направилась в их сторону.
– А вот и наш «крейсер «Аврора», – поприветствовал ее один из трех парней, оценивающе глядя на ее высокую грудь. – Что киль, что корма, – подмигнул он товарищам и протянул девушке руку, явно воодушевленный развязным хихиканьем ее подружек.
– Семен, – представился он оторопевшей Аурике и с силой потянул ее на себя.
За пять секунд компания оказалась разбита на парочки, о чем свидетельствовали быстрые и не в меру бурные объятия молодых людей. Аурика, оскорбленная приемом, с недоумением посмотрела на подруг, но ничего, кроме подленького злорадства, в их глазах не увидела.
– Как там тебя? – обратился к ней один из трех парней, имя которого девушке пока не было известно. – Ты, часом, не еврейка? А то – похоже.
Аурика, плохо понимая, что происходит, злобно поинтересовалась:
– А что? Есть какая-то разница?
– А нам – что еврейка, что грузинка, лишь цела бы серединка! – схохмил Семен, вызвав приступ хохота у своих товарищей, и обнял Аурику таким образом, что его правая рука снизу коснулась ее груди. – Ого! Что-то есть!
Девушка спокойно отвела руку молодого человека и, не отрывая глаз от подруг, с вызовом переспросила:
– Подержаться не за что?
Девчонки с пониманием переглянулись и хором зачирикали, противно растягивая слова:
– Аури-и-ика, ну, что-о-о ты-ы-ы! Ну, пусть ма-а-а-льчик потро-о-огает. Тебе что-о-о-о? Жа-а-алко?
Одобеску вытаращила глаза на бывших (это она сразу же решила) подруг и быстро нашлась, что ответить:
– А мальчику плохо не станет?
– Мальчику станет хорошо, – ответил за них Семен и ущипнул Аурику за попу.
От неожиданности она взвизгнула и залепила хаму затрещину.
– Ты что? Сдурела? – зашипел Семен и так сжал ее руку, что его собственные пальцы побелели от напряжения. Он явно был разгневан: знакомство приобретало какой-то неожиданно агрессивный оборот. – Ты чё руками-то машешь, корова?
– Отпусти руки, сволочь! – вошла в раж Аурика и, колыхнув грудью, прошипела ему прямо в лицо: – Руки отпусти, я сказала.
Семен, заметив, что на них обращают внимание, попробовал обернуть все в шутку и, в очередной раз подмигнув товарищам, агрессивно обнял девушку и со всхлипом впился в ее губы.







