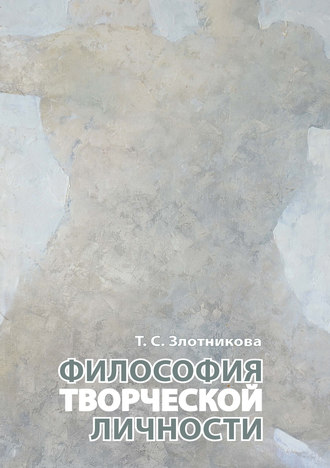
Т. С. Злотникова
Философия творческой личности
Термины, понятия, концепты
(от междисциплинарности к трансдисциплинарности)
Обращение к понятию «трансдисциплинарность» отнюдь не означает для большей части авторов того, что проблема решена. Обсуждается не только генезис тенденции и содержание деятельности, но и сам терминологический аппарат. Обсуждается разносторонне, иногда полемически, иногда категорично, но это обсуждение дает картину погруженности ученых в проблему и невозможности единого мнения о ее содержании. Неслучайно в одном из фрагментов монографии можно увидеть рассуждения В. Моисеева о «транснауке», где в шести пунктах дается обозначение особого взгляда на методологический феномен, явно более обширный и значимый, чем обсуждаемая трансдисциплинарность [2, с. 160].
Для одних авторов (Л. Киященко) трансдисциплинарность больше, чем механизм или парадигма, это идея, в частности, идея целостности [2, с. 116–117]; однако такое широкое понимание не исключает казусов «жизненно-практических ситуаций» [2, с. 133]. Иными словами, теоретическая всеохватность и привязка к действительности воспринимаются как органические признаки бытования трансдисциплинарности.
Для других авторов (В. Бажанов, вслед за Е. Князевой и Т. Куном) – «стиль мышления», основанный на использовании когнитивных схем и осуществляющий «экспансию в широкое пространство культуры» из сферы какой-либо одной дисциплины.
Для третьих авторов – своего рода медиатор, позволяющий осуществить переход от означаемого, каким П. Тищенко видит трансдисциплинарность, к означаемому – экзистенциальным проблемам, нуждающимся в «одомашнивании», преобразовании хаоса в порядок.
Для четвертых – как это следует из текста, хотя, возможно, В. Моисеев и не имел в виду такое буквальное толкование – это синоним «транснауки» «как новой стадии развития методологии». Причем этот автор, как и многие другие в настоящем издании, настойчиво подчеркивает принципиальное и, скорее всего, не вызывающее уже возражений различие меж– и трансдисциплинарности [2, с. 165–166].
Для пятых (Я. Свирский) – это вроде бы уже и не наука, и не научная дисциплина, и не парадигма, а еще больше – «концептуальное пространство», связывающее между собой ряд понятий, а также то, что можно именовать «сложностью мира» [2, с. 236]. Нельзя не заметить, что новизна обсуждаемой научной проблемы в основном не приводит авторов к попытке разрушения традиционных философских способов выражения мыслей, в силу чего та же трансдисциплинарность характеризуется через ряд других понятий (дивергенция, коэволюция, ризома и т. п.), сам набор и состав которых хотя и принадлежит новейшему научному времени, но спокойно сочетается как с традиционными и фундаментальными (бытие), так и с более поздними, но уже вжившимися в научную лексику (становление). Отметим в этой связи появление парадоксальных словосочетаний, удивляющих уже не раз упоминавшейся свободой и естественностью использования прежде устоявшихся понятий в их новой связи. Таково сочетание понятий «казус» и «концепт» (Л. Киященко), когда первый коррелируется с парадоксом, а второй – с возможностью его разрешения в трансдисциплинарной перспективе, а их сочетание, вслед за Ю. Хабермасом, автор видит как возможность «восстановить утраченное единство разума» [2, с. 114].
Наконец, для шестых (хотя почти у каждого автора можно найти вариации – но это именно вариации, тогда как мы обращаем внимание на индивидуальную трактовку или предлагаемый учеными номинативный ряд понятий, представлений) трансдисциплинарность становится прямым следствием этимологической «операции», в силу которой речь идет об исследованиях, идущих «через, сквозь границы многих дисциплин, выходят за пределы конкретных дисциплин» (Е. Князева). Важное для названного автора представление о «теории сложности» [2, с. 286] (здесь мы не можем не вспомнить публикации по проблемам синергетики Е. Князевой, Л. Киященко, некоторых других) – коррелирует у Е. Князевой не только с трансдисциплинарностью, но и с понятиями «полидисциплинарность» и «кооперация», а у Я. Свирского – не только с утвердившимися в синергетике «точками бифуркации», но и с имеющими социально-философские семантические привязки «текстом» и «контекстом».
Отметим попутно, что вариации с частицей «транс-» присутствуют как в русскоязычных, так и в англоязычных текстах (Дж. Т. Клейн), когда возникают и «трансгрессия» (М. Фуко) как направленный на разрушение границ жест, и давно уже привычное «трансценденция» (которую в контексте монографии можно понимать не только как методологически детерминированную операцию, но и как способ миропонимания, а если углубляться в философско-культурную традицию, то и как присущий романтической или символистской парадигмам способ бытия).
Если не образцом, то убедительным проявлением трансдисциплинарности, в парадигме которой стремятся работать сами авторы монографии, мы полагаем тот терминологический модус, которым характеризуется ряд текстов, мягко, но уверенно резонирующих друг с другом. Не имея возможности детализировать анализ всех текстов и всех идей, обратим внимание хотя бы на состав ключевых слов, предпосылаемых каждому тексту. Среди них, как и, разумеется, в «теле» текстов, многократно встречаются такие значимые для обсуждения и решения проблемы трансдисциплинарности понятия, как «коммуникация» (А. Огурцов, Б. Пружинин, В. Буданов), «деятельность» и «действие» (М. Кеестра и др.). Особенно важным представляется внимание А. Огурцова к понятию, имплицитно присутствующему в разных текстах, употребляемому подчас едва ли не всуе, и вдруг рассмотренному специально, проведенному через текст последовательно и бережно, – «смысл». В противовес известной тенденции сужения проблемного поля этого, нет, не понятия, но категории, при буквальности семиотических реплик и цитирований (привычка разведения «значения» и «смысла», по Г. Фреге), ученый апеллировал к М. Хайдеггеру, выделив «смысл» как «способ разверзания бытия и экзистенции человека» [2, с. 103].
Работа с терминологическим аппаратом как увлекательна, так и неблагодарна. Одни термины кажутся привычными и не требующими комментариев, тогда как анализ этимологии и семантики в действительности актуален применительно к новым проблемным коллизиям. Другие термины кажутся новыми и этим прекрасными, хотя уже были апробированы в той или иной научной сфере, но, возможно, позабыты или мало востребованы. В тексте П. Тищенко присутствуют оба названных варианта работы с терминами. С одной стороны, приходится возразить автору работы, посвященной «контексту языка» в отношении авторства, как он называет, неологизма «концентр» [2, с. 479]: автором этого понятия не может считаться Вл. Луков в силу того, что оно как минимум 80 лет назад верифицировано в словаре Д. Ушакова («Ступень обучения, связанная с предыдущей единством содержания и отличающаяся от нее большей сложностью и объемом» [1]). С другой стороны, нельзя не восхититься иронической метафоричностью научного текста в сочетании с подлинной междисциплинарностью привлечения опыта другой эпохи и другой науки; речь идет об обращении того же П. Тищенко к гениальной проговорке В. Шкловского – «остранение», – возникшей в параллель (о чем сегодня мало кто помнит) со знаменитой «теорией очуждения» Б. Брехта. Среди строгого и непростого текста философа легкость упоминания возможности «остранить (в смысле В. Шкловского)» читается как элемент интеллектуальной игры, в логику которой элегантно вписывается и собственная выразительная словесная конструкция философа – «мощь отсут(ь)ствия» [2, с. 472].
Из многих и разных терминов, востребованных в монографии о трансдисциплинарности, полагаем необходимым выделить термин «дискурс», то просто употребляемый, то углубленно обсуждаемый авторами текстов. Возможно, философам – авторам монографии – покажется странной причина нашего особого внимания к этому, казалось бы, общеупотребимому термину, однако сошлемся на удивительное высказывание, услышанное недавно в ходе работы руководимого нами диссертационного совета, где доктор исторических наук клеймил более молодого коллегу за использование термина «дискурс» (цитируем дословно): «С моей точки зрения, такая формулировка свидетельствует о недопонимании автором диссертации самого понятия „дискурс“. Эта категория была введена в историографию основателем постмодернизма М. Фуко. Это понятие пришло из постмодернизма и подразумевает систему осознанных и неосознанных правил, по которым строится говорение по той или иной теме. Дискурс – это то, что можно назвать „на кончике языка“. Например, говорящий может непроизвольно подстраиваться под те правила, которые господствуют сегодня в говорении о русской православной церкви. Исследователь может попытаться распутать клубок дискурсивных правил говорения, но он не может создавать дискурс. Это неуместное понятие». В монографии же о трансдисциплинарности чрезвычайно важным представляется уважительно-свободное обращение авторов с понятием «дискурс», когда, например, оно может быть употреблено во множественном числе (В. Буданов), а может быть включено в состав ключевых слов в едином ряду со «смыслом», который понимается как цель, «интенция», читаемая как индивидуальное побуждение, не без упоминания о М. Фуко. Причем в последнем случае (А. Огурцов) обозначен интеллектуально значимый «узел» понятий, связанных ясно, тонко и убедительно: подчеркнуто «различение смысла и значения, внутрисмысловых интенций», что способствовало появлению того, «что сейчас называется дискурс-анализом» [2, с. 107].
«Дискурс» выглядит в монографии понятием значимым, явлением широким и осмысленным. Он воспринимается едва ли не как живое существо, ибо можно обсуждать его «поведение»: он то «заходит на чужую территорию», то «начинает осваивать предметности», дискурсы могут встречаться на спорной территории, у дискурса могут быть границы, впрочем, иногда нечеткие (Г. Гутнер). Более того, в монографии буквально на одной странице встречаются друг с другом два главных и кровных «врага», обнаруживаемых некоторыми гуманитариями в междисциплинарной научной терминологии, два понятия, раздражение против которых высказывалось и подчас высказывается сейчас стремящимися к «традиционной прозрачности» и «чистоте речи» представителями таких дисциплин, как искусствоведение, история, филология. Эти «враги» – уже упомянутый «дискурс» и связанная с ним «парадигма». И прежде чем сказать вполне очевидное и едва ли уже не бесспорное в контексте смыслов монографии «научная дисциплина также является дискурсом», Г. Гутнер предлагает афористичное, тонкое и, с нашей точки зрения, убедительное, полезное даже для начинающих исследователей – с тудентов или аспирантов – определение: «Дискурс есть своего рода парадигма, задающая образцы построения речей и текстов» [2, с. 267].
Термины, понятия и концепты, обсуждаемые в монографии, можно сказать, работают на смысл представления о трансдисциплинарности, помогая уточнять, расширять и трансформировать его в меру необходимости.
Трансдисциплинарность в аспекте фундаментального и прикладного
Авторы монографии, как и все философы мира, живут в уверенности: «фундаментальное» и «прикладное» составляют дихотомию, преодоление которой осуществляется трудно, если вообще осуществляется. И если существование трансдисциплинарности становится основанием фактической реабилитации самого факта существования «прикладного», то это – великое чудо, поскольку в недрах последнего «нарабатывается сегодня новое знание» (Б. Пружинин). Философы чувствуют флюиды современности и понимают необходимость неконфликтного существования «высокой» науки и «низкой» практики, говоря о необходимости осуществить «трансцендирующий сдвиг в пограничную сферу с жизненным миром» (Л. Киященко).
Разводя уже на уровне состава ключевых слов своего текста понятия «фундаментальная наука» и «прикладное исследование», то есть подчеркивая разномасштабность фундаментального и прикладного, – Б. Пружинин не только акцентирует трансдисциплинарность как основу существования того и другого дискурсов, но и касается важнейшей в современных гуманитарных практиках, но по сути своей не изученной и даже не артикулированной всерьез сферы, где необходима трансдисциплинарность: речь идет об экспертизе как прикладной деятельности в сфере фундаментальных наук. Пусть вскользь, но упоминается даже значимость «личного общения ученых», которая имплицитно присутствует в той самой экспертизе. Те, кому приходится осуществлять экспертную работу, будь то изучение заявок, поступающих в те или иные научные фонды, или деятельность в диссертационных советах, знают, сколь значима упомянутая проблема и сколь многие нити связывают науки и людей в экспертной сфере. Наша экспертная работа, как позволяет предположить Б. Пружинин, а предположив, согласиться с ним, протекает не только в трансдисциплинарной сфере, но, скажем так, в трансграничной, а то и безграничной (что бывает связано с нечеткостью позиций или самонадеянностью авторов экспертируемых работ). Экспертное сообщество занимает представления и В. Буданова, который вольно и решительно включает в единый номинативный ряд с экспертным сообществом и телевизионную игру, и деятельность научных школ, от чего философское представление о современной антропосфере становится объемным, странным и «живым». Добавив к упомянутым прагматически детерминированным аспектам предмета трансдисциплинарной мысли еще и научно-образовательный пафос, отчетливо присутствующий у В. Бажанова, читатель монографии получает важный импульс понимания круга интересов современных философов: это интересы не абстрактные, учитывающие живое движение общественной и научной жизни. Отсюда такая редкая особенность философской монографии, как многообразие присутствия в ней иных, кроме традиционно и сугубо философских, мотивов и проблем. Речь идет о том, что целая группа текстов углубляется в те сферы, изучение которых в трансдисциплинарной парадигме является новым и особенно значимым.
Посетуем, напомнив сказанное нами в начале этого текста: среди сфер, которые назовем ниже, отсутствует культура как системная целостность или отдельные ее морфологические составляющие. Она, культура, лишь изредка и вполне случайно упоминается, но не привлекает специального интереса. Тем важнее для нас учесть опыт трансдисциплинарности, приобретенный в связи с другими сферами, и экстраполировать его в сферу культуры, для которой трансдисциплинарность насущна и необходима, но, с точки зрения многих опытных и в той или иной степени влиятельных исследователей, не применима или применима в ограниченном формате. Для нас же значимость трансдисциплинарности как оформившегося философского дискурса культуры несомненна, поэтому мы и обращаем внимание на то, как авторы монографии работают с иными сферами, близкими им.
Мы для себя следующим образом обозначили круг тех научных проблем и сфер действительности, к которым авторы монографии попытались применить имевшиеся в их распоряжении принципы трансдисциплинарности. Прежде всего, это две группы проблем, которые в широком смысле можно назвать общественными, или социогуманитарными, с одной стороны, и естественнонаучными – с другой. Впрочем, названное деление учитывает лишь доминанты, поскольку общественная значимость естественнонаучной проблематики также учитывается авторами монографии.
В первой группе, условно обозначенной нами в связи с общественной проблематикой, мы видим концептуальный обзор вызовов «в проблематике управления», предложенный В. Лепским. Автор выходит и на субъектность управления, и на глобальный, научно-дисциплинарный уровень. Хотя представляется странным, что проблематика управления именно в ее субъектности не была соотнесена с социально-психологическим потенциалом теории лидерства в его остром значении для политики, экономики, кстати, и культуры. Хотя, поскольку автор начинает разговор об управлении с позиции, названной «классическое кибернетическое управление» [2, с. 547], понятно, что личностный фактор не находится в числе его научных приоритетов, а ведь лидер – это как бы то ни было личность. Из контекста же понятно в аспекте традиций постнеклассической философии, что «субъект», который терминологически востребован в тексте, не является синонимом «личности», он лишь задействован в связи с парадигмой «субъект – полисубъектная среда в управлении экономическими системами» [2, с. 555]. Но даже вопрос или недоумение, рождаемое текстом монографии, мы рассматриваем как продуктивный путь к продолжению диалога.
К общественной же проблематике можно отнести тексты Ю. Ищенко, где сделана попытка подойти к толерантности с позиций трансдисциплинарности; И. Асеевой, у которой востребована проблематика «прогностического опыта» и обозначена надежда на построение модели «возможного будущего»; Вл. Лукова, обозначившего потенциал трансдисциплинарности применительно к стремлению «расширить границы исследования» ювенологического проблемного поля.
Во второй же группе, условно обозначенной нами в связи с естественнонаучной проблематикой, особое внимание обращает на себя рассуждение В. Горохова о необходимости и, скажем так, неотвратимости «трансдисциплинарности в силу того, что одна часть научного сообщества по отношению к другой выступает в качестве профанов, мало отличающихся от обычной публики» [2, с. 510], и это говорится сегодня, когда количество кандидатских и даже докторских диссертаций, защищаемых ежегодно, измеряется не сотнями, а тысячами! Мы же в этом суждении, приведенном в тексте с нанотехнологической и – шире – физической проблематикой, видим важный в психологическом отношении акцент, о котором одни стесняются говорить, а другие его высокомерно и подчас бестактно подчеркивают. В то же время философ, который пишет о существовании «нанотехнологических рисков» дает пример не только свободного, но и в своем роде самокритичного поведения в мире узкоспециального знания и абсолютизации не просто научной, но знаниевой исключительности. В том же естественнонаучном проблемном ряду мы видим некоторые рассуждения В. Бажанова, предлагающего анализ такого конкретного феномена, как «пан-компьютеризм», а также ряд материалов, посвященных разным аспектам проблемы биоэтики. В версии Л. Киященко и П. Тищенко это связано с методологией биоэтики; с анализом конкретных аспектов и коллизий – в версии Т. Сидоровой (о суррогатном материнстве), Е. Гребенщиковой (о влиянии пациентов на принятие решений в сфере взаимодействия медицины, социума, бизнеса), Б. Юдина (о «сфере этической экспертизы биомедицинских исследований»).
Диалог с философами о формировании трансдисциплинарного дискурса важнейших проблем современной науки приходится завершать.
Мы не будем давать развернутое резюме, подводящее итог рассуждениям, к которым подвигла монография российских философов и их зарубежных коллег. Отметим среди многих ранее выделенных идей и позиций, сомнений и приятий реплику Б. Пружинина о реальности и значимости «междисциплинарных» и «наддисциплинарных» контактов, в роли которых выступает обсуждаемое в монографии представление о трансдисциплинарности. В интересах развития молодой науки – культурологи – мы видим обращение к опыту древнейшей науки – философии – возможность работать в логике, согласно которой «прикладному знанию вновь возвращается культурное достоинство» [2, с. 252].
Наверное, это имели в виду и хотели обозначить как важное для будущих единомышленников в продвижении трансдисциплинарности авторы монографии, используя в эпиграфах эпические слова И. Бродского о пространстве, которое «нуждается сильно во взгляде со стороны», и Н. Заболоцкого: «Как все меняется!» – слова печальные и обнадеживающие.
Литература
1. Толковый словарь русского языка / под ред. проф. Д. Н. Ушакова. – М.: ОГИЗ, 1935. – Т. I. – С. 1454.
2. Трансдисциплинарность в философии и науке: подходы, проблемы, перспективы / под ред. В. А. Бажанова, Р. В. Шольца. – М.: Изд. дом «Навигатор», 2015. – 564 с.
2.2. Творческая личность в условиях методологических «ответвлений» ее изучения
«…безусловная „польза ответвлений“: они делают человека готовым к неожиданным поворотам жизни и никогда не бывают лишними»[1].
Изучение культуры в ее многослойности и многомерности, в органически присущих ей парадоксах взыскует междисциплинарности, которую метафорически можно обозначить как «пользу ответвлений» (Б. Раушебах). Очевидно, что органично, но подчас странно: как развивается сама культура, развивается и методология ее изучения, которое строится на идеях эстетики, искусствоведения, истории, социологии, психологии, синергетики. А ведь применительно к интересующей нас проблематике тенденция междисциплинарности возникла не сегодня, однако многие десятилетия звучат полемические, скажем так – «оборонительные» или «извинительные» интонации. По-прежнему современна реплика К. Г. Юнга, которая позволяет нам сегодня уже не оправдывать потребность в междисциплинарности, а развивать тенденцию применительно к конкретному материалу. К. Г. Юнг 85 лет назад сетовал на то, что «мы раздражаем и злим теолога не меньше, чем философа, а медика не меньше, чем воспитателя», а также вторгаемся в дела «биолога и историка» (вот прямая междисциплинарная интеграция). И объяснял эту «экстравагантность» не нескромностью, а тем, что «душа человека представляет собой необычайную смесь факторов, являющихся одновременно предметами самых разных наук» [35, с. 187].
Опираясь на свой опыт изучения актуальных проблем культуры, мы полагаем полезным обозначить возможности и острую необходимость междисциплинарности в культурологическом знании. Ниже мы попытаемся показать, насколько продуктивна и необходима междисциплинарность и в виде взаимодействия разных наук и научных дисциплин при изучении локальной персоны в культуре, и в виде применения одной методологической системы (но системы, обладающей изначально междисциплинарным потенциалом) к достаточно крупному культурному феномену. Мы обозначим механизм «работы» междисциплинарности в изучении одной из острейших и издавна разрабатываемых проблем – творческой личности. Также обозначим механизм и значимость «работы» синергетики, идеально соответствующей идее «ответвлений» в науке, применительно к изучению становящегося все более значимым феномена массовой культуры в конкретном локусе, России.
Опыт междисциплинарного изучения творческой личности
Стратегия изучения творческой личности в России за последние 40 лет связана с постоянными трансформациями методологических векторов. Характерная для 1950–1960 годов искусствоведческая установка на изучение творца в биографическом, теоретико-критическом, в лучшем случае историко-типологическом ракурсах стала активно дополняться элементами герменевтического, семиотического анализа художественных текстов как текстов культуры (прежде всего, под влиянием М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, а также работы так называемой «мейлаховской комиссии» по изучению художественного творчества, единственным действующим представителем которой сегодня остался Н. А. Хренов [33]). Именно в относительно новой научной парадигме стали сочетаться внимание к сущности субъекта и к процессу его работы по претворению сущности. Творчество как сфера воплощения идей и сфера воплощения личности через идеи, причем воплощения, происходящего на бессознательном уровне (по В. Соловьеву [27, с. 6]), рассматривается теперь специфически и значительно шире, чем биография художника.
Традиция философского изучения творческой личности в последние десятилетия активно дополнялась социологическими идеями и подходами, среди которых актуально значимым зерном полагаем мысль А. Моля, с социометрической точки зрения определяющего творца «как человека, который отправляет гораздо большее число сообщений, чем получает» [21, с. 91]. Существенной и продуктивной, хотя и требующей особо тактичного использования мы полагаем тенденцию психологизации изучения творца.
Наши исследования [9] показывают, что психоаналитическая школа стала своего рода образцом междисциплинарности, применяемой в конкретном случае – при изучении творческой личности [12], она являет гуманитарную ориентацию естественных наук, и это касается не только работ основоположника психоанализа – З. Фрейда, но и его последователей и оппонентов – К. Г. Юнга, А. Адлера, Э. Фромма, Э. Берна и некоторых других. Мы говорим о методологии психоанализа, в то время как его методики сохраняют узкоспециальное значение; а психоаналитическая методология вполне логично входила в фундамент философских концепций начиная с экзистенциализма. Недаром М. Мамардашвили в своих методологических построениях подчеркивал: «Психоанализ в действительности не исследует предмет так называемого бессознательного, который будто бы внутреннее, а создает возможность, условия для улова другого сознательного…» [20, с. 50]. Этим «другим сознательным» мы считаем актуализированное благодаря З. Фрейду (но не им самим) действие механизма творчества по принципу, обратному механизму забывания, гипноза, антиневротического отталкивания от негативных впечатлений, а также по принципу перевода психологических мотивировок из сознания в подсознание, бессознательной обработки жизненных впечатлений по аналогии со сновидениями и т. п. Важна, хотя и нечасто используема в изучении творческой личности проблематика ассоциации, остроумия – тоже следствие ассоциативной деятельности, сгущение, двоякое толкование, а также ошибки мышления, унификация, непрямое изображение [31, с. 343, 205–209,249]. Сюда же относим проблематику сна (как процесса) и сновидений (как его продукта), важную для изучения творца и эстетических особенностей его произведений [30, с. 120–121]; хотя мало кто из исследователей четко осмысливает представление о том, что «понятные» и «осмысленные» сновидения, сравнимые с образностью общеизвестных художественных форм, З. Фрейд справедливо называл «незамаскированными исполнениями желаний» [32, с. 337]). Вот почему в наших исследованиях важное место занимает изучение самоанализа творца, фиксирующего не только рождение художественных образов, но и возвращение болезненных сновидений. Это касается, в частности, изучения снов/ассоциаций А. П. Чехова, у которого мы обнаружили метафору «серого круга» – бытового явления и ключевой метафоры его писательского труда [7]. Искусствоведческий и филологический анализ текстов приобретает новый объем от обращения к психоаналитическим принципам изучения личности.
У прямых или косвенных последователей З. Фрейда теория бессознательного переплавляется в специфическое внимание к ребенку, чье спонтанно выявляемое бессознательное может приблизить к пониманию генезиса творческой личности. Вполне распространенным стало мнение о художнике как вечном ребенке, свободнее, чем остальные, использующем функции подсознания. В частности, сопоставление художника с ребенком рождается представлением о неотягощенности обоих стереотипами, а также об их способности изумляться [26, с. 36]. Предпринимая собственную типологию личностей, Э. Берн предложил рассматривать человеческую личность как структурированное триединство: Ребенок (средоточие «интуиции, творчества, спонтанных побуждений» [2, с. 19]) – Взрослый (рациональное начало) – Родитель (воплощение чужого опыта). Аналогия «ребенок – творческая личность» приобретает метафорическую и в то же время драматическую окраску в версии Г. Честертона и К. Г. Юнга. Первый выносит безнадежный приговор: «А тому, кто велик для детской, не войти в Царствие Небесное и даже в царство Аполлона» [34, с. 226]; второй отмечает трагизм бытия творца, который проявляет «ребячество или бездумность» [36, с. 117], теряя жизнь ради творческой самореализации.
Отталкиваясь от триады Э. Берна «Ребенок – Родитель – Взрослый», мы учли социопсихологическое положение: ребенок – это не только возрастная характеристика, но именно моделирующее качество личности, – применив эту идею в сфере искусствоведческого и культурологического анализа актерского творчества. Мы также применили ряд психоаналитических представлений о творческой личности и ее аналогии с ребенком к историко-биографическому изучению А. С. Пушкина [6], обратили внимание на открытость, которая прямо называлась современниками и позднейшими исследователями в качестве характернейшей черты Пушкина [23, с. 32, 51–52,78]. Причем имеем в виду не свидетельства о детстве и ранней юности Пушкина – о совсем взрослом Пушкине любили говорить как о ребенке. В воспоминаниях А. П. Керн настойчиво фигурирует типично детская поза («сидел на диване, поджавши, по своему обыкновению, ноги»), и маленькая, прекрасная – детская же! – «ручка», порывистость, опрометчивость, веселая любезность, когда он, «несмотря на всю его гениальность… точно не всегда был благоразумен, а иногда даже не умен» [23, с. 39, 42, 47, 75, 78].
Но поведенческий уровень достаточно банален для характеристики творческой личности. Более существенна проблема структурных характеристик личности (не абстрактной, в нашем случае – Пушкина) как ребенка. Важнейшим свойством ребенка считается бесстрашие. О Пушкине же С. Булгаков говорил о безудержности и безоглядности в проявлении страстей, об отсутствии «предохранительных клапанов» – но отмечал чрезвычайно тонко и «непрерывно двоящийся характер» того дара небес, которому философ дает название «детскость» и, более того, видит опасность этого дара, способного переходить границу «ребячливости или, как мы бы сказали теперь, инфантилизма» [25, с. 30]. Действительно, когда говорят о Пушкине как гении моцартианского типа, то не чураются понимания негативного качества чрезмерной детскости; такой человек, по мысли Д. Овсянико-Куликовского, «охотно и радостно, как ребенок, живет минутой; он беспечен и шаловлив» [22, с. 383]. Этот негатив настойчиво осуждал В. Соловьев, когда говорил, что эпиграммная деятельность Пушкина, его злословие, его неоправданная жестокость, облекаемая не всегда в высокие поэтические формы, – это выражение детскости у человека, который не дает себе труда задуматься о последствиях и нравственном смысле совершаемого. Иными словами, «ребенок» в Пушкине – это подчас «злое» дитя («злы только дураки и дети», – цитировала Пушкина А. П. Керн, добавляя, что он так говаривал не раз [23, с. 45], а в целом ребенок как модель – это подчас недостаточно контролируемое, но и раскрепощающее творческую личность свойство.
Особое значение для изучения творческой личности мы видим в интеграции методологических и концептуальных оснований искусствоведения и культурологии, с одной стороны, философских и психологических подходов, с другой; они по факту свободно применяются и, главное, сочетаются с единственной целью: многогранного, объективного (насколько это в принципе возможно в гуманитарной сфере) изучения отдельных персон и типологически выстраивающихся номинативных рядов. Именно в этой логике тридцать лет назад мы начали применять методологические принципы социальной психологии, чтобы решить прежде не отрефлексированную научную проблему творческого лидерства в искусстве, в частности в театре [11]. Поиски признаков личности творческого лидера, выявление механизмов его деятельности, соотношения художественных и организационно-административных интенций Г. Товстоногова, О. Ефремова, Ю. Любимова, а также великих режиссеров начала ХХ века дали существенные результаты для познания личностной специфики целого типологического кластера творческих личностей.


