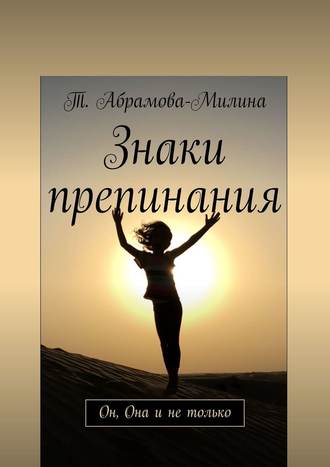
Т. Абрамова-Милина
Знаки препинания. Он, Она и не только
© Т. Абрамова-Милина, 2020
ISBN 978-5-4498-1055-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ОТ АВТОРА
«Ошибки – это знаки препинания жизни, без которых, как и в тексте, не будет смысла». Цитируя Харуки Мураками, задумываюсь об аналогии.
В жизни тоже бывают «знаки препинания», но не всегда они являются ошибками.
Бывают точки отсчета, поворотные точки, которые меняют кардинально течение жизни или вдруг, переворачивают сознание.
Запятые – когда, споткнувшись, человек идет дальше. Или просто нужна пауза, чтобы подумать, дать жизни время собрать все воедино.
Или многоточие – когда впереди неизвестность.
Точка с запятой – открываются новые негативные качества в человеке, которого знал всю жизнь. Вроде бы надо поставить точку, а ставишь запятую, вот она – «точка с запятой».
Вопросительные и восклицательные знаки – спутники каждого нашего дня.
Претворяешься тем, что пишут в кавычках. Произносишь фразу, смысл которой – в скобках. Двоеточие: понял смысл.
У каждого из нас свое «тире» – между рождением и уходом из этого мира. По существу, оно вмещает в себя всю человеческую жизнь, и каждый из нас находится сейчас в какой-то точке этого тире.
Бывают просто паузы, когда нет соответствующего знака и жизнь начинает новый абзац. Иногда осознаешь это гораздо позже.
Хочется писать рассказы, где только восклицательные знаки.
Но интереснее, где есть разные.
Выражаю благодарность всем, кто поддерживал меня в творчестве.
С любовью Татьяна Абрамова-Милина
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ
ОЛЬГА
Фотография была довоенной. Ажурный край, потертый глянец. Муж выглядел на фото совсем юным, хотя ему было уже за тридцать. Короткая стрижка, модный пиджак. Он был высокий, ладный, с крупными чертами лица. Ольга смотрела на фотографию долго-долго, будто пытаясь окунуться в нее и попасть в то время, когда они были беззаботными, счастливыми, и еще не верили в то, что будет война. Разглядывая каждую деталь, притягивая воспоминания со всеми подробностями, чтобы не забыть, не отпустить, не растерять: выражение глаз, прикосновения рук, нежность губ, до боли знакомый запах любимого тела, она поглаживала фотографию – пальцы помнили ткань пиджака, щетину на лице, шелк непослушных волос.
– Почему ты не приходишь ко мне во сне? Ты мог бы присниться. Ты что, не хочешь меня видеть? – Ольга представила себя на фотографии рядом с мужем. – Могли бы обняться, и теперь на фото были бы вместе. Постеснялись. Как я смогу тебя обнять?
Усталым движением Ольга облокотилась на спинку стула, откинула голову назад и закрыла глаза. Вся тяжесть дня раздавила ее снова. Отекшие ноги невыносимо гудели в кирзовых сапогах. Спину ломило так, что не встать со стула. «Одиннадцать, нет, двенадцать операций за сегодня, а раненных все везут и везут», – закрывая глаза, Ольга видела инструменты, бинты, салфетки – один и тот же калейдоскоп кружил, не отпуская. Черепно-мозговые травмы были по ее части, больше оперировать некому. Только разговаривая с мужем, с его фотографией, она находила в себе силы встать, идти в операционную, снова и снова часами оперировать, забывая поесть, и не имея времени поспать.
– Видишь, я беременная оперирую…, а ты хотел, чтобы я ушла с работы, когда решим завести ребенка. Ты, наверное, ужасно рад, что у нас будет ребенок? Конечно, как может быть иначе. Имя надо придумать.… Ну да, я опять об одном и том же, который раз, прости. Да-да, я сейчас поем и отдохну. – Ольга попыталась стянуть сапоги. – Ты же знаешь, сапоги – по уставу, не разрешают без сапог. Попрошу на три размера больше. А вдруг грохнусь в обморок опять? В маске, со скальпелем и в огромных сапожищах, вот смеху то будет…
Ольга еще некоторое время смотрела на фотографию, белой рамкой очерченной в сумерках комнаты, затем, чмокнув изображение мужа, бережно уложила маленькое фото в сложенную квадратиком «похоронку», спрятала все привычным движением под подушку.
Муж ушел на фронт в начале войны. Он был инженером, мог бы получить «бронь» и уехать вместе с ней в тыл. Она знала, что он этого никогда не сделает. Поэтому не спорила, а тихо умирала от предстоящей разлуки и дурных предчувствий. Похоронка пришла через два месяца. Чтобы не сойти с ума от горя, Ольга много работала и сразу начала хлопотать об отправке на фронт. К этому времени она уже знала, что беременна, но никому об этом не сказала. Родителей отправила к тетке в Сибирь. Назначение в прифронтовой госпиталь дали быстро, поскольку нейрохирургов не хватало. Ольга чувствовала себя на линии фронта, когда боролась за чужие жизни. Будто наравне с мужем. «Если бы кто-нибудь спас его там, как я спасаю других здесь».
Госпиталь отступал к Москве вместе с линией фронта. Ольга оперировала до самых родов, хотя живот очень мешал, и сил не хватало. Но ехать в Москву, а тем более в эвакуацию, она категорически отказалась. Анечка родилась в начале лета. Целых два дня Ольга отдыхала с малышкой, не оперируя, только давая консультации. Теперь ее жизнь приобрела новый смысл. Ольга разговаривала с мужем и дочерью одновременно, выдавая реплики за всех, как будто они были все вместе, одной семьей. Правда, пока никто посторонний не мог ее слышать. Анечка была не только спокойным и сообразительным ребенком, она была божественно красива. Правильные черты лица, лазурные глаза, длинные ресницы, белая кожа с акварельным румянцем, белокурые локоны. Ее с удовольствием нянчили все, и Анечка росла в госпитале как «дочь полка», подкрепляя в людях ожидание другой, послевоенной жизни.
Новый год в госпитале справляли по-семейному. Врачи, медсестры, санитарки, больные – все вместе. Ольга уложила ребенка спать и присоединилась к столу. Обсуждали все те же новости: победу под Сталинградом, наступление нашей армии. «Когда же закончится война?». Ольга смотрела на скромный новогодний стол и вдруг поняла, что секунду назад она сидела с другой стороны. Как она переместилась в это место, она не помнила. Машинально выпила немного спирта и ушла в свою комнату. Голова кружилась, Ольга уже к этому привыкла, от переутомления так бывало. Она достала фотографию, привычно завела разговор о прошедшем дне. Вглядываясь в фото, она не смогла узнать мужа, а потом с ужасом поняла, что не может вспомнить его лицо. «Что это я? Так напилась?». Она встала, осторожно открыла дверь, собираясь вернуться к застолью, но в следующий момент потеряла сознание, рухнув на пол, словно кукла, брошенная кукловодом. Очнувшись, увидела склонившихся над ней коллег. Она и раньше падала в обморок, но это было от неимоверной нагрузки. Ольга понимала, что с ней что-то не так. Ее освободили от операций, провели обследование, состояние ее ухудшалось. Ольга сама поставила себе диагноз, он позже подтвердился – опухоль мозга.
Стоял холодный февраль. Госпиталь переезжал теперь чаще, чем раньше, не поспевая за наступлением советских войск. Ольгу и Анечку разместили в небольшом классе – госпиталь располагался в сельской школе. Специально для Ольги вызвали из Москвы известного нейрохирурга. Операцию назначили на завтра. Ольга лежала в кровати с бритой головой, в белой косынке из наволочки. Анечка играла в самодельном манеже на полу рядом с «буржуйкой». «Господи, что я сделала не так? Разве мало жизней я спасла? Что будет с Анечкой? За что, Господи? За что?» – заезженной пластинкой гудели в голове одни и те же вопросы. Ответом на них была тупая боль и приступы помутнения сознания.
Стоял холодный февраль. Госпиталь переезжал теперь чаще, чем раньше, не поспевая за наступлением советских войск. Ольгу и Анечку разместили в небольшом классе – госпиталь располагался в сельской школе. Специально для Ольги вызвали из Москвы известного нейрохирурга. Операцию назначили на завтра. Ольга лежала в кровати с бритой головой, в белой косынке из наволочки. Анечка играла в самодельном манеже на полу рядом с «буржуйкой». «Господи, что я сделала не так? Разве мало жизней я спасла? Что будет с Анечкой? За что, Господи? За что?» – заезженной пластинкой гудели в голове одни и те же вопросы. Ответом на них была тупая боль и приступы помутнения сознания.
Ольга задумалась о потусторонней жизни. Ей казалось, что вот-вот накатит страх смерти, охватит ужас, начнется истерика, но страха не было, только легкое отупение. «Это от лекарств». Она представила темное, сырое подземелье, огромную каменную дверь, покрытую плесенью и мхом, и себя, стоящую перед этой дверью, в больничной рубашке, босиком, с бритой головой, на которой запеклась кровь между грубыми швами. Нужно только толкнуть эту гигантскую дверь и шагнуть в темноту. Так виделся ей переход от жизни к смерти.
В комнате был прохладно. Окно напоминало картину в дешевой раме, на которой с каждым днем ярче проявляется морозная роспись, иней придавал узорам объем. Февральская вьюга тоскливо подвывала, перекрывая шум канонады. Стемнело. Низкая лампочка то мигала морзянкой, то гасла на время. Анечке еще не было года, она резво ползала, и сама играла нехитрыми игрушками, привыкшая к полумраку. Ольга сползла с кровати, расположилась рядом с дочкой на полу, взяла ее на руки, закутавшись в суконное одеяло, как в кокон, обняла ее крепко и нежно, прощаясь с ней заранее.
– Вот, мое солнышко, какая хитрая штука жизнь. Когда умер твой папа, я тоже хотела умереть. А теперь так хочу жить, радоваться вместе с тобой, но бог посылает мне болезнь, от которой нет спасения. Как же так, доченька? – Ольга пыталась представить, как будет выглядеть ее красавица дочка, когда вырастет. – Ты забудешь меня, станешь взрослой и красивой, а я не увижу тебя, не смогу помочь, не смогу научить тебя жизни…
Анечка засмеялась, ладошками обхватила ее лицо, пытаясь укусить за нос. Ольга гладила светлые локоны, целовала нежные щечки, вдыхала молочный запах детского тельца, чтобы запомнить его навсегда. «Я буду стараться, доченька, я буду стараться выжить… ради тебя». Анечка пускала пузыри и тыкала пальчиком в ее мокрые глаза. В комнату вошла пожилая санитарка, тетя Паша.
– Ну как ты, милая? – тетя Паша была одинокой и всем сердцем любила Ольгу и Анечку. Она была невысокая, круглолицая, с такой же круглой и мягкой фигурой. Черты лица у тети Паши были простые славянские, ничем не примечательные. Белый платок прикрывал ее извечную прическу – пучок на затылке. Движения Тети Паши были неторопливы и основательны, без лишней суеты. От нее веяло заботой и вековой женской мудростью.
– Тетя Паша, видишь, время мое пришло. Прошу тебя еще раз, не оставляй Анечку, сама ее к моим родителям отвези. Она к тебе привыкла. Чтобы в детдом не попала, когда меня не станет.
Тетя Паша взяла у нее ребенка, проверила ножки и спинку. «Холодные. Как бы ни застудилась». Посмотрела на Ольгу долгим взглядом, помогла ей подняться.
– Не гневи бога! Раньше времени на тот свет собираешься, – строжилась тетя Паша, потом вздохнула, уже мягче и тише сказала, – На все воля божья. Вспомни, какоть бывало: мы человека отпустить готовы, ан нет, он жить хочет и ведь живет. Так бывает, сама ить знаешь. Тебе жить надо. Об другом не думай. Давай-ка, отдохни, я Анютку заберу, зябко тут у вас.
– Я смирилась уже, тетя Паша, будь, что будет…, Анечку береги. – Ольга легла в постель, закрыла глаза, всем своим видом выражая отрешенность.
В комнату вошла молодая женщина, врач. Она была в госпитале недавно.
– Ну что тут у вас? Как Вы, Ольга Семеновна? Хирург уже едет, поехали встречать его…, – она посмотрела на Ольгу сочувственно, хотела выйти, но встретилась глазами с Анечкой, замерла на секунду в дверях, уходя, полушепотом сказала:
– Господи, какой ребеночек-то красивый, сущий ангел, – наклонила голову к груди, перекрестилась, как бы тайком, мелким крестом, чтобы никто не видел. – Такие долго не живут.
Тетя Паша услышала ее слова, одними губами ответила: «Тьфу на тебя, зараза!».
Ольга не слышала, погрузившись в свои мысли. Она вспоминала свою жизнь и все искала ответ на вопрос: за что? Мысленно просила прощения у всех, кого вспоминала. Лежа в полудреме, изредка открывая глаза, Ольга рассматривала убогую комнатку в серой штукатурке, как бы разделенную пополам. На половине вокруг ее кровати были только блеклые пузырчатые стены – глазу не за что зацепиться. На другой половине – иссиня-черное окно, замерзшее и припорошенное инеем, желтая дверь, классная доска, вдоль которой на веревке развешаны детские вещи. Они были единственным цветным пятном на фоне коричневой школьной доски. «Вот, – думала Ольга, – там, где все цветное – это жизнь. Это мой ребенок, это радость и надежда, а там, где я – все серо-белое – это смерть. Никто не знает, что смерть серая, а я знаю…»
Перед операцией врачи, сестры и санитарки под разными предлогами заходили в палату к Ольге. Все знали, что операция будет тяжелой, и она может не выжить. С кем-то Ольга поговорила на прощанье, с кем-то не успела – спала. Когда Ольгу повезли в операционную, больные и раненные, вышли в коридор, стоя молчаливым забинтованным караулом, провожая ее в неизвестность. Многим из них она спасла жизнь.
Операция длилась несколько часов. Во время наркоза Ольге приходили разные видения. Странное было состояние. То ли сон, то ли явь. То ей казалось, что она слышит голоса хирургов. То будто она сама с кем-то разговаривает, то белый плотный туман надвигался на нее чудными образами, не давая смотреть и дышать. Туман рассеивался, она оказывалась в разных местах, знакомых и незнакомых. Ей хотелось остановить эту карусель картинок, но они менялись сами по себе. В очередной раз она увидела сквозь туман знакомый пригорок на берегу реки. Они любили там бывать с мужем. Ольга подошла к реке и увидела мужчину, сидящего на пригорке. Муж! Он был в военной форме. Сидел и курил. Ольга бросилась к нему, хотела обнять, но он жестом остановил ее, не позволив подойти ближе. Кивнул, улыбаясь и прищуриваясь, как всегда, долго смотрел ей в глаза. Они умели так разговаривать, молча, просто глядя в глаза друг другу. Потом он встал, посмотрел на нее серьезно, слегка помахал рукой и отступил в туман. Силуэт его растаял. Пригорок утонул в белой пелене. Туман опять наползал, клубясь, теперь он был похож на полупрозрачные облака.
«Мама, мамочка!» – Ольга обернулась машинально. К ней спешила незнакомая девушка. Она протягивала Ольге руки, подойдя ближе, обняла ее. Ольга оторопела, не понимая, что происходит. Что-то до боли знакомое было в ее облике: белокурые локоны, ослепительно-синие глаза, знакомая улыбка. Белое платье до пола с длинными рукавами струящейся тканью сливалось с облаками. «Она похожа на Ангела, – подумала Ольга, – только без крыльев. Наверное, я умерла».
«Ты не узнаёшь меня?» – девушка улыбалась. «Мамочка! Это я, твоя Анечка!». Ольга, все еще не понимая, смотрела на девушку, а та, не отпуская ее, прильнула головой к груди. «Ты – моя Анечка? – Ольга вглядывалась в знакомые и незнакомые глаза. – Когда ты успела так вырасти, доченька?». Девушка обняла ее крепче. «Я так люблю тебя! Помни это всегда, я очень-очень тебя люблю!». Ольга была растеряна, мучительно пытаясь понять происходящее. «Это сон?». Но она чувствовала прикосновения, видела близко родное лицо, как будто она давно уже знала эту девушку. Это ее дочь, Анечка, только уже взрослая. «Похожа на ангела» —
эхом пронеслось в мыслях, сердце защемило. «Мамочка, ты будешь жить. Моя любовь даст тебе силы. Ты должна жить». Девушка отступила на шаг, не отпуская ее рук, потом еще на шаг, держа одной рукой Ольгину руку. Потом еще на шаг. Ее лазурные глаза светились любовью. «Я очень тебя люблю, милая моя мамочка!». Она удалялась от Ольги, не отводя взгляда, грустно улыбаясь, и протягивая к ней руки, как будто ее уносило облако. Видения исчезли. Потом была долгая-долгая темнота. Болело сердце.
Операция прошла успешно. Опухоль оказалась доброкачественной. Ольга пришла в себя через сутки после операции. У ее постели верным сторожем сидела тетя Паша. Когда Ольга открыла глаза, та кинулась за врачами. Они вошли все сразу, несколько врачей и медсестер. Ольга смотрела на них сквозь пелену, она не могла разглядеть опухшие, красные от слез и полные ужаса глаза тети Паши.
Ольга спросила еле слышно:
– Она умерла?
Коллеги от неожиданности не могли вымолвить ни слова. Они готовились сказать Ольге, что Анечка умерла в одночасье во время ее операции от резко поднявшейся температуры, но хотели сделать это позже, когда ее состояние будет стабильным. Не дождавшись ответа, Ольга потеряла сознание.
После войны Ольга снова вышла замуж. У нее родились две дочери. Ольга стала профессором медицины, работала, пока позволяло здоровье. До самой старости она получала письма от коллег и благодарных, спасенных ею людей.
В ее комнате на стене висели фотографии, заполняя почти всю стену. Там были родители, дети, внуки, сама Ольга, ее мужья и друзья, словом, все близкие ей люди. Среди фотографий был всего один рисунок карандашом, небольшой, в скромной рамочке: девушка с большими глазами и крупными локонами до плеч, за ее спиной – легким росчерком пера – плыли облака, напоминающие крылья.
БЕНЯ
Яков Моисеевич Штеккер был импозантным мужчиной в достойном возрасте, когда еще не думают о своих похоронах, но уже не планируют существенных перемен. Еще в ранней юности друзья прозвали его Беней, это имя так прилипло, что иногда он даже не откликался на Якова Моисеевича. Беня был образован, умен, хитер, изворотлив, предприимчив, словом, обладал всеми нужными качествами, чтобы стать подпольным миллионером. Большая часть его жизни прошла в Советском Союзе. Еще в молодые годы Беня выбрал деньги основным приоритетом. Конечно, он хотел бы заседать где-нибудь в Академии наук и участвовать в международных ассамблеях, но в свое время он скрупулезно исследовал вопрос развития бизнеса в стране и сделал свой выбор. Он защитил диссертацию, работал на стыке наук, имел множество связей, не говоря уже о том, что оказывал множество платных услуг в сфере бизнеса и коммуникаций. Серые доходы не позволяли шиковать, к тому же Беня не хотел выделяться и привлекать к себе внимание. Он начал зарабатывать в то время, когда компетентные органы еще незримо присутствовали в повседневной жизни. Времена изменились, но привычки остались.
Беня жил в хрущевке в трехкомнатной квартире, где у него была спальня, гостиная и рабочий кабинет. Отвечая кому-нибудь на вопрос о собственной недвижимости, Беня говорил, что у него трешка в широком центре Москвы. Что такое «широкий центр» никто не спрашивал, поэтому для всех Беня жил в хоромах в самом центре столицы. В квартире у него была новейшая техника известных компаний, правда следует заметить, что Беня никогда ею не пользовался. Ему было жалко пачкать посудомоечную машину, духовку, индукционную печь, и стиралку с сушкой немецкой навороченной модели, но в бытовых разговорах на работе он со знанием дела, вставлял свои замечания.
Каждое утро Беня, видя себя в зеркале, здоровался сам с собой и видел в отражении моложавого, жизнерадостного, очень умного человека с глазами цвета черной вишни, аристократически белой кожей, вьющимися черными волосами, плотной фигурой с пивным животиком, которым он по непонятной причине втайне гордился. Беня улыбался сам себе, произносил вслух полную сумму своих сбережений по состоянию на последний день предыдущего месяца, подмигивал и шел умываться.
В один прекрасный день Бене показалось, что он слегка прибавил в весе. Беня, с присущей ему щепетильностью, изучил досконально вопрос об обмене веществ и диетах, подобрал для себя нужный режим питания и через месяц он опять радостно себе улыбался, гордясь тем, что сбросил даже намного больше запланированного. Вопрос питания у Бени базировался исключительно на экономии. В молодости он ел скудно, а в зрелости не стал менять привычки, хотя в гостях ел за двоих и слыл гурманом.
Беня относился к той категории людей, которые очень успешны в бизнесе, но совершенно инфантильны в личных отношениях и вообще в социуме. Личная жизнь для Бени была под запретом даже самому себе. Он всю жизнь прожил один, не считая детства и студенческого общежития. Родители рано умерли. В ранней юности он встретил девушку, они влюбились, встречались и дело дошло до знакомства с родителями. Беня готов был жениться и содержать семью, ведь он уже тогда зарабатывал нелегально большие деньги. Но мир рухнул, когда любимая сообщила, что родители категорически запретили даже встречаться «с этим поцом», поэтому замужество вообще не рассматривалось. Девушка любила Беню, но все же бросила его, пролив не мало совместных слез. Беня допытывался у девушки, в чем причина, чем он так не понравился родителям, ведь он достойный человек, крепко стоящий на ногах. Девушка сдалась и рассказала, что главная причина в том, что он «не прошел священное лоно еврейской матери». То есть он был не чистокровным евреем, а только наполовину, поскольку отец его был евреем, а мать поволжской немкой.
Для Бени это был неожиданный хук, и он с присущей ему скрупулезностью изучил свою родословную, но в какой-то момент решил изучение прекратить, потому что чем дальше, тем больше вызывала сомнение чистота его кровей. К нации немцев Беня себя не относил, во-первых, с такой фамилией не попрешь, во-вторых, родственников по матери он не знал, а в-третьих, немцы ассоциировались с фашизмом и холокостом. Поэтому до встречи со своей первой и последней любовью, Беня считал себя настоящим евреем и особо не волновался по этому поводу, даже находил в этом ряд преимуществ, например, не надо было вступать в коммунистическую партию. Где-то внутри, национальность его радовала, а принадлежность к избранному народу соответствовала его амбициям.
Так, его первая любовь, сама того не зная, вложила Бене комплекс неполноценности прямо в середину мозга. Он, как червяк, точил мозг и откусывал по кусочкам серое вещество. Иногда он просто жрал Бенин мозг днем и ночью, иногда затихал, пока какой-то внешний фактор не будил этого паразита. Последний приступ чувства неполноценности накатил на Беню, когда вышел фильм «Гарри Поттер и принц-полукровка». Фильм Беня не смотрел, но названия ему хватило, чтобы впасть в уныние.
После той истории Беня не заводил романов и не пытался жениться, оценив вскоре преимущества самостоятельного существования. Он всячески убеждал себя, что жить одному очень комфортно. Ведь он обладает абсолютной, полной свободой, ему не приходится подстраиваться под кого-то, ему не нужно думать о другом человеке. Он хозяин своей жизни, своего времени и своих желаний. Иногда на него нападала тоска, особенно, после просмотра какой-нибудь мелодрамы или вдруг нахлынувших воспоминаний. Были женщины, которые ему нравились, но ни разу он не был влюблен, как прежде. А представив, что из-за какой-то женщины придется менять свою жизнь, Беня впадал в еще большую тоску, чем от воспоминаний, и прекращал даже думать о возможности отношений. Вступив в зрелый возраст, он вовсе обленился. Насчет «стакана воды», который ему никто не подаст, Беня не беспокоился. У него было достаточно средств, чтобы в глубокой старости стаканы стояли к нему в очередь. В состоянии крайней тоски Беня размышлял о домашнем питомце, но никто не смог пройти отбор: кошек Беня ненавидел, собак боялся, а птички вызывали раздражение. Прочие «твари», как он выражался, в конкурсе не участвовали.
Беня вел довольно замкнутый образ жизни. С семейными знакомыми он не общался в свободное время по внутренним этическим соображениям, одиноких к себе не допускал. Встречаться с людьми можно в общественных местах, не обязательно приглашать их домой, слава богу, время такое наступило. Из близких родственников у Бени была только старшая сестра. По паспорту она была Рахиль, но все звали ее Рая. Сестра была очень умна, но, как считал Беня, она себя не реализовала, поскольку неудачно вышла замуж за простофилю, который не умел зарабатывать, тянула семью сама. Кроме того, она не могла иметь детей и не переставала страдать по этому поводу. Беня, конечно, любил сестру и жалел ее. Но никогда не помогал ей и старался встречаться как можно реже. Втайне он считал, что, возможно, она даже умнее его. Каждый раз на очередном дне рождения, Рахиль подкалывала его очень изощренно и, не давая времени ответить, переключалась на другое, так что Беня только успевал вместо совместного смеха выдавить из себя «кхе-кхе», потом разрабатывал в мозгу план мести, выдумывая ядовитую шутку. Применить ни то, ни другое Беня так и не успевал, вскоре получал следующую порцию подколок. Даже производственные трудности не выбивали его из колеи так, как родная сестра.
Счет на подколки был примерно десять к нулю в пользу Раи. И однажды Беня сам себе признался, что он сестру ненавидит. Ему даже полегчало. Но все же Беня тщательно подготовился к реваншу, который наметил на столетний юбилей любимой бабушки, но Баба Циля умерла, не дотянув полгода до ста лет, и у Бени пропал шанс отыграться. На похоронах шутить как-то не уместно. Подготовленные ядовитые шутки и подколки отравляли самого Беню. Ненависть к сестре была у Бени вторым пунктиком после вопроса чистоты крови.
Одним прекрасным утром Беня подошел, как обычно к зеркалу, с утра ему пришла в голову хорошая шутка, которая могла бы позлить сестру и он, видимо, не успел перестроиться на свой обычный утренний манер, потому что вдруг увидел в зеркале совершенно незнакомого человека. Какая-то пелена спала с глаз Бени, и он увидел себя в цифровом изображении с повышенной четкостью. Беня стал присматриваться к человеку в зеркале. Так женщина замечает вдруг морщинку на лице и начинает уделять ей больше внимания, чем всей своей семье. У человека в зеркале было столько морщин, что впору уйти в монастырь и там их разглядывать. Волосы его поникли засаленными веревками, кожа на шее была морщинистая, с множеством родинок, которые он раньше не замечал.
Беня был напуган. Он разделся, осмотрел себя со всех сторон, расстроился еще больше. Замечательное похудение сыграло с ним злую шутку- кожа обвисла. Спортом Беня отродясь не занимался, ему хватало шахмат для очистки совести. Живот тоже отвис и наступал уже на ту часть тела, куда обычно показывает галстук. Беня решил пойти до конца и хорошенько разглядеть себя со спины. Потратив немало времени для установки зеркал Беня наконец, увидел свой обвисший зад, дающий фору двум шарпеям.
Кто рассматривает свое седалище, получает неизгладимое впечатление. Особенно, если вид сзади и снизу, как это сделал Беня. У него началась паническая атака. Пульс забился в истерике, выступил пот, перехватило дыхание. Беня щупал себя за все места, сидя на полу и прислонившись к кровати. Он употребил все матерные выражения, которые знал, несколько раз и в разной последовательности. Мыслей в голове не было. Только зад бабы Цили почему-то пришел ему в голову. А дальше только шок. «Я подумаю об этом завтра» – процитировал Беня героиню известного романа и поплелся на работу, пришибленный открытием самого себя.
На работе никто ничего не заметил, потому что Беня всегда ходил с немытой головой, в мятой рубашке и зажеванных брюках. Сосредоточенное выражение лица было свойственно Бене. Но сегодня он был особенно сдержан. Он пытался сделать выводы из увиденного, понять, как это повлияет на его жизнь. Тут его ошпарила мысль, что такая перемена неспроста, и возможно, здоровье ему досталось не по отцовской линии, не от бабы Цили, а по материнской. Мать умерла давно, не успев состариться. Беня начал лихорадочно припоминать все болезни до седьмого колена по линии отца и по линии матери. Нашел у себя парочку симптомов. Не успев додумать мысль о возможных заболеваниях, он впал в ступор, его буквально обожгла мысль: кому достанутся его подпольные миллионы, если он вдруг умрет. Перед глазами возникла ехидная улыбочка сестры.
Беня застонал. Рахиль не знала о его богатстве, он представил, как она поразиться, когда узнает. Она, конечно же, пожалеет, что была к нему несправедлива, что изводила его шуточками. Но тут он представил, что на чтении завещания она узнает, что ей не досталось ни копейки. О, он много отдал бы, чтобы увидеть ее рожу в этот момент! Но стоп!
Она старше его, она должна умереть раньше! В мозгу у Бени сделалось короткое замыкание. Он хотел увидеть рожу сестры на чтении завещания и при этом он должен ее пережить. От этих мыслей Беня совсем заболел. Пытался отогнать эти мысли, но ничего не получалась. Он видел картинку похорон на еврейском кладбище, но в гробу по очереди лежал то он, то сестра. Беня плюнул и поплелся домой, прихватив по дороге банку маринованной селедки, порезанной кусочками, и полбулки черного хлеба.
Дома Беня постелил газетку на деревянный стол, сняв предварительно скатерть, и приступил к трапезе. Беня называл это «душа селедки просит». Сидя за столом с селедкой, черным хлебом и очень сладким, очень горячим чаем, Беня чувствовал себя вне времени. Он был в этот момент молодым, вся жизнь его была впереди, и в зеркало он не смотрел.
Сеанс селедочной психотерапии прошел успешно. Беня пришел в равновесие. По телевизору передавали новости, в частности, о том, что погиб человек, подойдя к подъезду – на него упала сосулька.
«Сосулька, кирпич, метеорит», – подумал Беня. Он решил, что нужно всерьез заняться вопросом о наследстве. О сестре он больше не думал. Теперь Беня с присущей ему щепетильностью решил рассмотреть научные организации и фонды, которые достойны его капиталов.
В рабочее время Беня был занят, но все вечера он проводил за изучением подноготной ведущих корпораций. Не найдя достойных претендентов, он переключился на стартапы в стране, затем на научные организации и университеты и, наконец, на дома престарелых и детские дома.
Унылая картина последних совершенно расстроила Беню. Бедные детишки, у которых воруют все, кому не лень, вызывали у Бени сострадание. Но желания отдать что-то даже после смерти не возникло. Мысль усыновить ребенка когда-то однажды приходила ему в голову, но он быстро ее удавил. Чем больше он читал о детских домах, тем больше его одолевала мысль, что самым достойным наследником может стать только родной собственный ребенок.
Мысль о том, чтобы жениться отпала сразу- Беня помнил зеркало заднего вида. Возраст уже не тот, да и менять свою жизнь Беня по-прежнему не хотел. Чужая женщина в доме, у которой могут быть родственники, совершенно не вписывалась в картину мира Якова Моисеевича Штеккера. Хотя, с присущей ему скрупулезностью, он изучил вопрос брачного договора, прав и обязанностей сторон, провел опрос среди всех знакомых, выявил грозящие ему убытки и недостатки. Преимущества Беня не рассматривал.



