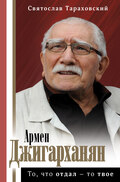Святослав Тараховский
Немое кино без тапера
7
Откуда-то сбоку вплывает и занимает все изображение лицо полковника Шерстюкова, серое, недосыпное, квадратное, героическое, изрезанное складками отеческой заботы о солдатах и непроходимой глупостью. Он вздергивает набухшие веки и, рассчитывая на единодушный, благодарный, с криками «ура» ответ, прославляющий его стратегическую мудрость, размыкает губы. «Как воевали, сыночки?» – спрашивает полковник, по сути, равнодушно, но широко улыбаясь тридцатью двумя имплантами, сработанными для него по военной скидке в московской клинике, и исчезает засвеченный и пересиленный солнцем.
Тяжелое дневное солнце.
Алексей касается бурой брони, тотчас, ожегшись, отдергивает руку, дует на пальцы и, крепко матюгнувшись, сплевывает под скаты. Ребятишки смеются. Он расстегивает верхние пуговицы х/б, потная грудь с наслаждением ловит хоть какой-то, хоть слабый ветерок, возникающий при движении бронетранспортера.
Бабочка. Откуда в горах заурядная белая капустница? Залетела из Подмосковья? Она то садится на броню, то, вычерчивая неадекватные кривые, вьется над его кирзачами. Обгоняет БТР и снова возвращается к его сапогам. Что они ей дались? Что-что? Аромат его портянок? Балдеж от гуталина? Ребятишки снова смеются.
На броне их трое. Он – с подствольником, Витек и Серый – с «акашами». Лепешка Витькиных часов стреляет зайчиками, слепит и смешит Серегу. Неторопливой гусеницей вползает колонна с равнины в подъем, в ущелье, заросшее щетиной «зеленки».
Вся колонна – пять единиц, он видит ее словно взглядом сверху, словно с винтокрылой «вертушки». Впереди, придавливая пыль, катит БМП с пушчонкой, за нею их БТР и два УАЗа со взводом мотострелков; замыкает колонну еще одна БМП, где водилой Олег Терентьев.
Витек всматривается в дорогу, курит глубокими, до задышки затяжками, отстреливает окурок щелчком.
– Блядь, – говорит он. – Колонна. Ни головного дозора, ни боевого охранения. Чистый голяк.
– Не виляет, – определяет Серый. – Шерсть – стратег, дело знает.
– Говно он. Сюда бы его жопу. В том месяце такую же колонну подставил – забыл? Нормальный ход?
– Прорвемся, мужики, – отвечает Серый. – Что главное в танке? Не бздеть.
«Главное, – думает про себя Алексей, – вернуться живым. Я – козел. Мечтал о войне и победах. А войны нет, есть грязь, вонь и сплошная тупость. Впрочем, наверное, это и есть нормальная война; когда собираешься на войну, надо знать, что она такая, другой не бывает».
Слева – гора, справа – обрыв, дорога проложена по неширокой полке. Грузные, лобастые камни, проволока плотных кустов цепляется за броню.
Солнце припекает, гнет к земле. Красные, оранжевые, зеленые круги блуждают под веками. Он вдруг видит Дашку, ее серые глаза и легкую светлую челку над ними. «Ладыгина, это ты?» – «Я, Ребров, я». Ему нравится быть ее мужчиной. Он качается в «качалке», дерется на ринге и бьет кого-то в челюсть, он прыгает с парашютом, ныряет в ледяную прорубь, стреляет и преследует бородатых – ради нее; пусть знает, что ее мужчина самый смелый, самый сильный на свете, ему нравится соответствовать ее идеалу, ловить в обращенном на него взгляде синий огонек восхищения. Расшвыривая желтую листву, «хонда» несется на рассвете по Воробьевым горам. Дашкины руки сцеплены в надежный замок у него на груди. Спиной он чувствует ее тепло, ровный, неиссякаемый жар. Ее губы касаются его затылка, и дрожь пробивает его током до самых оконечностей. Мотоцикл влетает в пустынный парк. Кожаная куртка-косуха летит на землю. И вот девчонка уже пластается на ней, голая снизу, с остренькой вершиной пупка, с дымящимся, гудящим, зовущим в себя меховым треугольником, и он тянется к нему рукой, всем существом своим, всей своей ничтожной человеческой жизнью, которая может продлиться только в нем.
Он открывает глаза; несгибаемое его естество распирает ширинку, ласкает мозги теплом и надеждой на встречу, которая обязательно состоится и будет такой, какой только что нарисовалась в мечте. Он улыбается – солнцу, броне, дороге, лесу, ребятишкам, жизни, которая так хороша.
Молния и гром бьют одновременно; крики, свист, вой, мат; треск пулеметов, аханье пушек, разрывы гранат. Стреляют все, кто может, и куда попало. Он видит: из передней БМП выпрыгивает и тотчас, срезанный очередью, валится под гусеницы старлей Подавалов. Алексей успевает приметить, что кровь такая густая, что стоит темной лужей и не впитывается пылью дороги.
– Слева, за камнем! – кричит Серега. – Хуячь!
Он наводит свой подствольник на камень, но выстрелить не успевает. Кусок встречного огненного железа отсекает ему два пальца, чиркает по черепу и начисто отрывает ухо. «Бабочка не балдела от портянок, – проносится в уме, – она предупреждала».
Он видит склонившееся над ним лицо с седой бородой, ухмылку. «Пидор православный, оклемался?» И – крик: «Хасан, тут еще один христосик не сдох! Вяжите его и – к Омару». Пушчонка БМП жалко свесилась набок, на ней болтается чья-то каска, Подавалова, что ли? Он кашляет, он задыхается от дыма, но его заставляют встать и пинают ногами, чтоб стоял. Тычками и ударами гонят к лесу, и он подчиняется. Витька и Серега разорваны в клочья, ему приходится через них перешагнуть, и часы на Витькиной руке моргают ему в глаз ослепительным бликом прощания.
Он трогает себя за ухо, вернее, за то место, где оно обязательно должно у человека быть. Он шарит по голове, ищет ухо и не находит его. Пальцы в крови, ему больно, он кричит.
И просыпается.
Он смотрит на зеленые цифры часов и рывком садится на кровати. Ему душно. Он утирает взмокший лоб, закуривает то, что нашаривает на столе, и наливает себе водки. Механически отмечает, что водка на исходе и надо бы купить еще, потому что водка – она как хлеб, без нее не проживешь. Полковник Шерстюков. Почему он снится так часто? Лешка Ребров пришел воевать за Россию, но из-за мудака Шерстюкова в первом же бою был изувечен и попал в плен. Шерсть во всем виноват. Лешка поклялся, что, если когда-нибудь, где-нибудь он встретит Шерсть, он с ним поговорит. В жизни все так, но за каким эта сука Шерсть пролез в сны?
Долбаные сны войны. Он давно заметил их подлое свойство: они являются тогда, когда он с вечера не добирает дозу. Если доза достаточна, он спит спокойно и его посещают другие сновидения. Снится море, гладкие волны, спокойный и могучий Лондон, белый корабль и красивый дом с бассейном, в котором он когда-нибудь будет жить. Полковник и Дашка не снились ему давно. Почему они вдруг возникли, зачем? Не хочет он ничего вспоминать, память собственную не любит, можно было б вырубить ее, как звук в телевизоре, вырубил бы с охотой. Слава богу, что помнить отчетливо и взаправду почти ничего не осталось, многое уже забылось, перепуталось, слилось и срослось с другими событиями, лицами, датами, провалилось в колодец неверной памяти, в озеро крепких напитков. Тогда зачем этот сон, к чему бы? Точно недопил, решает он, и дает себе слово укрупнить дозу, чтобы больше такое не повторилось. Он начинает собираться. На часах начало четвертого, к четырем придут с ночи рыбаки, и, значит, он снова должен ждать их в секрете на верхнем шоссе. Он заедает водку колбасой и черной подсохшей горбушкой, быстро пьет то горьковатое и теплое, что называет кофе, влезает в камуфляж, ступает в корявые, трущие по лодыжкам сапоги, прихватывает пушку и выходит в темноту, в ночной холод. «Гольф» заводится с полоборота, он снова закуривает, откашливается, включает фары, сидюшник – что-то на английском, непонятное, зато забойное, разгоняющее сон и сомнения, и выкатывается на большую дорогу к морю.
Он не хочет ничего вспоминать. Он себе запретил. Все, что было, было не с ним. С ним произойдет совсем другое.
8
Между тем объявился, наконец, Марик, и отслеживающая ситуацию Ольга решила не терять попусту время.
Миня, отец Марика, был ее стариннейшим приятелем, можно сказать, дружком. В юности между ними облаком проплыло увлечение, сильно похожее на любовь, поисками которой, как принято, по молодости страдали оба. Романтичная Ольга, окончив балетное училище, была принята в труппу Большого, а пылкий и легковозбудимый Миня посещал все ее спектакли, даже если она танцевала тридцать второго, едва видимого из-за кулис, лебедя. Клакеры приметили и быстренько включили в свой боевой состав парня, который по команде хлопал, кричал «браво» и «бис» и делал это особенно громко, когда на сцене появлялась Ольга. После представления он встречал ее у театрального подъезда с розами – если удавалось достать, и провожал до дома, где Оленьку поджидали родители и где однажды, в преступное отсутствие оных, между молодыми людьми случился непредвиденный и высокий секс на поролоновой румынской тахте. Отношения тотчас гармонизировались, приняли серьезный оборот, и дело, по-видимому, наметилось к свадьбе.
Вообще-то его звали Мишей, Миней называли домашние, папа Ося и мама Роза. Однажды, когда мама Роза нетихо позвала мальчика через окно, прозвище было услышано во дворе, с того дня Миша для всех стал Миней. Способный Миня Розенцвейг учился в инязе, на отделении английского языка и имел репутацию серьезного человека. Фарцевал он вдумчиво и грамотно, выдавал качество, и если с чем и перебирал, то разве что с ценой. Кто-то из Осиной родни проживал на Британских островах, потому Миня был поклонником английского уклада жизни и особо уважал твидовые пиджаки и свитеры, присылавшиеся семье в посылках. «Это же оллвул! (чистая шерсть!) – горячась, втолковывал он непосвященным, желающим приодеться в фирму дружкам, – Мэйд ин Грейт Бритн», – весомо добавлял он и называл цену, соответствующую мировой, но никак не советской. Впрочем, покупатели были довольны, они действительно получали качество. Миня же получал так нужные юности деньги и вскоре заимел еще одну, прилипшую на годы кликуху: «Миня Оллвул».
Оллвул любил Ольгу преданно и страстно, прощал ей все взбрыки, выходки и прочие шероховатости творческой натуры. Он любил ее так преданно и так долго, что даже не заметил, как переключился на скромную Танечку Гольдберг, учившуюся вместе с ним в инязе и сохшую по нему с первого курса. Танечка дождалась своего часа в тот момент, когда Миня пребывал в расстройстве и размышлениях после очередной ссоры с Ольгой. Она принялась его утешать, увлекла в дальний конец институтского коридора и утешила так душевно, что Мине это пришлось по душе. Ольга, даже когда была не права, никогда не звонила с примирением первой. «Если женщина не права, немедленно попроси у нее прощения», – внушала она влюбленному суть французской поговорки, и Миня долгое время поступал так, как требовали от него французы. В тот раз она, как обычно, терпеливо ждала извинений от Мини, не подозревая, что за время ожидания он уже познакомил Танечку с родителями. Папа Ося и мама Роза, мечтавшие побыстрее, «чтобы мальчик не разгулялся по женщинам», женить сына, встретили Танечку как спасение с небес. О колючей Ольге было забыто. Танечка была девушкой теплой, домашней, вкусно готовила, к тому же одной с ними национальности, что вдвое умножало в глазах родителей ее плюсы. Короче, когда, не выдержав, Ольга позвонила Мине и капризно принялась отчитывать его за неправоту и гадкое молчание, Оллвул сообщил ей, что они с Танечкой подали заявление в загс. Последовал, конечно, эффект, обвинения, скандал, нажимы на бессовестность и подлость, но отматывать назад Миня уже не мог, да и не хотел. «Хочешь, приходи на свадьбу», – сказал он ей в утешение и добавил, что очень любит балет и хочет, чтобы они навсегда остались друзьями.
В продолжавшейся далее жизни он уже не фарцевал шмотками. Перебивался в жизни преподаванием английского в стоматологическом ПТУ, но в Израиль, однажды посетив Землю обетованную, сваливать насовсем отказался наотрез – на том любопытном основании, что там слишком много евреев. Он длил небогатую жизнь на советской Руси, пока, к его удаче, новые капвремена не воскресили в душе подзабытый, но не умерший талант. Вместо твидовых пиджаков и водолазок чистой шерсти Миня ловко подсел на новый благородный товар и в короткое время осчастливил всю страждущую гнилозубую Россию импортным медоборудованием для зубного дела. Действуя, как и прежде, с азартом и энергией, он быстро набил кучу денег, поднялся, заматерел, а потом по возрасту и накоплениям отошел от нервов и дел, уступив бизнес сыну Марику.
Долгие годы Ольга и Миня поддерживали лишь формальную дружбу, которая теплилась на редком общении, поздравлениях по праздникам и дням рождения и на этом кончалась, пока выросшие Дарья и Марик не наполнили поникшие паруса их отношений свежим ветром. Ладыгин, коему, по недомыслию, поведано было когда-то о Мине и его давнем резком подлом поступке, недолюбливал и Розенцвейга, и все его торговое семейство и слышать о Марике ничего не желал. «Тебе мало, что с тобой так поступили? – вопрошал он молчавшую Ольгу. – Хочешь, чтоб с Дарьей было то же самое?» Однако для Ольги и Мини соединение – втайне от Ладыгина – детей двух достойных семей стало новым совместным проектом, снова сблизившим их по жизни. «Если не мы, пусть, хоть наши дети!» – загораясь, декларировал Миня, которого и треть века спустя пощипывало раскаяние за неслучившуюся жизнь с балериной. «Ольга, мы обязаны их поженить!» – добавлял он, и Ольга, считавшая евреев самыми лучшими мужьями, решительно ему не возражала. Марик и Дарья были знакомы еще с неполовозрелых времен, играли в прятки, общались на елках, катках, дискотеках, обучались друг на друге поцелуям, но, когда повзрослели, выяснилось, что чувству между ними возникнуть не дано, поскольку давняя дружба есть главное препятствие любви. Миня и Ольга были обескуражены, но не сдались, оба были не из слабаков, оба знали свой маневр и умели работать на конечный успех. Отсутствие любовных эмоций у детей они заменили доводами рассудка, и чем старше становились Марик и Дарья, чем больше шишек набивали на личном фронте, тем все более весомым становился для них главный родительский аргумент: «Лучше друг друга вам не найти». Миня и Ольга были уверены, что детям достаточно одной несуетной человеческой встречи, чтоб убедиться в их правоте – для чего в обоих домах систематически проводилась серьезная творческая работа. Пока, наконец, Марик, уже нахлебавшийся неудач с противоположным полом и уважавший мнение отца, не подчинился Мине и не согласился после стольких лет снова повидаться с Дарьей. Дарья упиралась дольше. «Не нужен он мне, – твердила она. – Ничего хорошего из этого не выйдет». Но Ольга в своих уговорах так умело использовала запрещенные приемы, так жаловалась на собственную немощь, старость и близкую кончину, так умоляла дочь сделать это «ради матери», что и Дарья, в конце концов, сдалась. «Меня не убудет, – подумала она. – Одним больше, одним меньше – развлекусь как в зоопарке».
Молодые люди долго созванивались, назначали и переносили дату. Наконец, час икс был определен на субботу, пятнадцать ноль-ноль, двадцать второго января. День смерти пролетарского вождя, отметил про себя Миня и решил, что для бизнесмена это определенно счастливый день.
Марик заехал за ней на очень приличном «мерседесе», черного, естественно, цвета.
Ольга поцеловала на счастье несуетно спешившую, кислую Дарью, заставила ее улыбнуться и, едва захлопнулась за ней дверь, заняла позицию у окна. С удовольствием наблюдала, как изящна дочь, выпорхнувшая в белой шубке из подъезда, и как предупредителен Марик, откинувший перед ней пассажирскую дверцу «мерседеса». Отметила, что чудо как хорош легкий снег, белая чистота вокруг и матовое солнце, и пожелала удачи тем, кто в такой замечательный день сидит в отвалившей от тротуара роскошной машине – в первую очередь, понятно, Дарье. Позвонила с донесением Мине, оба решили держать за детей кулаки. Обычная бесплодная родительская суета.
9
Он запустил движок и – полуоборот к ней. Тонкое, едва заметное движение, говорящее о намерениях.
– Привет, Дарья Петровна. Как ты?
– Лучше всех… – «Потолстел и уже лысеет», – отметила она.
– Сколько мы не виделись?
– Лет, наверное, пятнадцать… – «Зачем я согласилась? Зачем уступила матери?»
– А ты ничего. Цветешь.
– Ты – тоже. Цветешь и пахнешь… – «Отвратительный сладкий парфюм».
– Куда едем? Кальян, караоке, боулинг, баня, бильярд? Два ка-ка, три бэ-бэ.
– Все и одновременно… – «Корпоративный юмор, отстой. От зажима?»
– Тогда в «Донну Клару».
В результате приехали в «Фаэтон». Дарья отметила, что его непоследовательность очень похожа на ее собственную, и сей крохотный факт слегка смягчил ее настрой к нему.
В столь непоздний час ресторан оказался полупустым; они выбрали дальний стол в притемненном углу, пересекли узорчатый, в армянской вязи на стенах зал и уселись друг напротив друга. Расположились вполне демократично, в духе полного гендерного равенства, безо всяких с его стороны галантных ухаживаний, выдвиганий-задвиганий перед ней стула и тому подобной старомодной ерунды.
Смиренный официант бесшумно снабдил их меню; обслуживание парочек, думающих больше не о том, чтоб вкусно поесть, а о том, что, где и как будет происходить с ними дальше, было любимым его занятием – как правило, за него надежно платили.
Марик выбирал много и со вкусом, удовольствие жизни во многом состояло для него в чревоугодии. Сперва он советовался с ней, потом, отвоевав монопольное право, распорядился едой и питьем по своему разумению. Салатовая скатерть на столе оказалась тесно уставлена сперва закусками и зеленью, потом огненным кебабом, на котором лопались нарывчики жира, и вином – пили армянское коллекционное красное «Гандзак». «Любимое вино католикоса», – с ходу сочинил он, и она не возразила, потому что вино и впрямь оказалось божественным.
От простых вопросов прямиком перешли ко все более сложным воспоминаниям; путь сближения мужчины и женщины за едой, питьем и беседой проходил у Марика и Дарьи гораздо быстрее, чем бывает обычно. Выяснилось: пережитое не умирает в человеке, лишь запрятывается на дальние полки и при нужде немедленно востребывается памятью и языком. Молодые организмы не забыли счастливое детство и общее свое взросление, оно вспоминалось теперь со смехом, румянцем, легким приятным стыдом и открывалось одним и тем же ключом: «А помнишь?…»
«А помнишь, – спросила она, – ту нашу последнюю встречу?» – «Конечно, – ответил он, – еще бы, в деталях». На всякий случай она напомнила, что было лето, на ней было обалденное ситцевое платье в горошек, чуть что, раздуваемое бесстыжим ветерком. Они ходили в кино, потом поедали мороженое в кафе на Пресне, запивали оранжевой фантой, он взахлеб рассказывал о монархическом величии Англии и о том, что собирается съездить туда с отцом. «Да-да, – кивнул он, – все правильно, было, конечно, платье, мороженое, Англия и еще какие-то второстепенности». Но про себя вспомнил другое: как крепко он поддал тогда, как тискал ее в каком-то подъезде, потому что ее квартира в тот вечер была занята родителями, а других мест, куда можно затащить для дела девчонку, тогда еще не было, как все кончилось ничем и как потом, дома, ледяной струей он обезболивал в умывальнике тот самый свой орган, что остался позорно не примененным.
Официант перманентно содержал пару в поле своей услужливости – они же, закороченные друг на друге, окрестности не замечали. Дарья нынешняя нравилась ему. Не могли не нравиться нормальному мужчине ее быстрые блестящие глаза, тонкие реакции и открытый смех, весь ее еще молодой, но уже зрелый, много обещавший темперамент, дополненный аккуратным носиком, белозубым фасадом, задиристо вздернутым на затылке пучком волос. Она нравилась ему как женщина и, подсознательно, как шанс, не использованный когда-то и предоставлявшийся еще раз теперь, пятнадцать лет спустя – с мужчинами всегда все понятно и предсказуемо. Но самое неожиданное заключалось в том, что и ей, уже избравшей свой особый путь, он тоже был интересен. Такого с ней не было давно. Нежданно для себя самой она вдруг оказалась в положении морской купальщицы, не могущей достичь берега; едва она успевала вынырнуть из одной волны информации, как ее накрывала следующая. Эйнштейн, Шаляпин, адронный коллайдер, Достоевский, израильско-палестинский конфликт, Ленин, Бетховен и музыка вообще, финансовый кризис, Шагал и снова Достоевский, которого она, к своему стыду, почти не знала. Он фехтовал словами, жонглировал именами, осыпал ее картечью цитат и неслыханных понятий. Шагал все же был ей ближе других, она попыталась завязать о нем беседу, даже спор, но и в этом вопросе Марик легко ее подмял. Она знала, что окончил он не Сорбонну, не Кембридж и даже не МГУ, а всего лишь Плехановский, куда Миня, спасая ребенка от армии, Марика задвинул, и такой неслабый кругозор экономиста не мог ее не удивить. Каждое его слово попадало в цель. Единственный шанс мужчины, рассчитывающего всерьез зацепить ее к себе интерес, был как раз в этом: ум и знания. Марик соответствовал; сам того не зная, Марик прокладывал верный путь.
Кайф – ключевое слово современности. Кайф – кусочек рая на земле. Человек жаждет рая при жизни и готов за это платить немалую цену. Заметив начавшееся скольжение мужчины к женщине, официант, подмигнув, предложил гостям кальян, и они, без особого промедления, согласились. Марик согласился тотчас же. «Хочу ли я этого? – спросила себя Дарья и к собственному удивлению тоже ответила утвердительно: – Да, можно попробовать, это авантюрно, значит, интересно». Официант знал дело. В такие минуты молодым требуется не курение – именно кайф, расслаба, предполетное состояние, обесточивающее мозги и облегчающее тело.
И вот он в руках, волшебный инструмент, гибкая трубка, мундштук, охваченный губами, бульканье голубых пузырей в сосуде, торопливые затяжки по очереди, одна, другая, третья, и вот оно, прозрение, освобождение, отвага! Вот они, магические улеты Востока, необходимые человеку в двадцать первом веке и вечно, пока он вовсе из-за кайфа не переведется. Минут через несколько Дарья встряхнулась и заново внимательно Марика оглядела: и вовсе он не толст, заключила она, нормально по-мужски упитан, крепок и лысеет обаятельно, словно нимб возникает над его большой круглой черноволосой головой. «Мне хорошо, – сказала она себе, – спасибо, мама. Мне так хорошо, что может стать еще лучше. А что? Я не из бесплотного теста, у меня давно не было мужчины, а Марик свой, такой обаяшка, умница, такой почти родной».
Для них ли либо по заведенному правилу включили музыку. Воздух поплыл, замелькал, закружился, рассыпался. Он не втыкал более в нее глаза, незачем было, довольно было чувствовать рядом ее приманчивое тепло, согреваться в нем, тянуться к нему своим мужским, значит, детским существом. Немаленькой мягкой ладонью он накрыл ее горячую руку, пригласил к танцу, и она, закрепив мундштук на кальяне, охотно поддалась.
Дарья танцевала прекрасно. Когда-то двинутая на балете Ольга мечтала пустить ее по своим стопам и даже пристроила десятилетнюю Дашу в хореографическое училище. Девочка училась охотно, делала успехи, но к тринадцати годам у нее налилась грудь и отяжелели бедра. Бесплотный ребенок превратился в плодородную девушку, замечательную для жизни, непригодную для балета. Ольга страдала, училище Дарье пришлось оставить, но, слава богу, искусство не покинуло семью. Дарья увлеклась живописью и благополучно выросла в художника. Художника, чье тело пожизненно не забывало танца.
Она вышла на танцпол, прильнула к Марику, доверилась ему инстинктом. Слабое, ручное животное, готовое повторить любое движение, любую прихоть мужского начала. Но не было у них на паркете движения и не возникло, по сути, танца. Чувства перехлестывали, убивали его. Организмы двигались еле-еле, вжимаясь друг в друга, превращаясь в одно, единое на двоих существо. Не было ни слов, ни поцелуев – ни к чему, да и с чего бы? Она положила голову на широкую Марикову грудь, доверилась ему и все про себя забыла. В ней, как в ночном доме, установилась тишина. Она забыла имя свое, возраст, живопись, отца, мать, в какой стране и городе живет и прочую, прочую ерунду, плыла в музыке в размельченном на молекулы состоянии, она и уже не она.
И вдруг.
Толчок, удар, хлыст!
Резкий, всепроникающий, мышиный запах мужского пота стеганул ее на вдохе и прервал дыхание. Мигом вернувшись в себя, она слегка отстранилась, отвернула голову деликатно, мягко, чтоб не обидеть его, но чтоб самой увернуться, избежать кошмарной, отвратительной струи, и сама себя за это возненавидела. Подумаешь, пот, подумаешь, запах, разве это главное в человеке? Но для нее, как и для многих, кто в этом не признается, телесные мерзости человека были совершенно непереносимы и разом отворачивали от людей. Она знала за собой такой грех, знала, что неправильно это, нехорошо, даже гнусно, но поделать с собой ничего не могла. «Что случилось?» – спросил он. «Все прекрасно. Пить хочу», – ответила она первое, что пришло в голову, чтоб кончить этот танец и эту пытку.
Он подвел ее к столу, благодарно приложился к руке, усадил и налил сока в высокий стакан. Сел в кресло напротив, все еще сияющий, счастливый от дарованного ему в танце аванса, от того, что вот-вот осуществится его долгожданный реванш. «Да, да, все понимаю, – потягивая сок, думала она. – Каждый день душ и классный дезодор, а то, что запах – так это его мужской мускус, его индивидуальность самца. Кто-то к нему привыкнет, кому-то даже очень понравится. Но не мне, только не мне. Нет мужчины без брака. Не одно, так другое, третье, десятое. Мужик – сплошное несовершенство».
Встреча завершалась правильно, но формально, оба это ощущали, но исправить ничего уже не могли.
Он перехватил у гардеробщика белую шубку и сам набросил ей ее на плечи. Она спросила его, куда он направляется, он ответил, что туда, куда она пожелает; она пожелала домой, что вполне совпало с его желанием побыть с ней немного еще. Он распахнул и замкнул за ней дверцу машины, набрал ход и включил для подзавода настроения модную музыку, которую она – «извини, болит голова» – почти сразу отрубила. Подвисла неразговорчивая тишина. Злая чушь лезла в голову. Мысли были не слышны, но влияли на общий настрой. Он смотрел на темную дорогу, на снежный песок, осыпавший лобовое стекло, она – на вечерний мрак, промельки огней и людей. «Блин, – думал он, – что сломало эту психопатку? Где я прокололся? В чем? Идиот. Сколько раз говорил себе, что нельзя быть открытым и искренним с бабами, что они воспринимают это как слабость, а слабости эти животные не покоряются». – «Все правильно и прекрасно, – думала она. – Я знала, что с мужиками у меня никак – лишний раз убедилась. Жалко Марика».
– Почему молчим? – не выдержал он. – Почему вообще все завяло?
– Все было здорово, я немного устала.
Возле дома он полез к ней с решающим поцелуем, чтоб застолбиться на будущее, но был отодвинут и окончательно сбит с толка. «Не прощаюсь, Дашка? – спросил он. – До связи?» – «Пока-пока», – бросила она и выпорхнула из машины.
Ольга не задавала вопросов, упорно смотрела на дочь, ждала, что Дарья не выдержит первой. Так и произошло.
– Нет, мама, нет. Больше ни о чем не спрашивай.
– Но почему «нет», Даша?
– Потому. Потому что не мой человек. Все, мама.
«Господи, где же он твой? – подумала Ольга. – Существует ли вообще?»
Через четверть часа – больше не стерпела, ей понадобилось срочно вынести во двор помойку. Очень удобный повод, чтобы еще в лифте вызвонить Миню и все ему доложить. «Я подумаю, как с этим быть», – ответил Миня.