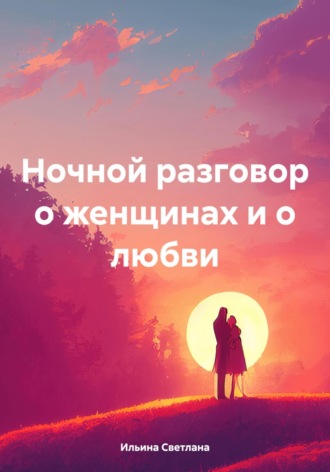
Светлана Викторовна Ильина
Ночной разговор о женщинах и о любви
Пролог
В очередной раз возвращаясь из-за границы, я вновь убедился, насколько сильно поезда Российской империи отличаются от европейских. Но не по части комфорта или чистоты, а по духу. Во всяком российском поезде обязательно заводилась уютная, домашняя обстановка, душою которой были бесконечные разговоры под чаёк. Помнится, у вагонной топки непременно кипит круглые сутки самовар. Люди кажутся проще, обыденнее, чем те, которые сопровождали меня в Европу, но не менее интересные по части рассказов о жизни. Единственным минусом для меня, во всём любящего чистоту и порядок, были запахи, исходившие от попутчиков. Если в поезде до Германии или Финляндии нос услаждается тонким ароматом духов важных господ, то в поезде по России-матушке обязательно будет пахнуть квашенной капустой или чесноком от бороды соседа-купца.
Так было и в этот раз. Зайдя в купе, я с трудом удержался, чтобы не поморщиться – от сидящего у окна попутчика, весьма крупной комплекции, немилосердно воняло рыбой. Не иначе – рыботорговец, – подумал я, вежливо здороваясь. Впоследствии оказалось, что я угадал. Вошедшим вслед за мной, третьим пассажиром нашего купе оказался священник – плотный, невысокий батюшка.
Рыботорговец на меня посмотрел настороженно, видимо, не разобрав мой род занятий, а как увидел священника, сразу заулыбался.
– Как вас звать-величать, батюшка? Вы из Нижнего родом?
– Отец Елизарий к вашим услугам. Да, из Нижнего. Служу в Преображенском храме на Канавинском кладбище. А вы кто будете по профессии? – обратился он ко мне, пристально вглядываясь в моё лицо,– не артист ли?
– Нет, батюшка, я философ, еду лекции читать в Народный университет Нижнего Новгорода. Как говорится, ученье – свет…
– Вот, вот, – заворчал рыботорговец, отворачиваясь к окну, за которым уже медленно плыл перрон, – моего балбеса так просветили, что теперь не знаю, как и работать заставить.
– А чего же он не хочет работать? Не желает продолжать ваше дело? – участливо спросил священник.
– Да какое там… продолжать моё дело, – тяжело вздохнул купец, – как приехал домой на каникулы, так и заладил: "Ваши корабли сожжены, папаша". В каком это смысле, спрашиваю я. Уж не собираешься ли ты их поджечь? Папаша, вы отсталый человек, неправильный. Вы думаете только о материальном, о своей выгоде, а люди должны о других думать, на общее счастье работать.
Рыботорговец обращался только к священнику, видимо, не принимая меня за серьёзного человека, но я не выдержал и влез в разговор:
– А что же вы ему ответили?
Сердито на меня глянув, будто это я сбил с толку его сына, он продолжил:
– Говорю, так иди и работай на общее счастье, зачем же мои корабли поджигать? Выучился, значит, за мой счёт, а теперь отцовские деньги вдруг стали неправильными. Неблагодарный…
Меня так и подмывало поспорить:
– Его можно понять, – снова встрял я, – от скучной жизни хоть вешайся. Хорошо, если деньги есть для путешествий, а иначе… прозябать в какой-нибудь дыре – хуже жизни не придумаешь.
Толстяк уже гневно открыл было рот, но тут вмешался священник:
– А вы, господин хороший, развлекаетесь что ли всё время? – пытливо спросил он. – Сколько же вам лет? Ведь уже не мальчик, чтобы так рассуждать.
– Мне уже тридцать пять, батюшка, но рассуждаю я так не по молодости или старости, а потому что это моё кредо, так сказать.
– То есть по-русски, – вера, значитца?
– Да, если хотите.
– Уточните всё ж, во что вы верите?
– Верю в то, что любые нестроения, даже революция, начинаются там, где люди не могут занять себя чем-то интересным. Не находят пищу для души. Оттого и хотят всё переменить. А так как ломать проще всего, то эта мысль первой приходит в голову.
– Хм, не поспоришь, – покачал головой батюшка. – Но чем же вы считаете, нужно душу-то наполнять?
Я пожал плечами.
– Не знаю, тут уж каждый для себя должен решить. Смысл жизни всякий человек свой находит.
– Но вы-то для себя уже нашли? Лекции читаете, следовательно, и определённый взгляд у вас есть. Не чужие же мысли только повторяете?
– Есть, вы правы, – снисходительно улыбнулся я, не ожидав, что в поезде придётся говорить о высоких материях. – Меня в своё время заинтересовала теория Ницше о новой радости для человека.
– Вот как? И в чём же заключается эта новая радость? Ну-ка, поведайте нам.
– В поклонении красоте. Помните, и Достоевский утверждал, что красота спасёт мир. Понятно, что искусство не всегда отражает подлинную жизнь, скорее, её почти всегда преукрашивает. Но Ницше утверждает, что без этой лжи искусства жизнь наша стала бы невыносимой. В этом я с ним абсолютно согласен. Искусство я люблю, потому что жизнь там показывается не эта, серенькая, повседневная, а более возвышенная что ли… Так что, по моему мнению, жить нужно интересно, чтобы страсти в душе кипели… Тогда будет что вспомнить на старости лет.
– Эх, ваша милость, сразу видно, что вы философ, – крякнул недовольно торговец, – проще нужно жить. Жениться, детей воспитывать, потом внуки пойдут. Вот и смысл… А то… кредо… Тьфу…
– Небось, из-за границы недавно вернулись? – вдруг спросил священник.
– Точно, а как вы догадались?
– У всех, кто приезжает из Европы, особенно довольный вид, словно вернулись из тридевятого царства, где нашли то не знаю что, – усмехнулся батюшка. Его серые глаза, в окружении морщинок, смотрели одновременно и по-доброму, и чуть лукаво.
– Да вы, отче, шутник. Впрочем, вы правы и не правы. Действительно, за границей я искал успокоения, а может, и счастья… Культура европейская завораживает: соборы, фрески старинные, древности – всё навевает мысли о вечности…
– Однако решили вернуться? Надоело?
– Понимаете, народец там другой. Русскому человеку хочется развернуться, ощутить страсть, что б душа встрепенулась. А там по чувству словно с гномами живёшь.
– Значит, счастье ищете? А страсти-то вам зачем тогда?
– Как зачем? – я оторопел от такого вопроса, – сильные страстные чувства и составляют счастье человека.
– Всё-таки, сударь, вы ошибаетесь, – посерьёзнел священник, – страсти всё дело губят. Вот полюбит человек, а страсть взыграет – любовь насмарку.
– Так вы какую страсть-то имеете в виду?
– Да любую. Взять хотя бы Достоевского… Сколько горестей он принёс любимой жене своей страстью к рулетке. Или, например, страсть к деньгам, к власти…
– Хорошо, допустим, эти страсти плохие, но я имею в виду вовсе не их. Ещё Гегель сказал, что ничто великое в мире не совершается без страсти.
– Оказывается, есть и хорошие страсти? Не слышал, ну-ка поведайте…
Не нравился мне его снисходительный тон. Был бы я юнцом, другое дело, но я уже давно был зрелым мужчиной со своими убеждениями и отступать не собирался.
– Взять хотя бы любовь… Она может быть вялой, как… – я запнулся, – как постная еда. Вроде поел, а удовольствия никакого не получил. А может быть страстной, так что б дух захватывало, чтобы заснуть не мог…
– Но страсть-то всегда против любви и против совести идёт. Вы мне Гегеля, а я вам Шекспиром отвечу… – подмигнул батюшка, – недавно в каком-то журнале прочитал его высказывание, что чем страсть сильнее, тем печальнее у неё конец. Умный человек был…
– Это который Отеллу написал? – оживился купец.
– Точно, ваша милость. Отелло как раз страстно любил Дездемону, но страстно и ревновал. Не справился с ревностью и задушил бедняжку. Вот так страсти и пленяют…
Я разозлился от глупого спора.
– Да вы, священники, хотите весь народ привести к монашеской жизни, чтобы все были такими же, как вы – сонными, вялыми, с постными лицами и чтобы капусту хрупали весь год. Нет, удовольствие в жизни только от сильных чувств, а не от ваших правильных слов, я это точно знаю. И не нужно меня переубеждать.
– Господь с вами, мил человек, переубеждать не буду. Как говорится: "Вольному воля, спасённому рай".
– Я выбираю первое, а спасать меня не надо, я и сам не лыком шит, если уж вашим языком говорить.
Священник с купцом переглянулись и покачали головами на мой ответ, но мне было всё равно: у них своя жизнь, у меня своя.
Глава первая
Вечер выдался беспокойным. Отец Елизарий закрыл после вечерней службы храм и пошёл к дому. Резко потянуло сыростью. Он зашагал быстрее, поглядывая на небо. Где-то вдалеке громыхало. Сильный ветер угрожающе зашатал старенькие, такие же как сам батюшка, яблони в маленьком саду, у домика. Красные всполохи рассекали небо пополам. Отец Елизарий приостановился и стал считать секунды между змиевистой молнией и раскатистым громом: раз, два,.. пять, шесть… От удара в небесный барабан заложило уши. Батюшка едва успел зайти на крыльцо, как хлынул обломный ливень. Сразу резко потемнело, лишь молнии сверкали зубчатыми змеями, только подчёркивая сгустившуюся темноту осеннего вечера.
Кому-то жить возле самого кладбища было бы не по себе, но только не Елизарию. Оставшись после смерти матушки один-одинёшенек, он коротал свой век в ветхом домике и никаких страхований не испытывал. Суеверным батюшка не был, в привидения не верил, потому как точно знал, что Господь покойникам место определил в другом мире, а землю оставил живым. Однако живой души для его когда-то весьма общительного характера батюшке не хватало.
– Пожил я, слава Богу, и повидал немало, – вспоминал Елизарий про своё житьё-бытьё полкового священника, – а матушка-то, бедолага, быстро Богу душу отдала в этой дыре… "Про жизнь пустынную как сладко ни пиши, а в одиночестве способен жить не всякий…" – вздыхал он, цитируя любимого Крылова.
Когда-то Елизарий разругался с важным генералом, не удержавшись от замечания по поводу жестокого обращения с солдатиками, и покатилась его карьера всё ниже и ниже, так и доведя прямиком на кладбище. Батюшка-то смирился, приняв это как Промысел Божий, а вот матушка загрустила да и померла вскорости.
Вошедши в комнату, Елизарий первым делом посмотрел на портрет покойной жены, висевший рядом с красным углом. У него вошло в привычку разговаривать с её уже пожелтевшим изображением.
– Вишь, матушка, как громыхает-то… Помнишь, ты боялась? Да и я, честно говоря, опасаюсь, как бы молния не стукнула в старую яблоньку. А то пожара не избежать… Помоги, Владычице, спаси и сохрани, – он повернулся к красному углу и благоговейно перекрестился на старинную икону Богородицы.
Теперь нужно растопить печку. Дрова уже были загодя уложены, осталось только разжечь огонь. Все хозяйские дела Елизарий делал быстро и ловко, но они не занимали его мысли. Сегодня исполнилось как раз семь лет после смерти жены, и после панихиды Елизарий поймал себя на греховном вожделении по сливовой наливке, которая целую неделю дожидалась его в буфете.
Было у батюшки две слабости – чтение басен Ивана Андреевича Крылова, радовавшего его своим остроумием, и сливовая наливочка, или сливовица, которую отлично делала жена его приятеля-полицмейстера. Неделю назад она передала ему бутылочку, и Елизарий еле дотерпел до законного повода – годовщины матушки.
Наконец, закрыв печку, он уже направил свои стопы к буфету, как вдруг сквозь грохот грозы услышал стук в дверь. Может, почудилось? – засомневался Елизарий, досадуя на поздних гостей, но нет… не почудилось.
– Кого же Господь в такую пору призвал? – сокрушённо вздохнул он, думая, что кто-то из соседней деревни зовёт на отходную к умирающему. В голове промелькнуло, что наливочку попробовать сегодня не придётся…
Он без страха открыл дверь и увидел не крестьянина, как ожидал, а, скорее, барина, высокого, статного, но насквозь промокшего. С его непокрытой головы, с небольшой бороды, с рукавов чёрного сюртука текло так сильно, словно он продолжал стоять под дождём, а не под навесом крыльца.
– Прошу вас, прошу, – ничего не спрашивая, позвал Елизарий, – проходите, ваша милость… Вот здесь снимайте ваш сюртук, давайте помогу…
Высокий черноволосый мужчина ни слова не говоря, твёрдым шагом прошёл в тёмные сени и стал раздеваться. Елизарий, взяв в руки сюртук, наощупь понял, что одежда на госте была хорошая, добротная… Значит, не бедный… Тем необычнее смотрелись грязные пятна на рукавах и коленях, словно человек падал и не раз… Чего же он пешком-то? – мельком подумалось, – заблудился?
– Спасибо, отец… Елизарий, кажется, – зычным и смутно знакомым голосом произнёс поздний гость, – если бы не ваш огонёк в окне, то я бы, наверное, и с кладбища бы не выбрался в такой темноте.
– Проходите в комнату, сейчас чайку заварю, – засуетился батюшка, – вы ведь не торопитесь?
В комнате было ненамного светлее, чем в сенях. Помещение освещала лишь керосиновая лампа, стоящая на столе.
– Не тороплюсь, – подтвердил мужчина, присаживаясь за стол, и словно ожёг взглядом чёрных глаз, – вы меня не помните, батюшка?
В это время молния, словно услужливый фонарщик, сверкнула так сильно, что Елизарий ясно увидел лицо мужчины и сразу вспомнил и поезд, и попутчиков, и забавный разговор.
– Ах, батюшки-светы… Миронов Иван Сергеевич, кажется?
– Точно, отец Елизарий, у вас отличная память, – удовлетворённо кивнул он, – мы с вами в поезде ехали из Москвы в Нижний Новгород.
– Да-да, помню… А здесь-то вы как оказались да ещё в такую пору? Неужто на кладбище заблудились?
Иван Сергеевич неопределённо покачал головой, глядя в тёмное окно.
– Заблудился… Как бы не так… Решил на могилу к родным сходить, а слуга вдруг взял и уехал в моей коляске, подлец…
– Вот те раз, – вытаращил глаза Елизарий, – слуга-то ваш пьяный что ли был?
– В том-то и дело, что нет, – сердито ответил Миронов, – велел ему ждать, а потом смотрю… его и след простыл. Я давай его искать. Думал, может, отъехал на другую тропинку. Вышел в рощу, да свернул куда-то не туда, покружил немного, а тут и стемнело быстро. Вернулся на кладбище, упал пару раз. Скользко от дождя стало… Потом увидел светящееся окно в вашей избе и пошёл на огонёк.
Пока гость рассказывал, Елизарий разжёг небольшой самовар, конфузливо убрал старенькую чашку с отколотой ручкой и выставил новенькие кружки, красные, в горошек, предназначенные специально для гостей.
– Ну и слава Богу, что ко мне пришли. Пейте чаёк-то, – весело сказал Елизарий, наконец садясь за стол. Батюшку так и подмывало предложить гостю наливочку, но он боялся прослыть в его глазах пьяницей. – Гости у меня бывают редко, живу скучно… Вот только книжками и спасаюсь.
– Крылова любите? – улыбнулся Миронов, беря в руки уже изрядно зачитанную книгу, с мягкими от ветхости страницами, – а я думал, что священники светской литературой не интересуются.
– Да басни-то почти и не светские. На притчи похожи, и народцу простому понятно и интересно. Лучше всякой проповеди иной раз…
– То-то я удивился, когда вы Шекспира стали цитировать мне в ответ, а вы, оказывается, книголюб.
– Да-а, разговор у нас получился занятный, – вспомнил Елизарий. В горле у него уже пересохло, но хотелось не чаю, и он всё-таки решился: – Не желаете попробовать сливовой наливочки, Иван Сергеевич? Для сугреву, так сказать, тем более что у меня сегодня годовщина смерти моей матушки… Помянете со мной? – поспешил он добавить.
– С удовольствием, отец Елизарий, – усмехнулся гость.
Священник с готовностью засеменил к буфету и наконец достал драгоценную бутылочку. Наливка оказалась на славу – сладкая и крепкая. В молчании распробовав и закусив мягким пирожком, Елизарий сразу ощутил, как спало напряжение от тяжёлого дня, с двумя службами, панихидой и отпеванием местного крестьянина. Кровь резвее побежала по жилам, согрелись застывшие в холодном храме ноги.
– Расскажите, Иван Сергеевич, как ваши дела? Помню, вы мне доказывали, что русская душа не может буднично жить, хочет развернуться, страстью закипеть… Так вроде?
– Так, – нахмурился гость, отставляя рюмку и вперяя настороженный взгляд в Елизария, – вы смеяться надо мной что ли будете?
– Что вы, мил человек, зачем смеяться? Только я и сейчас считаю, что страсти не делятся на вредные и полезные, и не приносят они счастья. Не желаете ещё поспорить?
Гость взял было чашку с остатками чая, но не донёс до рта и со стуком поставил на стол.
– Не до споров мне сейчас, – вдруг усталым голосом произнёс он, – запутался я, если честно… От последних событий голова раскалывается… И посоветоваться-то не с кем.
– Может, это промысел Божий, что сегодня вы ко мне попали?
– Не знаю, насчёт промысла… Но… раз уж я здесь, – он пожал плечами, – вам правда интересно, что со мной приключилось?
– Интересно, Иван Сергеевич, вы человек неординарный… Кстати, а чем вы на хлебушек зарабатываете? Неужто философией?
Миронов отодвинул чашку.
– Я, отец Елизарий, принадлежу к тем счастливчикам, которым не нужно заботиться о хлебе насущном. Родители мои умерли рано, оставив мне хорошее состояние. В Московском университете, на философском факультете, где я учился, мне пророчили блестящую научную будущность. Но после его окончания я не торопился впрягаться в скучную работу. Мне хотелось чего-то возвышенного, творческого…
– У всех молодых голову сносит, – закивал Елизарий, – помните, как этот… купец из поезда жаловался на сыночка?
– Помню… Вот и я сначала, ошалев от свободы после учёбы, проводил время в своё удовольствие: рестораны, приятели, женщины… Но вскорости мне стало скучно. Каждый день одно и то же, а на душе с каждым похмельем всё гаже… Отец мой, в прошлом директор московской гимназии, привил мне любовь к поэзии и вообще к литературе. И решил я стать поэтом. А почему нет? Начал я подражать всем подряд: и Белому, и Блоку, и Гумилёву. Это уж потом я понял, что стихи мои были бездарными, а когда писал, то казалось, что лучше и не бывает. С таким мнением о себе я поехал в столицу, к своим кумирам… Меня поддерживал и мой новый знакомый – Георгий Иванович Чулков, автор идеи мистического анархизма.
– Что это за анархизм такой? Не слышал, – оживился батюшка. – Предполагают революцию в христианстве?
– Можно и так сказать, – замялся Иван Сергеевич, – я и сам, честно говоря, запутался в его теории. Христианство проповедует богопокорство, а Чулков утверждал, что Христос первый революционер и мятежник.
– И против кого же восстал Иисус Христос?
– Против… несправедливости… Я не понял до конца… Мутная книга, да я и не хотел вдаваться в подробности. В Петербурге меня более интересовали поэты. А Чулков привёл меня в самое сердце поэтического столичного общества, куда не каждого приглашают. В "башню" Вячеслава Иванова. Слышали такого?
– Нет, откуда мне тут слышать? Что за башня такая?
– Петербургская квартира Иванова находится в башенной части модернового дома. Там собирались и Блок, и Белый, и Гумилёв. Туда меня и провёл Чулков… Вместо диванов и кресел – подушки и ковры на полу, обстановка непринуждёная, стихи до утра, споры… Там, кстати, я познакомился со своей будущей женой. Я был уверен, что только в Петербурге живут такие тонко чувствующие и нежные дамы. Татьяна всё воспринимала с исключительной свежестью взглядов и жаром. Восхищалась идеями Чулкова, интересовалась Марксом, а стихи читала наизусть как заклинания. Я никогда не встречал подобной женщины. Для меня она стала той самой Прекрасной Дамой, которую изобразил Блок:
Не ты ль в моих мечтах, певучая, прошла
Над берегом Невы и за чертой столицы?
Не ты ли тайный страх сердечный совлекла
С отвагою мужей и с нежностью девицы?
– Татьяна казалась женщиной утончённой, с умным, внимательным взглядом, с чутким сердцем. Мы стали встречаться. Я снял квартиру в столице. Она убеждала меня показать свои стихи Иванову. Но после одного случая я, честно говоря, передумал.
– Испугались критики? – с улыбкой спросил Елизарий, – таланты истинны за критику не злятся, их повредить она не может…
– Вы всё со своим Крыловым! – вспыхнул Миронов, – но видели бы вы эту критику!.. Можете себе представить, в один из вечеров заявляется уже после двенадцати Николай Гумилёв. Помню, одет он был как франт – в чёрный фрак, цилиндр, белые перчатки… Я невольно обратил внимание, что уже один его вид раздражил Иванова. Гумилёв с порога торжественно объявил, что будет читать новую поэму "Блудный сын". Все обрадовались, расположились слушать. Только хозяин салона почему-то сидел весь взъерошенный, будто только и ждал подходящий момент, чтобы придраться к Николаю Степановичу. Так и стало… После прочтения поэмы он как ненормальный подскочил к Гумилёву и стал кричать, мол, кто он такой и что о себе возомнил? Мы все ошеломлённо молчали…
– Чем же расстроила его так эта поэма?
Иван Сергеевич пожал плечами:
– Я не знаю. Мне, честно говоря, она понравилась… хотя Гумилёв переделал притчу немного, но сохранил Евангельскую идею. Может, именно призыв вернуться из язычества к христианству так раздражил Иванова. Он-то обожал античность… – гость так задумался, словно перенёсся в прошлое. Он немного помолчал и продолжил: – Гумилёв держался очень сдержанно, сидел в кресле прямо, недвижно, невозмутимо, даже, можно сказать, с надменным лицом. Но по его глазам, по ходящим желвакам я видел, что ему было очень тяжело. После этого он больше не появлялся, при мне во всяком случае… А я после такого скандала уже не решился показывать свои стихи кому-либо, тем более, что мне тоже нравились Евангельские сюжеты. Вскоре я решил уехать.
– Передумали быть поэтом?
– Передумал, потому что не желал быть посредственностью. А тут ещё и ревновать стал Татьяну, пошло и мучительно. Она-то давно там была своей, а я так и сидел в тени.
– Вам не понравилось ревновать? – не смог удержаться Елизарий, – вы же говорили, что без страстей жизнь становится скучной.
Миронов упрямо поджал губы.
– Так, по крайней мере, я считал раньше… – Иван Сергеевич замолчал, углубив взгляд внутрь себя, потом очнулся и продолжил: – но ревность – это ужасное чувство.
– Вы правы. Зависть и ревность принадлежат к тем страстям, которые и малейшего удовольствия не приносят, а только одно мучение.
– Может быть… Наверное, поэтому, уезжая в Москву, я почувствовал себя почти счастливым. Со мной в Москву поехала и Татьяна. Мы сразу обвенчались. Молодость торопится… Да-с… Вскоре я пожалел о таком поспешном решении – в моей квартире стало неуютно и неспокойно. Раньше я ни перед кем не отчитывался, а теперь был вынужден считаться с женщиной, которая всё больше раскрывалась и удивляла меня своими новыми качествами. Её утончённость превратилась в истерики, умные мысли о поэзии уже казались фальшивыми и словно подслушанными у кого-то. Её безделье заполнялось походами по магазинам, и моя квартира превратилась в склад ненужных вещей. Я надеялся, что у нас будут дети, чтобы хоть как-то оправдать этот брак, однако дети не появлялись, и я всё больше отдалялся от неё. Чтобы не сидеть дома, я выступил несколько раз с лекциями по философии в рабочей школе и в гимназии. Меня стали приглашать ещё и ещё, и в скором времени я уже имел большую популярность как лектор.
– Я смотрю, вы просто идеальный человек. Жаль только, что вам не повезло с женой.
– Можете смеяться, сколько хотите, – Миронов откинул голову назад, поправляя пятернёй волосы, и повторил с нажимом: – да, я считаю, что мне не повезло. Конечно, Татьяна была не самым худшим образцом человеческой природы: стройная, высокая, руки с длинными пальцами, горделиво посаженная голова с белокурыми волосами. Стоило выйти с ней в свет, как я тут же слышал завистливые вздохи – мол, как мне повезло. Но дома начинались заламывания рук, её грудной голос постепенно повышался до визга, и мечтательные, ещё час назад томные, глаза метали в меня молнии. В конце концов, я предложил развод, и она согласилась.
– Согласилась? Так просто?
– Нет, не просто… Я уехал в поместье, где прожил всё лето. А потом получил от неё письмо, что она уезжает к матери в Саратов и надеется, что я приеду к ней. Но… я не приехал. У меня уже был роман с другой женщиной.
– Быстро вы…
– Это получилось неожиданно. Просто женщина, вернее, девушка, была полной противоположностью моей жене. Мне было с ней спокойно и хорошо…
– А зачем вы мне всё это рассказываете? Страстей в вашей жизни было предостаточно, то есть вы проживали жизнь так, как мечтали.
– Подождите, батюшка, все эти страсти были какие-то не такие… Вместо страстной любви, я получил полную скандалов семейную жизнь… Нет, счастья там не было.
– А с другой женщиной?
Миронов задумался.
– Пожалуй, там я был счастлив, но опять-таки мне это счастье казалось каким-то не таким – неярким что ли… Было тихо, мирно на душе, но не было эмоционального подъёма.
– И что же дальше? Чем закончился ваш брак с Татьяной?
– Моя жена утонула.
Отец Елизарий крякнул от неожиданности.
– Как же это?
– Я до сих пор не знаю, – еле слышно произнёс Иван Сергеевич, потом сжал губы и снова посмотрел на руки, – я даже не был на её похоронах…
– Вам не сообщили?
– Сообщили, но меня не было в то время в Москве… Дело не в этом, батюшка, а в том, что… незадолго до смерти Татьяна прислала письмо из Саратова, а я… не распечатал его. В этом, пожалуй, раскаиваюсь больше всего.
– Отчего же вы не стали читать его?
– Думал, что она опять будет звать меня к себе… Потом уж, после её смерти, раскрыл… так и было. Но всё-таки она была умной женщиной и понимала, что вряд ли я приеду, поэтому письмо получилось прощальным. Да, именно прощальным – в конце она написала, что прощает меня. До сих пор я так и не выяснил: не утопилась ли она намеренно?
– А что родственники говорят?
– Родственники ничего не говорят. Мать её лежит без движения и не разговаривает, а вообще-то… со мной никто и не хотел особо разговаривать. Я их понимаю. В общем, так я до сих пор и не знаю, почему она утонула. Поговаривают, что из-за дождей течение было сильным в тот год. Однако совесть меня мучает всё равно.
– И что же вы сейчас думаете делать?
– Я снова надумал жениться, – в упор глядя на Елизария ответил Миронов.
Они оба вздрогнули от хриплого голоса кукушки, возвещающей девять часов вечера, и одновременно услышали чьи-то тяжёлые шаги на крыльце.



