
Ирина Эрлихсон
Преступление и наказание в английской общественной мысли XVIII века: очерки интеллектуальной истории
Pax Britannica
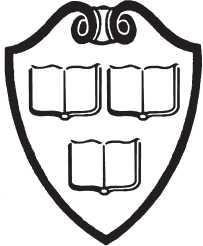
Редколлегия серии «Pax Britannica»:
М. В. Винокурова, О. В. Дмитриева, Т. Л. Лабутина, Л. П. Репина, Л. П. Сергеева, С. Е. Федоров, А. А. Чамеев
Рецензенты:
доктор исторических наук, профессор А. Б. Соколов
доктор юридических наук, профессор Н. И. Полищук
В оформлении обложки использована иллюстрация У. Блейка к поэме «Европа: пророчество»
© С. А. Васильева, И. М. Эрлихсон (главы III, VIII), 2020
© С. А. Васильева (главы V, VI, VII, IX), 2020
© И. М. Эрлихсон (главы I, II, IV), 2020
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2020
Введение
По вольным улицам брожу,
У вольной издавна реки.
На всех я лицах нахожу
Печать бессилья и тоски.
Мужская брань и женский стон
И плач испуганных детей
В моих ушах звучат, как звон
Законом созданных цепей[1].

Преступление и наказание… Диалектическую сущность этих понятий связал не только бессмертный роман Федора Михайловича Достоевского, но, по сути, сам ход развития человеческого общества. С возникновением социума, как совокупности человеческих отношений, регулируемых нормами и правилами, неизбежно развивались запреты – как симметричный ответ на нарушение индивидом установленных границ. История человеческого общества может рассматриваться как история совершенствования норм, консервируемых религией, моралью и нравственностью, законом и традицией, и санкций, предусматривающих неблагоприятные последствия для лица, нарушившего содержащееся в норме правило.
Наука XIX в. «приросла» сугубо практической отраслью социального знания – пенологией[2], под которой принято понимать как учение об исполнении наказаний, так и научную дисциплину, задача которой на эмпирической основе разрабатывать оптимальные санкции наказания с целью исправления и ресоциализации преступника. Возникновение учения об исполнении наказаний традиционно связывают с исследованиями и практической деятельностью знаменитых англичан Джона Говарда и Иеремии Бентама, что дает нам основания искать «британский след» в пенологии, уводящий в противоречивую эпоху «Кровавого кодекса» – XVIII столетие. Авторы данной монографии предлагают читателю проникнуть в интеллектуальный контекст рассматриваемого периода, проследив отражение извечного вопроса о преступлении и наказании на страницах уникальных публицистических произведений.
В восемнадцатом столетии Англия столкнулась с прогрессирующим ростом преступности, который озадачивал и панически пугал просвещённую общественность. Наиболее остро эта проблема стояла в Лондоне, одном из самых населенных европейских мегаполисов. К криминологически значимым факторам, присущим жизнедеятельности больших городов, исследователи традиционно относят: высокую плотность населения, порождающую скученность людей; загруженность транспорта, торговых, зрелищных и других учреждений; повышенную частоту межгрупповых, межличностных контактов; повышенные психологические нагрузки, вызывающие значительное число стрессовых ситуаций; наличие большой внутригородской миграции, городскую агло-мерацию»[3]. Начавшаяся со второй половины XVI в. массовая миграция в столицу Англии, вкупе с устойчивым демографическим ростом привели к изменениям в географии Лондона, который в описываемый период выплеснулся далеко за границы старинных стен Сити. Трансформация культуры потребления и усложнение экономической жизни – все это стало питательным субстратом для криминализации городской жизни. По мнению современного историка-криминолога Ричарда Уорда, «комплекс социальных, экономических и культурных изменений, безусловно, дает основания очертить уголовные дела, слушавшиеся в Лондоне в особую группу, как в количественном, так и качественном отношении. К началу второй четверти XVIII в. перед судом Олд-Бейли[4]каждый год представало около пятисот человек, в то время как в соседних относительно плотно населённых графствах Эссексе и Суррей количество осужденных не превышало и ста человек в год. Была и еще одна особенность. В Лондоне приговоры выносились, в основном, за тяжкие преступления, связанные с покушением на чужое имущество, такие как кражи со взломом и вооруженный разбой, а также убийства»[5].
В XVIII в. преступление настолько прочно интегрировалось в жизнь англичан, что стало неотъемлемым элементом социокультурной реальности. Путешественник и филантроп Джонас Хэнвей в 1776 г. писал: «Какие леденящие душу кровь описания ежедневно появляются на страницах газет! Какое впечатление сложится у иностранцев о нашем правительстве? Грабежи, расследования грабежей, опознания преступников, судебные процессы, публичные казни – подобного рода заметки появляются чаще, чем объявления о свадьбах и рождениях!»[6]. Примечательно, что американский лоялист Сэмюэль Кёрвен в первую неделю своего пребывания в Англии, отметил в своем дневнике от 23 августа 1775 г.: «Был в офисе сэра Джона Филдинга на Боу-стрит, где допрашивают подозреваемых в кражах, разбое и прочих правонарушениях. Этот достопочтенный джентльмен, слепой (коим и полагается быть правосудию) ведет допрос мягко, но с удивительной проницательностью»[7]. Шестью годами позже Кёрвен, обозревая шествие висельников, препровождаемых в Тайберн[8], с горечью констатировал, что, несмотря на усилия властей, масштабы преступности отнюдь не уменьшаются, а скорее, наоборот.
Возрастающая криминализация общества находила отражение не только в периодических изданиях, мемуарах и дневниках современников, но и, главным образом, в отчетах о судебных процессах Олд-Бейли, первый сборник которых датируется 1674 г.[9] С 1678 по 1834 гг. материалы заседаний готовились после каждой сессии и публиковались на регулярной основе восемь раз в год. В рассматриваемый период они имели грандиозный коммерческий успех, предоставляя жителям мегаполиса возможность быть в курсе нюансов, касающихся преступного мира и способов противостояния таковому со стороны властей. В XIX в. читательская аудитория постепенно сузится до профессиональных юристов и чиновников, а в начале XX в. публикация криминальных отчетов и вовсе прекратится.
Уголовное правосудие XVIII столетия наследовало юриспруденции Средних веков, в рамках которой наказание рассматривалось преимущественно с точки зрения его карательной функции как симметричный ответ на преступление. Результатом роста преступности и неспособности правоохранительных органов с ней справиться стала резкая эскалация применения высшей меры – смертной казни – как «универсального средства» от галопирующей криминализации. Вышеперечисленные факторы в совокупности привели к тому, что XVIII в. Англия встретила с уголовным кодексом, в котором смертная казнь полагалась примерно за 50 видов преступлений, а завершила его со списком статутов, возросшим более чем в четыре раза! Британский писатель и журналист Артур Кёстлер, размышляя о «родословной Кровавого кодекса» выделяет три причины его появления: во-первых, утверждение промышленной революции, когда «внезапное распространение крайней бедности, в сопровождении – как и должно было случиться – проституции, детского труда, пьянства и преступности, совпадало с беспрецедентным накоплением богатств, что само по себе было дополнительным стимулом к преступлениям». Эту аргументацию поддерживают представители практически всех историографических школ и научно-исследовательских традиций. Во-вторых, отвращение англичан к власти, что помешало созданию эффективной полиции: «если бы это было сделано веком ранее, наше страна была бы избавлена от великого стыда и не менее великих ужасов». Столь категоричное утверждение об «отвращении к власти» можно было бы и оспорить, хотя эту позицию разделяют некоторые современные исследователи социальной истории эпохи[10], но факт отсутствия эффективной полиции до середины XIX в. подтверждали как современники, так и последующие серьезные научные изыскания[11]. Третья причина – особенности английского «прецедентного» права, когда судебное решение определенного должностного лица, вынесенное в отношении конкретных частных обстоятельств, регистрировалось и в дальнейшем служило прецедентом, на которые опирались последующие приговоры[12]. Так, например, в начале XVIII в. смертная казнь за преступления имущественного характера полагалась в случае вооруженного грабежа со взломом, а цепочка прецедентов, на которые опирались в дальнейшем новые приговоры, привела к тому, что в последней четверти века смертная казнь вменялась за кражу мелких предметов дороже двенадцати пенсов[13].
Бурный рост преступности и отсутствие инновационных методов борьбы с криминальной пассионарностью помогают частично осмыслить логику властей, которые, за неимением альтернативы существующей системе наказаний, придерживались экстенсивного пути. Это дало основание отечественному юристу-криминологу И.Я. Фойницкому определить Англию как «классическую страну применения смертной казни», по праву занимавшую первой место в Европе Нового времени по числу преступлений, за которые полагалась высшая мера, как в простой, так и в квалифицированных формах, включавших четвертование, колесование, кипячение в котле, заливание горла металлом и пр.[14] Однако, к концу XVIII в. стало очевидно, что поступательное движение существующего уголовного кодекса далее невозможно, и просто количественный рост «кровавых статутов не решит обозначенную проблему.
Правовой тезаурус эпохи «Кровавых кодексов» будет неполным без освещения роли и места двух важнейших реалий XVIII столетия: аболиционистской борьбы за отмену смертной казни и кризиса системы высылки преступников с Британских островов в заморские колонии. Теоретические и идеологические основы движения против смертной казни были заложены в знаменитом труде итальянского философа Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях», опубликованном в 1764 г. Просветитель выступал с жесткой критикой современных ему уголовных кодексов Европы, протестовал против применения мучительных пыток и выдвигал убедительную аргументацию в пользу отмены смертной казни. Беккариа утверждал, что гораздо эффективней заниматься превенцией и профилактикой преступления, нежели дальше совершенствовать систему суровых наказаний – наследия Средних веков. Он последовательно проводил мысль о том, что осознание преступником неотвратимости даже незначительного наказания гораздо эффективней, чем страх перед более суровым наказанием, которого возможно избежать. Рассуждая о социальном фоне английского уголовного правосудия XVIII в., Дж. Тревельян замечал: «Из шести воров, приведенных в суд, пять могли тем или иным путем спастись, тогда как одного несчастного вешали. Но, пожалуй, всех шестерых можно было удержать от преступления, если бы все они были твердо убеждены, что им неизбежно придется отбывать за него определенный срок заключения»[15]. В контексте критики «нелогичного хаоса законов», Ч. Беккариа поднимает важный вопрос о праве государства на возмездие и лишение жизни гражданина: «Мне кажется абсурдом, когда законы, представляющие собой выражение воли всего общества, законы, которые порицают убийство и карают за него, сами совершают то же самое»[16]. Смертная казнь, рассуждал ученый, не оправдана ни с юридической точки зрения (так как приговор может стать результатом судебной ошибки, которая уже непоправима), ни с моральной, так как способствует распространению безнравственности и жестокости в народе. В юридической литературе Ч. Беккариа считают основоположником классической школы уголовного права и современной пенологии, а его аргументацию в пользу отмены смертной казни – «практически первым в истории теоретически убедительным выступлением такого рода»[17].
Философско-правовые взгляды Ч. Беккариа были восприняты англичанами даже с большим воодушевлением, нежели на родине писателя. Отечественный биограф Ч. Беккариа П.Я. Левенсон так отозвался об общественном резонансе труда итальянского пенолога: «Восторг лидеров философской школы, задававшей тон читающей публике, был безграничен. Вольтер, не откладывая дела в долгий ящик, написал обширный комментарий к этому труду. Брило де Варвилль и Дидро снабдили его примечаниями. Руссо, Бюффон, Д’Аламбер, Гельвеций, Гольбах поспешили завязать с автором дружескую переписку, осыпав его похвалами. Имя Беккариа было у всех на устах, оно стало известным в Англии, Германии и России. Бентам сказал о нем: «Вопрос о смертной казни так разработан Беккариа, что к его аргументациям ничего нельзя прибавить»[18]. Английским «рупором» теоретических идей Беккариа против смертной казни стал молодой парламентарий Самуэль Ромилли, посвятивший всю жизнь общественной борьбе за ограничение высшей меры и переходе к альтернативным видам уголовного наказания. Оценивая влияние идей Беккариа на первую английскую пенитенциарную практику, Левенсон пишет: «Желание не только смягчить жестокость уголовных кар, но и улучшить по возможности положение узников сделалось всеобщим в целой Европе. Англия первая устроила, в виде опыта, исправительные колонии в Ботанибее, в Австралии, в Вандименовой земле и на острове Норфолке. Призыв ее филантропов Джона Говарда, Бентама и других, воодушевленных проповедью миланского философа, не остался гласом вопиющего в пустыне»[19].
Еще одно противоречие эпохи «Кровавых кодексов» выразилось в кризисе системы высылки преступников в американские колонии. Растущий протест колониальной администрации против «предохранительного клапана в области уголовных наказаний» официально выразил Б. Франклин в риторическом вопросе к метрополии: «чтобы сказала Англия, если бы, в благодарность, за каждый транспорт преступников, Америка отвечала присылкой равномерного транспорта гремучих змей?»[20]. С окончанием войны за независимость и провозглашением Соединенных штатов Америки, практика высылки преступников в Новый свет завершилась. По оценке отечественного правоведа М. Филиппова «Английское правительство этим было поставлено в крайнее недоразумение. Тюрем, в настоящем смысле, у него не было; возобновить смертную казнь в прежнем ее широком применении, не встречалось уже возможности. Оставались два средства: строить тюрьмы на основаниях правильной тюремной системы, или же – приискать новую местность для ссылки»[21]. Очевидно, что подобные противоречия не могли развиваться бесконечно.
Итак, назревшая реформа системы уголовных наказаний «на основаниях правильной тюремной системы» должна была достичь триединой цели: возмездие, восстановление социальной справедливости и превенция потенциальных преступлений. Кроме того, необходимо было учесть такие реалии времени, как удовлетворение общественной и парламентской борьбы за отмену смертной казни и потерю места «экспорта» уголовных элементов – американских колоний. Таким образом, реформированная система уголовных наказаний должна была решить проблему преступности, не только максимально сохраняя жизнь преступникам, но и в географических границах британского острова. Результатом поиска эффективного средства сдерживания и противодействия преступности стала кардинальная реформа уголовного правосудия, стартовавшая в конце XVIII столетия и растянувшаяся на весь последующий век. Она привела к рождению пенитенциарной системы в современном ее понимании. Таким средством стала обновленная тюрьма, которую, чтобы не путать с карательными тюрьмами – наследием Средневековья, назвали пенитенциарием или реформаторием. Первой провозгласив принцип исправления наказанием, Великобритания явила передовую модель пенитенциарной системы, которая впоследствии была заимствована большинством европейских стран в XIX–XX вв. Тем самым за англичанами закрепилось реноме не только пионеров пенологии, но и «законодателей моды» и даже учителей пенитенциарного ремесла для других государств.
Современный историк-англовед Т.Л. Лабутина, подчеркивая «мощное интеллектуальное воздействие британской культуры» в эпоху Просвещения, провела интересный анализ трансферта передовых идей английских просветителей через политическую элиту США, Франции и России в идеологию и культуру этих стран[22]. Рецепция идей английских интеллектуалов в области пенологии – учении об исполнении наказания – интересовала исследователей – теоретиков и практиков тюремного дела – начиная с середины XIX в. До середины ХХ в. историческая пенология – подраздел научной дисциплины, который занимается изучением пенологических доктрин и их эффективности, исследованием эволюции как самих доктрин, так и пенитенциарных систем, созданных на их основе – развивалась строго в русле нормативистского подхода, используемого в истории права, который превращает историю английского уголовного правосудия XVIII столетия в историю норм, санкций, законов и постановлений. В таком контексте Век Просвещения в Англии рассматривается как смена парадигм в исполнении уголовных наказаний. Представители классической школы криминологии и уголовного права связывают трансформацию отношений общества и государства к исполнению уголовного правосудия с идеями Просвещения и утверждением гуманизма в качестве базового принципа человеческого общежития. Одновременно можно констатировать появление первой историографической школы, предложившей классическое осмысление феномена пенитенциарных реформ[23]. Научным апогеем зарубежных исторических исследований в русле классического «гуманистического» подхода к проблеме можно считать совместный труд супругов Уэбб «Местное самоуправление: английские тюрьмы»[24] и фундаментальное произведение Л. Радзиновича «История английских уголовных законов»[25]. Авторы рассматривают британские пенитенциарные реформы как серию последовательных нормативных актов, закрепивших гуманистические принципы содержания заключенных: правовую защиту содержавшихся под стражей, раздельное содержание мужчин и женщин, медицинское обслуживание, улучшение санитарно-бытовых условий и др. Постепенно под влиянием всех этих изменений система наказания приняла четко выраженный исправительный характер, ее эффективность отныне определялась не зрелищностью пыток и казней, как некогда, а осознанием неизбежности и неотвратимости возмездия. Так в историко-правовой науке были заложены основы государственно-правового подхода в оценке генезиса и характера реформ правосудия и системы наказания.
Особенностью первой классической школы стал интернациональный историографический почерк – сходство идейно-теоретических позиций и оценок у представителей отечественной (дореволюционной) и зарубежной научной мысли объясняется общностью дискуссионных площадок международных пенитенциарных конгрессов[26]. Отечественная история уголовно-исполнительной системы (аналог обособленного в зарубежной историографии междисциплинарного направления «историческая пенология») является правопреемницей дореволюционной научной школы с «говорящим» названием «историческое тюрьмоведение». Российские юристы-правоведы проявляли интерес к изучению мировой практики исполнения уголовных наказаний с середины XIX в. Анализируя британский опыт становления национальной пенитенциарной системы, известные ученые этого периода Д. Тальберг, М. Галкин, М. Фойницкий, С. Богородский, С. Гогель[27] не только заложили основы российской пенологии, но актуализовали нормативистский подход к пониманию и оценке эпохи «Кровавых кодексов». По мнению одного из основателей российской пенологии С. Познышева, первоначально тюрьмоведение представляло «особый и быстрорастущий отдел уголовного права»[28], что привело к жесткому доминированию в отечественной историографии политико-юридического подхода.
С формированием советской научной традиции отечественные и зарубежные историографические школы продвигались разными курсами, иногда сближаясь в критической переоценке классических взглядов исследователей предшествующего периода. Примером подобного сближения стала ревизия взглядов классического тюрьмоведения конца XIX – начала ХХ вв. в свете криминологической теории К. Маркса и его последователей. Последователи этой теории видят причину возникновения преступности в классовом расслоении общества, а причину перехода от смертной казни и телесных наказаний к принудительному труду в форме каторги, ссылки, галер и труда в условиях длительного тюремного заключения – в экономических условиях капитализма. Система становления принудительного труда рассматривается, в этой связи, как один из источников трудовых ресурсов – закономерный итог развития капитализма в странах Европы[29]. Продолжением классического марксизма в пенологии стали теории, связывающие появление тюрьмы с меркантильным желанием использовать труд заключенных на благо государства вместо «неэффективного» средневекового устранения провинившихся. На основе данной теоретико-методологической концепции все виды национальной каторги, английские работные дома, французские галеры, голландские ремесленные дома трактуются как общеевропейская тенденция в уголовно-исполнительной практике[30]. Квинтэссенцией «рыночного подхода» к наказанию является работа Г. Руше и О. Кирчхеймера[31], которые предлагали «сорвать с институтов наказания их идеологический покров… и описывать их в реальных производственных отношениях»[32]. Проанализировав соотношение наказания с существующими производственными отношениями и ситуацией на рынке труда, авторы приходят к выводу: в обществах, где труд избыточен (например «маргиналы» позднего средневековья – бродяги, попрошайки, нищие, итальянские лаццарони и пр.) широко распространена смертная казнь и калечащие наказания. Когда относительная ценность труда возрастает – меняются пенальные практики: галеры, каторга, переход к труду в условиях тюремных стен[33]. Следует отметить, что в западной историографии марксистскому подходу к анализу глубинных причин реформ уголовного правосудия уделяется несколько меньше внимания: критически воспринимая марксистские тезисы, трактуют эту теорию как одну из многообразных вариаций социологического направления в криминологии.
Советская историческая пенология испытывала большее влияние марксистской школы, нежели зарубежная историография соответствующего периода. В отечественной историографии советского периода опора на основные тезисы марксистской криминологической теории в оценке возникновения системы принудительного труда прослеживается более явственно. Советские ученые и практики (Л. Коган, М. Берман, Я. Рапопорт, И. Авербах) дополнили марксистскую пенитенциарную теорию идеологически-окрашенным тезисом о «безграничных возможностях трудового воздействия на формирование личности»[34], чем заложили основы еще одной сугубо практической науки – советское исправительно-трудовое право. В целом советское тюрьмоведение заимствовало методологические приемы, заложенные отечественными правоведами XIX-начала ХХ вв.: в трудах С. Познышева, Б. Утевского, М. Шаргородского[35] кардинальная трансформация английского уголовного правосудия представлена как синтез светских просветительских идей английских реформаторов Дж. Говарда и И. Бентама, облеченных в форму Пенитенциарных актов парламента[36]. Таким образом, советское тюрьмоведение явно увеличило крен в сторону нормативистского понимания истории трансформаций в уголовной политике и практике. В соответствии с позитивизмом в праве юридические нормы рассматривались в искусственной изоляции от социальных практик, как формально-юридические установления государства.
В зарубежной историографии вопросы, связанные с идейным генезисом современной системы уголовных наказаний и содержанием британских пенитенциарных реформ были подробно освещены и детально проработаны различными историографическими школами ХХ столетия. Идеологические, правовые, экономические и социальные и предпосылки «больших скандалов в традиционном правосудии», их практическая реализация, биографии знаменитых реформаторов и филантропов рассматривались историками, философами, криминологами и социологами с применением весьма разнообразных исследовательских методологий. Сторонники неклассического взгляда на рассматриваемую проблему в западноевропейской историографии объединены в условную исследовательскую группу приверженцев ревизионизма. В русле неклассического подхода ревизии были подвергнуты мотивы пенитенциарных реформ, как исключительно гуманистические, а также оспорен ее основной результат – переход к пенитенциарной (исправительной) системе – как безусловно-прогрессивный. Ревизионисты рассматривают процесс перехода к пенитенциарным учреждениям как результат изменения социальной природы наказания. Вдохновившись одной из самых провокационных теорий французского философа М. Фуко, изложенной в его работе «Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы», исследователи анализируют «бестелесность» уголовно-исполнительной системы Нового времени. Если целью и смыслом наказания в средние века был карательный захват «тела» и публичное причинение страдания, то реформированная система наказаний задумана таким образом, чтобы обеспечить применение закона не столько к реальному телу, способному испытывать боль, сколько к юридическому лицу, обладающему правом на жизнь[37]. Всемирно известный специалист в области юридической антропологии Норбер Рулан пишет: «большой спектакль физического наказания исчезает, – люди избегают смотреть на терзаемое тело. Стали искать иные решения, по-прежнему направленные на исправление виновного»[38].
Популярной вариацией ревизионизма стала распространенная в европейской и американской историографии теория «социального контроля». Американский исследователь Д. Ротман рассматривал тюрьму как один из элементов всеобъемлющей социальной программы по контролю над девиациями в обществе, наряду с психиатрическими больницами, школами, приютами и богадельнями[39]. «Теория социального контроля» стремительно набрала массу последователей, единодушных в оценке реформ конца XVIII столетия как отправной точки создания целого механизма контроля бедноты со стороны правящего класса посредством закона. В трудах ревизионистов панегирики в отношении просветителей-гуманистов – авторов и вдохновителей пенитенциарных реформ, таких как Дж. Говард, И. Бентам, Ч. Беккариа и др. – уступили место критике, подчас весьма суровой. Ревизионисты убежденно доказывали, что усилия реформаторов по созданию тюрем породили большую жестокость в сравнении с карательными традициями средневековья.
Интересный синтез гуманистического и ревизионистского подходов представил канадский историк М. Игнатьев (Майкл Игнатьефф) в работе «Справедливая мера страданий: тюремная система в индустриальной революции 1750–1850»[40]. Предположив, что так называемые «гуманистические мотивы реформы» были всего лишь маскировкой глубокого социального кризиса, выразившегося в стремлении среднего класса доминировать над стремительно выходящим из под контроля рабочим классом, он представил «поверхностный гуманитарный импульс» реформ как «доминирование разума» в попытке удержать господство правящих классов[41]. Появление междисциплинарного научного направления – гендерной истории придало «теории социального контроля» новое звучание. Полемизируя с М. Фуко с феминистических позиций, С. Бартки обратила внимание на тот факт, что «тело» наказуемого представлено им без определяющих половых признаков, что, на ее взгляд, существенно искажает анализ[42]. В русле гендерной исследовательской практики тюремная система, возникшая в ходе реформ конца XVIIIXIX вв., позиционируется как особый механизм исправления «женщин девиантного поведения», не вписавшихся в патриархальное общество, не ставших послушными жен и недостойных матерей[43].
Для историографии вопроса 1980-х гг. характерен «контр-ревизионизм». В 1981 г. вышеупомянутый М. Игнатьев выступил с аналитической статьей, в которой подверг критике ревизионистов, и в том числе свои предшествующие работы, за «упрощенный подход» к такой многосторонней проблеме как становление тюремных режимов[44]. Он подчеркнул преувеличенное внимание ревизионистов к роли государства в пенитенциарном реформировании и утилитаризм в понятийном аппарате, сводящем сложные социальные процессы к выстраиванию «вертикали подчинения». М. Игнатьев призвал к новой социальной истории и пересмотру устоявшихся взглядов на становление системы наказания. Одновременно были последовательно подвергнуты критики те положения теорий марксистской направленности, которые обуславливали переход к использованию труда заключенных исключительно развитием капитализма и колебаниями рыночного спроса на этот ресурс[45].
В начале 1970-х гг. одним из маркеров «культурного поворота» в мировой историографии второй половины XX в. стала работа выдающегося историка-медиевиста, одного из основателей культурантропологического направления в современной исторической науке Жака ле Гоффа «Является ли все же политическая история становым хребтом истории?»[46] Смещение исторических исследований в интердисциплинарное пространство, сближение истории с психологией, антропологией, социологией, методологические новации школ «истории ментальностей», «интеллектуальной истории», исторической психологии привели к возникновению новых способов реконструкции исторического мира. Ж. ле Гофф, констатировав освобождение историков от догматического марксизма и кризис традиционной политической истории, обозначил истоки «новой, антропологически ориентированной событийной истории»[47]. По мнению выдающегося историка современности Л. Репиной: «Глобализация, неразрывно связанная с коммуникативными процессами, включая коммуникацию идей, поставила на повестку дня новые вопросы и для тех, кто занимается изучением аналогичных процессов в историческом измерении, в том числе в пространстве культурно-интеллектуальной истории»[48]. Классик интеллектуальной истории, американский философ и историк А.О. Лавджой, автор книги «Великая цепь бытия» (1936), основатель издания «Journal of the History of Ideas», полагал, что, изучая любую произвольно взятую концепцию прошлого, историк уподобляется химику: он проникает в ее структуру, вычленяет и анализирует элементы (идеи) и реконструирует среду обитания (исторический контекст). По справедливому утверждению Л. Репиной, «исторический контекст, как ситуация, задающая не только социальные условия любой деятельности, но также конкретные вызовы и проблемы, которые требуют разрешения в рамках этой деятельности»[49] одержал убедительную победу в объяснительных моделях современной историографии.


