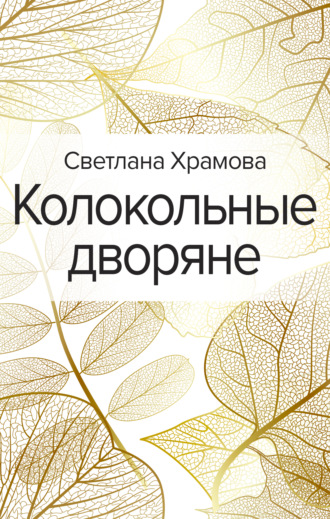
Светлана Храмова
Колокольные дворяне
С комприветом, Уншлихт».
Это цитаты из подлинных документов, приведенные в книге И. Бунича «Династический рок» (роман написан в 1995-м, тогда я впервые встретила фамилию прадеда в историческом контексте). Шифровки перемежаются с донесениями, ощущение судорожной неразберихи, всесильные чекисты еще только осваивали непростую профессию.
В екатеринбургских материалах следствия сообщения куда более бесхитростны. Они конкретны:
«Как удалось выяснить, шпага в золотых ножнах с рукояткой из червонного золота была передана Кирпичниковым А. П. на хранение Алексею Васильеву, который прятал ее вначале в дымовой трубе, а затем – под крыльцом Благовещенской церкви. Оперативно-розыскные мероприятия позволили установить, что в 1929 или 30 году Алексей Васильев вместе с женой Лидией Ивановной выехал из Тобольска в город Омск к своему сыну Александру, который покинул Тобольск еще в 1922–23 году. По дороге Алексей Васильев на ст. Тара умер. Оставшиеся ценности хранят жена Васильева Лидия Ивановна и сын Ал. Алексеевич, проживающие в городе Омске. Эти ценности частично ими расходованы. Например: несколько штук бриллиантовых ожерелий, колец и браслетов проданы бывшему крупному торговцу, купцу города Тобольска, Печекосу Константину Ивановичу, который, кроме этого, и у других лиц скупал золотую монету и изделия и который два-три года назад скрылся. Разысканы и взяты под стражу другие участники этого дела: Межанс Паулина и монашка Ивановского монастыря Марфа Ужинцева. Розыск продолжается.
Нач. ЭКО ПП ОПТУ по Уралу Самойлов.
Нач. 8-го отдела ЭКО Шумков». (Из материалов следствия по делу «О царских драгоценностях», архив КГБ, Екатеринбург.)
И все-таки: люди исчезали бесследно при малейшем подозрении, а тут жена и пятеро детей священника давали показания о драгоценностях – «ничего не знаю, не ведаю» – и ведь не тронули никого. И драгоценности царские не нашли, и подозреваемых целыми и невредимыми отпустили. Почему?
Я многим в сибирском городе задам этот вопрос – «Почему?» – и каждый раз на меня смотрят так, будто впервые видят, выражение лиц при ответах непередаваемое: лукавое и отстраненное, – как это сочетается, мне до сих пор непонятно. «Дальше Сибири не сошлют» – это не Александра Романовна сказала, это я позже много раз услышу вместо привычного в других краях «семь бед – один ответ».
Александра же Романовна (по телефону, напоминаю) успокаивала мои сомнения примерно так:
– Это поверхностное мнение, сейчас модно такое писать: всех расстреляли, никто не избежал. Сибиряки, во-первых люди упрямые, во-вторых, изворотливые, в-третьих… да вы сами поймете, когда приедете. Сейчас время такое, сюжетные линии как по стойке «смирно» стоят, вытянувшись в струнку. У каждого времени свой соцзаказ.
А у жизни другие правила. Судьбы очень по-разному складывались, персональная история каждого здешнего человека отдельная и индивидуальная. Нельзя говорить «тогда всех под одну гребенку» – не бывает такого времени. Одногребеночного. Чекисты не сразу научились систематизировать, долгое время сплошной стихийности и неорганизованности. Ваших и допрашивать начали только в 1932–1934-м годах, а до этого никто и не слыхал о таком. Неразбериха, пыль и туман.
Поздно спохватились, в то время уже и отец Алексий умер. Что с детей спросишь? А мамаша, по слухам, не вполне «в себе»: она женщина странная, замкнутая. Но это по рассказам. В жизни нет общих правил «для всех». Чекисты тоже люди. Порасспросили – и отпустили с миром, у нас таких случаев видимо-невидимо. Сибирь, знаете ли, полна секретов. В истории нашей как в лесу – медведи, грибы и тайны, в землю закопанные.
Часто навсегда.
Да вам обо всем Полина Сергеевна доложит, я договорилась. Лучше ее не найдете, еще спасибо скажете!
Спасибо я Александре Романовне каждый день говорю, Веденеева оказалась сущим кладом. Ярко-синяя юбка в пол, вишневый пиджак, лучащиеся слегка иронической приветливостью серые глаза. И непременная улыбка, в улыбке никакой иронии. Светлая она, Полина, я ей на голову свалилась, а ни тени раздражения ни разу не ощутила. Будто она меня ждала. «Здесь вещи оставить можете, водички попить или еще что – в любое время, мой кабинет в вашем распоряжении, девочки пустят, предупреждены. А то забегаетесь по Тобольску, присесть негде. А тут дворец, царские выставки, кресла удобные. Пока не устали? Пойдемте, я вам покажу кое-что».
Я еще много раз услышу это «пойдемте» – она будто знала, когда и что мне показать, следовала сценарию. А я так боялась ехать: найду ли хоть кого-нибудь, кто поможет?! Полина мне помогла.
– Реставрировали, чистили до блеска – Дворец наместника, Кремль, музей истории края, библиотека, архив. Мебель в библиотеке – восемнадцатый век! Сказочно у нас. Купола горят, собор многоглавый и семинария. Святые молитвы, история в глубь веков.
Мы обогнули дворец, и взору открылась широкая лестница, уходящая вниз, к домам. И дощатые ступени вычищены.
– Это в последние десять лет так. Раньше город заброшенным был. А стал духовным центром России, он третьим в списке сейчас идет – Москва, Петербург, Тобольск.
– Да. Я знаю, директор гостиницы моей в курс дела ввел немного.
– Кто это, Максим наш? Он, конечно, в курсе, духовность его в первую очередь интересует. – Искрились, переливались крохотные колокольчики, Полина Сергеевна смеялась, я тоже. Скорее улыбалась осторожно; понятия не имею, какие отношения у них, в городе все друг друга знают – это мне Максим еще по дороге из аэропорта объяснил. – Президент к нам с визитом прибыл, пришел в восторг от Тобольска. Распоряжения сделал соответственные – тут же городок в порядок привели. Не сразу, конечно. Все по европейским стандартам, да и в Европе такие музеи редкость, а уж о храмах и монастырях – чудес насмотритесь!
А пока – смотрите, вон там красная крыша, а справа – тот самый губернаторский дом, где царь с семьей в ссылке жили. И по этой лестнице, слева она, видите? – прадед ваш, отец Алексий, поднимался в собор, здесь его архимандрит принимал, они в очень хороших были отношениях, это о многом говорит. Кого попало царю в духовники бы не назначили. Ведь могущественный Гермоген его кандидатуру предложил, высокая рекомендация. Сейчас представьте себе – идет Алексей Васильев, прямой и высокий, по этой лестнице… сто лет назад.
* * *
N63
Протокол допроса Васильева Александра Алексеевича. 7 июля 1934 года
Из романовских вещей я имею один поясной ремень, две пепельницы с царским гербом, одну столовую тарелку, одну чайную чашку с блюдцем, других вещей не имею и не имел. Что касается ценностей личных, имели только в изделиях, например два кольца, брошка, две цепочки, серьги и запонки, из них часть сдана в торгсин. В отношении других романовских ценностей мне известно, что отцом была получена только одна шпага. С его же слов, эта шпага была ценной, других подробностей мне неизвестно. Со слов моей матери Лидии Ивановны мне известно, что последнее место прятания шпаги, как ей говорил отец, было около плиты или под плитой у дверей церкви, по ее же уверению, шпага должна быть там и до сих пор, правда отец ее искал, что он искал ее в пьяном виде и мог недосмотреть, а после этого случая он ее не искал. О других ценностях, как, например, о ценностях в чемодане, принадлежащих семье Романовых, я слышал от своей матери, что она о каких-то ценностях спрашивала во время поминок в 1929 году у Егорова Ивана Петровича, разговор был такой. Мать спрашивала, не оставил ли Алексей Павлович какие-нибудь ценности, на что якобы Егоров И. П. ответил отрицательно. Других подробностей мне неизвестно. Больше по данному вопросу показать ничего не могу. Записано с слов моих верно, в чем и расписываюсь. Васильев.
Допросил* (Архив СУ МБ РФ. Коллекция документов «Романовские ценности». Т.3, Л.37, об. Подлинник.)
N 64
Протокол допроса Васильева Александра Алексеевича 8 августа 1934 г.
В дополнение к ранее данным мною показаниям в отношении сокрытия романовских ценностей могу показать следующее. Я по тем фактам, которые мне известны, сугубо убежден в том, что романовские ценности моим отцом действительно получены. Это доказывает его отношение к семье Романовых и его авторитет у них. Поскольку это так, т. е. ценности получены, я считаю, что они хранятся у кого-то из членов нашей семьи, а главное, я глубоко убежден в том, что их хранит моя мать – Лидия Ивановна. Благодаря фанатизму она, как я это чувствую, скажет под нажимом на нее со стороны детей. Факты говорят за то, что моя мать, живя вместе со мной, очень многое от меня скрывает. Я беру на себя инициативу романовские ценности эти разыскать и сдать их пролетарскому государству. Записано с моих слов. Верно. Мною прочитано к сему. Васильев.
Допросил* (Архив СУ МБ РФ, Коллекция документов «Романовские ценности», Т.1, Л.70. Подлинник)
N 65
Из характеристики ПП ОГПУ по Свердловской области на хранителей царских ценностей: август 1934
(Сов. секретно)
…В 1918 году, во время нахождения царской семьи Романовых в городе Тобольске, священником Благовещенской церкви Васильевым Алексием совершались для царской семьи церковные обряды и молитвы в доме царской семьи. Благодаря своей ревности к монарху Васильев в семье Романовых пользовался большим авторитетом и безграничным доверием. В дни эвакуации царской семьи из города Тобольска в Свердловск Васильеву А., как надежному человеку, лично царицей А.Ф. Романовой было поручено вынести и скрыть чемодан с бриллиантами и золотом, весом не менее одного пуда. С первых дней после разгрома Белой армии на Урале и установления советской власти в 1919 году, во избежание обнаружения у него скрываемых царских драгоценностей, чемодан с этими ценностями передали крестьянину Егорову Егору Ивановичу. Последний спустя некоторое время ценности Васильевым возвратил обратно. Васильевы эти ценности сразу же скрыли в городе Тобольске.
Васильев А. в 1930 году после продолжительной болезни умер, и все ценности, по показанию арестованного нами Васильева Александра Алексеевича, скрываются семьей Васильевых, но кем персонально, последний не указывает, утверждая лишь следующее:
«Мне хорошо известно, что „романовские“ ценности моим отцом были получены, и я убежден, что хранит их моя мать, но она, как я думаю, отдаст их только тогда, когда будут требовать от нее мои братья и сестра Елизавета».
Факты скрытия Васильевым ценностей бывшей царской семьи подтверждают, кроме брата Васильевых – Александра Алексеевича, Егоров Егор Иванович, служанка дома Романовых Кобылинская К.М., личный писец Николая Романова – Кирпичников.
Пом. Нач[альника] ЭКО ПП ОГПУ по Свердловской области Начальник 6-го отделения ЭКО ПП Ермолаев, Шумков (Архив СУ МБ РФ. Коллекция документов «Романовские ценности». Т.1, Л.74, об. Подлинник).
Много фамилий в протоколах допросов, новая власть усердно искала сокровища, чекисты допрашивали с пристрастием. Александр Васильев, старший сын, под пытками доносил на матушку Лидию, та сознавалась в том, чего отродясь не знала, царский писарь А.П. Кирпичников не выдержал издевательств, бросился с шестого этажа и разбился насмерть, жена его ложку алюминиевую проглотила, умерла от разрывов пищевода; причастные к истории с царскими сокровищами – либо расстреляны, либо исчезли при невыясненных обстоятельствах, либо замучены в тюрьмах.
Но священник Васильев вплоть до самой смерти дурачком прикидывался – не знаю, не помню, не понимаю. И не трогал его никто. Вроде как блаженный он.
И Елизавета Васильева, бабушка моя, изящная и волоокая, при взгляде на нее лики рублевской иконы Святая Троица вспоминаются… неоднократно вызвана в околоток и с усердием допрошена. «Ничего не знаю, ничего не ведаю»… и уцелела, и не пострадала, но до конца жизни вслух о той истории говорить не хотела. Только две-три фразы – и тут же губы поджаты, уходит в себя. «Драгоценности в нашей семье были как игрушки»… «драгоценности вообще зло, от них беды одни, не носи, Светочка».
Пришло время покинуть Тобольск, решили с Лидией Ивановной и остальными детьми к старшему сыну Александру уехать, в Омск. Отец Алексий согласие на переезд дал, но, как на пароходе оказался и понял, что бросает царский дар без присмотра, – сердце его разорвалось от боли и безысходности. Умер в 1930 году, не доехав до Омска и тайну никому не открыв.
Когда бабушка Елизавета Алексеевна с Цесаревичем играла, ей всего-то неполных двенадцать лет было. Моя мама родилась в 1930, значит, к этому времени Лиза уже и фамилию сменила – стала Гребениковой, спешно выйдя замуж за учителя астрономии, Якова Ивановича.
Лиза образованна, окончила музыкальный техникум, работала в детских садах, писала оперы для малышей, вместе с ними спектакли ставила. «От медвежонка до лисы в июле всем нужны трусы, штанишки знатные, с подкладкой ватною».
Ее длинные тонкие пальцы с натренированными крепкими подушечками резво бегали по клавишам, солисты выводили арии, но эти строчки омские ребятишки пели хором.
Допрашивали всю семью священника – в том числе и ее, Лизу, вплоть до 1940 года. Она повторяла – у нас и свои драгоценности в доме были, китайский фарфор, картины на стенах. Мы жили зажиточно, а о чем вы спрашиваете – не ведаю.
В 1941 году дело о драгоценностях Царской Семьи отправили в архив. Запылилось и забылось.
Когда Царица увидела нового духовника впервые, она встрепенулась, он напомнил ей об убитом Царском Друге, о Григории Распутине. Оба они принадлежали к одному и тому же северославянскому типу, Алексей Васильев бывал в доме Григория Ефимовича, знал его дочерей и зятя.
На той единственной сохранившейся фотографии прадеда, семинарские годы, – он выглядит именно так, как я себе представляла.
И представлялось мне (ведь уже не безлик! неопределенный поначалу образ обретает конкретность. Воображению легче преобразовывать картинку в формат 3D, когда уже есть свидетельство и не надо придумывать черты), как этот человек с длинным красивым лицом, в черной рясе, которой он ни в 1917 году, ни позже не стеснялся, – поднимается по бесконечной деревянной лестнице рука об руку с архимандритом Гермогеном, который благоволил отцу Алексию Васильеву. Они идут по этой лестнице и негромко беседуют, я будто слышу их голоса…
– Мы с тобой здесь, чтобы служить верой и правдой Богу и Царю, помазаннику Божию. Значение этого молебна для Царя и Царицы, для членов Семьи трудно переоценить.
– Отец Гермоген, да ведь опасно. Охрана возропщет, я же знаком не понаслышке. Люди служивые, но замутненное у них сознание и бесовские идеи, время такое. Я с ними говорил.
– Опасно, Алексий. И по лестнице опасно ходить. На все воля Божия. Я все претерпел, что мне на долю выпало, не ропщу. И впредь роптать не буду. Ты дай указание молебен по всем правилам отслужить, я тебя потом от бесовщины укрою. Слово мое твердое, ты знаешь.
Алексий Васильев в твердости слова епископского уверен.
Архимандрит Гермоген помогал ему и наставлением, и поручительством, если необходимо. И Царской Семье его рекомендовал. Да, Царица взглянула – и обомлела: как похож! Благообразен и чинен отец Алексий, волосы аккуратно причесаны, и красив, но похож на Григория, похож! Это сходство давало ей надежду. Она ждала и жаждала спасения – но здесь, в России. Она не намерена уезжать, Бог милостив, спасение придет, чудо освобождения свершится! Все мерещились ей триста всадников, предсказанием обещанных, триста благородных офицеров, верных ей и Царю, что спешат на выручку и освободят из постыдного плена. Да и свершилось бы, если бы не покорность царственных мучеников: на все воля Божья, никаких собственных усилий не предпринимать.
Богу, возможно, нужно было помочь. Навстречу ему пойти, сделать хоть первый шаг к освобождению.
Как Гермоген двумя месяцами позже…
Он погибнет мученической смертью, пытаясь освободить Царскую Семью. Архимандрит крестный ход повел к Дому Свободы, пытаясь именем Бога вызволить Семью из заточения. Но разогнали большевики святое шествие, а епископа зверски убили, когда я пишу слово «зверски» – я представляю себе, как тонул в холодных волнах Иртыша этот смелый человек, так много на своем веку повидавший. К ногам его привязали камень и бросили в воду.
В 1918-м он погиб, и его смерть положила начало веренице жутких издевательств над церковными служителями. Даже здесь, в Тобольске, где сейчас 28 церквей, а к началу великой большевистской смуты их насчитывалось 33, и все церкви работали. Службы по графику, крещения, венчания и похороны, нарядные прихожане по воскресеньям. Благочестивая богомольная Сибирь.
Ближайшее окружение Семьи в Тобольске после переезда из Царского Села тремя пароходами при виде отца Алексия возроптало.
Евгения Боткина явление нового Григория испугало. Тогда не поняли еще, что опасность вовсе не в отце Алексии. Не понимали, что о суете мирской, о выяснениях, кто ближе к Их Императорским Величествам, можно раз и навсегда позабыть.
Бывшие царь и царица, так называет их новая власть.
Солдат Рыбаков как имя нарицательное.
Пора о спасении души думать. Царица глядела в будущее с надеждой, но казалось, что готова встретить любую развязку без содрогания.
«Может быть, он чем-то напоминал ей Григория Распутина, тоже происходившего из Тобольской губернии» – да, сходство отца Алексия с Распутиным уловил не только сын священника Георгий, рассказавший об этом своим детям. Лейб-медик Боткин, впоследствии расстрелянный вместе с Царской Семьей, тоже отреагировал на появление нового духовника именно так.
«Едва только от одного Распутина избавились, как уже и следующий найден». Евгений Сергеевич Боткин уж очень Распутина не любил, известен случай отказа Григорию в медицинской помощи. Тобольск, деревня Покровское поблизости – только-только ушел в лучший мир один «святой старец», как того и гляди появится другой.
Царица прониклась к тобольскому духовнику самыми теплыми чувствами, это насторожило. И вызвало подозрительность свиты, народу тремя пароходами прибыло немало. («Всего двадцать человек с ними приехали, добровольные жертвы, о каких интригах можно говорить?» – горячо воспротивилась моему предположению журналистка из Екатеринбурга Лия Гинцель, автор статьи о семье Васильевых и укрытии царских драгоценностей).
Корабли в Тобольск приплыли богатые, челяди прибилось с хозяевами немало, о гибели не думали. Думали, как от беспорядков питерских подальше сбежать. А там… разные пути открывались, как виделось в суматохе упаковывавшим все, попадавшееся на глаза, – набитый хлыстиками для лошадей твердый кожаный чемодан одному из биографов запомнился крепко.
«С августа 1917 по апрель 1918 года в губернаторском доме проживала царская семья. 6 августа 1917 года в Тобольск на пароходе „Русь“ прибыла семья Романовых. Их слуги, приближенные (всего 45 человек) и охрана – на пароходе „Кормилец“. С собой в Тобольск Романовы привезли 2800 пудов груза (почти 40 тонн вещей). Для проживания царской семьи был отведен Дом губернатора. Однако, когда пароход остановился около пристани, Николай II отправил слуг, которые доложили, что здание для проживания царской семьи не готово – помещения грязные, пустые и без мебели. Целую неделю Романовы и слуги прожили в своих каютах. Это было прекрасное время: они могли совершать прогулки вдоль Иртыша, встречаться с местными жителями. Романовы посетили Сузгунскую сопку (известную как Лысая гора). По одной из легенд, царская семья посетила также Абалакский монастырь». (Цитируется по статье «Пребывание Царской семьи в Тобольске», сайт Тобольской епархии.)
Никто из добровольно приехавших в сибирскую ссылку не предвидел ужасного конца, вновь прибывшие ссыльные были уверены в скором освобождении, ждали, что придет на помощь английский король Георг V, кузен Николая Второго, в Мурманске готовили для Семьи временное пристанище, откуда царственные узники будут переправлены за границу на корабле.
Не приплыл корабль, рука помощи, потянутая поначалу, зависла в воздухе. Британская империя отказалась принять Романовых.
От греха подальше.
Но это поймут позже, много позже. А пока – в августе 1917-го на пароходе «Русь» в Тобольск прибыла Семья – и придворные, привыкшие к особому дворцовому укладу, к секретам и интригам. Прекрасные мужественные люди, но интриги при дворе норма.
Портовые грузчики тащили увесистые, второпях набитые чемоданы, заполняя разнообразным багажом тобольскую пристань.
«13 августа началось проживание в губернаторском доме. Романовы занимали 8 комнат из восемнадцати. На первом этаже проживали слуги, находилась столовая. Охрана царской семьи проживала в доме Корниловых. Непосредственной охраной царской семьи занимался отряд особого назначения под началом полковника Кобылинского, составленный из отборных солдат трех гвардейских стрелковых полков.
Время проживания в Тобольске для Романовых было относительно спокойным: дети занимались уроками, читали, бывший император работал в своем кабинете. В Доме Свободы появились домашние птицы, был вырыт прудик для уток. В теплые дни Романовы любили принимать солнечные ванны на крыше оранжереи. 21 (8) сентября 1917 года, в праздник Рождества Богородицы, Романовым разрешили посещать Благовещенскую церковь. Посещение храма продолжалось до 7 января 1918 года, но затем было запрещено» (после молебна Многая лета посещение церкви запретили… но в январе 1918-го речь уже не шла об укрытии Царя и Семьи. Готовили уничтожение «живого знамени белого движения» – так говорил о Николае Втором товарищ Ленин. Живому знамени церковь посещать необязательно. Но последний церковный молебен в жизни царской семьи был отслужен по всем правилам).
* * *
Полина Сергеевна Веденеева будто наворожила: голоса идущих я услышала, вообразила смутные очертания двух фигур.
И надолго застыла на смотровой площадке, смотрела вниз, на влажные поверхности крыш, опутанные деревьями, лишь кое-где меж ветвей проглядывали гламурные стены элитных домов. Новенькие, ждущие. Кондоминиумы у подножия горы раскинулись амфитеатром, каждый метр продается задорого!
– А ведь там, внизу, три церкви стояли, стройные, их уничтожили. Уничтожают у нас, как вы знаете, зверски. И новые постройки на месте тех церквей время от времени самовозгораются… но это никого ничему не учит. Строят и строят. – Полина Сергеевна загадочно улыбнулась голосу, подняла голову – нам навстречу шел невысокий седеющий парень, и придумывать его образ было незачем: ко мне приближался вылитый Кот Бегемот, его Михаил Афанасьевич Булгаков давно придумал, и задумка блестящая.
А тут фантазия наяву: черная рубашка и узкие джинсы, черные очки в круглой оправе, небольшая черная шляпа модели «котелок» сдвинута чуть к затылку, светлые пряди волос выбиваются наружу, в руке стильная трость. Тоже черная. Театральный персонаж, театральные реплики при появлении. Я не могла поверить, что он настоящий, успела шепнуть Полине:
– Это ваш экспонат из музея? Вы ведь обещали чудеса…
– Он и есть чудо, – отшепталась невозмутимо Полина, почти не шевеля губами. – Не удивляйтесь. – И громко: – Володя, наш сотрудник. Настоящий клад! Он знает все и обо всех вам расскажет. Рекомендую, Светочка, уверена, вы подружитесь. Владимир – моя правая рука.
– Владимир Цыбушкин, правая рука и левая нога Полины Сергеевны, – отрекомендовался Бегемот церемонно, глядя на меня вполне человеческими глазами.
– Видите, Света. Никакого нет пиетета перед начальственной особой. Совсем я в руководители не гожусь, – улыбнулась Полина. Видно было, что эту сцену они играют не впервые.
Владимир церемонно изогнулся, поцеловал ручку – вначале Полине, потом мне, и громко произнес, выпрямившись:
– У меня и перед царственными особами пиетета нет, днем и ночью с ними общаюсь. Такие подробности! Пиетет-иммунитет. Но перед прекрасными дамами склоняюсь, готов выполнять приказания! – и чуть тише добавил: – Между прочим, прибыл по вашему распоряжению, несравненная Полина Сергеевна. В распоряжение несравненной Светланы – как вас по батюшке?
– Лучше по имени, – отмахнулась я. – Вы с моим отцом тезки, он тоже Владимир. Не будем путаться. Я отчества в принципе не люблю, Полина Сергеевна – исключение, такое сочетание редкость, приятны звуки для произнесенья вслух.
– По-моему, Света, вы с Володей нашли друг друга, в чем я не сомневалась, еще не было гостя, к которому наш заведующий Отделом исторических подробностей не подобрал бы особый ключик. Вы взаимообогатитесь, я уверена.
– Полина Сергеевна, матушка, никакого ключика я не искал. Как научили общаться, так я и общаюсь, – обиженно мурчал Бегемот, над приспущенными темными очками из пены маскарадной бравады на меня устремлен чистый и ясный взгляд; Владимир приподнял шляпу, у него короткие светлые волосы. Ладный, бурлескный, неожиданный.
Симпатичный Кот Бегемот. Росту небольшого, но без признаков обжорства, подтянут.
– Что же, Светлана, панорамное вы увидели, но прежде чем спуститься вниз, я вам кое-что наверху покажу. Давайте через площадь перейдем. Вы идите рядом, а я по дороге буду рассказывать. В бывшей столице Сибири каждый камень тайны хранит. И каждая картина. Пожалуй, вначале один интереснейший портрет соблаговолите рассмотреть. Вместе со мной.
Полина Сергеевна улыбалась нам:
– Ну вот, откланиваюсь, но если есть во мне необходимость – я в своем кабинете. Переодеться, вещи оставить, отдохнуть – милости прошу. Да и чаю с печеньем – в любой момент. Не стесняйтесь, заходите! – Она неспешно удалилась, скрывшись через мгновение за огромной дверью Дворца Наместника. Я проводила ее взглядом, и Владимир тоже проводил. Теперь мне приходится задавать вопросы самостоятельно:
– Володя, вы знаете тайны и секреты сибирские, «все и обо всем», как мне сообщили. Свидетельства, книги, событий клубок. Тугой клубок. Пишете, наверное?
– Да нет, не пишу. Не умею. Говорить-то недавно научился. Я ведь до знакомства с Полиной Сергеевной молча с документами работал, а она появилась и практически силой заставила экскурсии вести. Я спорил с ней – какой из меня экскурсовод? Много лишнего сообщаю, в тесных рамках мне трудно. А она свое: тут разные люди приезжают, одни пишут, другие фильмы снимают. Им подробности интересны, знаете ли. Ну да, Отдел исторических подробностей как исполнившаяся мечта. И без меня вон сколько народу пишет, и вы, мне сказали, пишете. Я краевед. Чем могу, стараюсь быть полезным.
Мы беспрепятственно проходили по залам музея, повсюду компьютерные программы, экраны, на которые кликнешь – и подзаголовок, вызвавший интерес, растолковывается дикторским голосом. В деталях. Чудеса! Это и в европейских музеях редкость, а тут Сибирь, я думала, в глухомань еду…
– Ох, Светлана, это в последние годы мы так преобразились, демонстрируем «уровень мировых стандартов». Президенту город очень понравился, вы уже о том наслышаны, уверен – вот он и распорядился его в порядок привести. И что? Мигом!
Создали специальный фонд, банкиры наши объединились с бизнесменами, музейные заявки не остаются без внимания, чудеса в решете как из рога изобилия посыпались.
Обсуждая увиденное по пути, мы перемещаемся в нижний этаж. Таинственная, набитая самыми неожиданными предметами комната. Владимир остановился у портрета в уголке экспозиции. В полутьме небольшого зала огнем горели глаза жгучего брюнета, жадные и смелые.
– Кто бы вы думали? Это Ермак собственной персоной, работа неизвестного художника, восемнадцатый век. А ведь вылитый Фернандо Кортес! Конкистадор, покоритель Мексики… С чего бы это? Каким ветром занесло отъявленного авантюриста в Россию?
И ведь как умен был! Я уверен, вначале он завоевывал Сибирь для себя, и ведь чистая случайность помогла! И не намеревался, но когда стало складываться – просто повезло, азарт! – и стал как в карты играть. В конце концов объявил, что выполнял поручение царя, да и не совладал бы иначе с превосходящими силами противника. Татарские воины считали Ермака дьяволом.
Но у меня главный вопрос: почему он так выглядел? Ведь первые портреты именно такие, художники друг у друга перерисовывали. А потом уже – вот, полюбопытствуйте – небольшая скульптура рядом – «Завоевание Сибири Ермаком», здесь уже славянский тип лица, простой мужик, русский казак. Таким его теперь изображают. А совершенно загадочная фигура на самом деле, кто таков – до сих пор непонятно. Это – кстати о тайнах и секретах. Тут куда ни встань – везде тайна, есть версии, но нет четкого неопровержимого мнения, как и что происходило, все очень приблизительно. Версии появляются, опровергаются. Что известно определенно?
С вашим прадедом как раз определенная история. Все сходится: кто да что, где жил. Откуда происходил, дети семья жена и прочее.
Я тут же перебиваю, жду уточнений: почему он так уверен? Но Владимир продолжает, не обращая на меня никакого внимания:
– В остальном… Историческая правда – это сплошные белые пятна. Что логично, а что нет, дедукция и индукция. Применяю, всматриваюсь, делаю выводы… мужик.
Вот город наш основан в 1587 году, с конца семнадцатого века – столица Сибири. А что первым выстроили, как только струги казацкие стали разбирать и для хозяйственных нужд применять, обживаться? Первым делом – острог. Из этих самых лодейных досок, вон видите – здание, похоже на домики из спичек, такие раньше дети клеили, – это ресторан «Ладейный». В самом центре города. Дорогой, богатый ресторан имени первого острога. Неподалеку – Тюремный замок. Мы его так красиво называем, а это на самом деле – бывшая тюрьма. Прямо напротив Дворца Наместника, как вы заметили, и каменного Кремля, первого и единственного в Сибири.
Здесь начало сибирской ссылки, в этом замке и Достоевский 10 дней провел, а памятник ему отгрохали такой, будто он здесь и родился. Я не против памятника, но у нас ведь не литературе монументы ставят, а тем, кто имеет отношение к городу.
Сидел он здесь недолго.
На Завальном кладбище Кюхельбекер похоронен, я роман Юрия Тынянова «Кюхля» очень люблю. Но памятник Вильгельму не установлен. Может, в городе о нем не так хорошо осведомлены. Я опять отвлекся…
Пойдемте через площадь, у нас же тут все рядом. В Тюремном замке теперь гостиница, дешевая достаточно. За 600 рублей вы проведете ночь в камере, «почувствуете себя заключенным в историческом контексте». Это не юмор, это правда. Я там тоже как-то ночевал, но бесплатно. Задерживались с подготовкой выставок, 2–3 часа иногда оставалось, но спать где-то надо. Вот и…
– И как? – Я оживилась.
– Карцер как карцер, каменный мешок с откидной узенькой доской для сна. Можете при желании попробовать.
– Да нет, у меня нет желания и в комфортабельной камере ночь проводить, не то что в каменном мешке. С одной стороны, у меня воображение слишком развито, с другой – и хорошо, что развито, могу себе представить все, что там ощущают. В красках.





