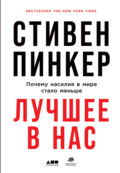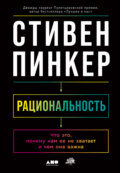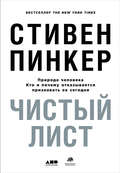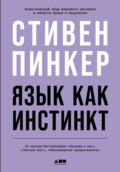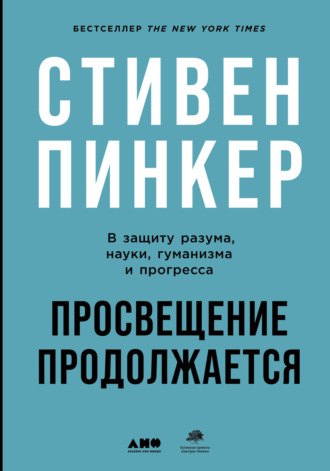
Стивен Пинкер
Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса
Глава 9
Неравенство
«Но станет ли богатым весь мир?» Этот вопрос неизбежно возникает в развитых странах во втором десятилетии XXI века, когда экономическое неравенство стало предметом массовой одержимости. Папа римский Франциск назвал его «корнем всех зол», Барак Обама – «определяющим вызовом нашего времени». С 2009 до 2016 года доля статей в The New York Times, содержащих слово «неравенство», выросла в десять раз и достигла одной из каждых семидесяти трех[272]. Широко распространено мнение, что от экономического роста последних десятилетий выиграл только один самый богатый процент населения, а все остальные топчутся на месте или медленно идут ко дну. Если это так, то тот взрыв богатства, который мы задокументировали в прошлой главе, не был бы поводом для радости, поскольку ничем не способствовал бы росту благосостояния человечества в целом.
Для левых всегда было характерно внимание к проблеме экономического неравенства, а с начала Великой рецессии в 2007 году она приобрела дополнительную актуальность. В 2011 году это дало толчок движению Occupy Wall Street («Захвати Уолл-стрит»), а в 2016-м привело к выдвижению в кандидаты в президенты США называющего себя социалистом Берни Сандерса, который провозгласил: «Нация не может выжить ни морально, ни экономически, когда у столь малого числа людей есть так много, а у столь многих – так мало»[273]. Однако в тот год революция пожрала своих детей и вознесла в президентское кресло Дональда Трампа, считающего, что Соединенные Штаты стали «страной третьего мира», и обвиняющего в ухудшении материального положения рабочего класса не Уолл-стрит и тот самый один процент богатых, но иммиграцию и внешнюю торговлю. Правый и левый фланги политического спектра, по разным причинам возмущенные неравенством, нашли точку соприкосновения, и разделяемое ими неверие в современную экономику подготовило почву для избрания самого радикально настроенного американского президента за многие годы.
Действительно ли углубление неравенства привело к обеднению большинства граждан? Экономическое неравенство, несомненно, выросло по сравнению с минимумом, достигнутым в 1980-е годы, в большинстве стран Запада, и в частности в США и других англоговорящих странах, причем особенно это касается контраста между самыми богатыми и всеми остальными[274]. Экономическое неравенство обычно измеряется коэффициентом Джини – показателем, который варьируется от 0, когда у всех всего поровну, до 1, когда у одного человека есть все, а у остальных – ничего. (В реальности разброс коэффициента Джини составляет от 0,25 в странах с самым эгалитарным распределением доходов, например в Скандинавии после выплаты налогов и пособий, до 0,7 в странах с самым неравномерным распределением, например в Южной Африке.) В США коэффициент Джини для рыночного дохода (то есть без учета налогов и пособий) вырос с 0,44 в 1984 году до 0,51 в 2012-м. Неравенство также можно измерить по доле национального дохода, получаемой той или иной частью (квантилем) населения. В США доля дохода, которая достается богатейшему одному проценту, выросла с 8 % в 1980 году до 18 % в 2015-м, тогда как доля, которая достается десятой части этого одного процента, выросла с 2 % до 8 %[275].
Несомненно, некоторые из явлений, которые относятся к широкой теме неравенства (а таких явлений много), представляют собой серьезные проблемы, которые требуют решения хотя бы потому, что подталкивают общество к пагубным идеям вроде отказа от рыночной экономики, технологического прогресса и международной торговли. Неравенство дьявольски сложно анализировать (при населении в один миллион человек имеется 999 999 вариантов, каким именно образом они могут быть не равны), и о нем написано огромное количество книг. Мне специально посвященная этой теме глава понадобилась из-за того, что связанная с неравенством антиутопическая риторика увлекла слишком много людей, которые видят в нем знак того, что современность оказалась неспособной улучшить удел человека. Как мы увидим, это не так, причем по многим причинам.
~
Для понимания неравенства в контексте прогресса человечества необходимо сначала принять тот факт, что имущественное равенство не относится к фундаментальным составляющим благополучия. В этом смысле оно отличается от здоровья, достатка, знаний, безопасности, мира и других аспектов прогресса, которые я рассматриваю в соседних главах этой книги. Причина этого очень точно выражена в старом советском анекдоте. Нищие крестьяне Игорь и Борис едва выращивают на своих клочках земли достаточно хлеба, чтобы прокормить домочадцев. Единственное различие между ними состоит в том, что у Бориса есть костлявая коза. Однажды Игорю является фея, которая обещает выполнить любое его желание. Игорь просит: «Хочу, чтоб у Бориса коза сдохла».
Суть шутки, разумеется, в том, что равенство между персонажами выросло, но никому не стало лучше – разве что мстительному Игорю теперь не так завидно. Более тонко проблему описал философ Гарри Франкфурт в своей книге «О неравенстве» (On Inequality, 2015)[276]. Франкфурт отмечает, что неравенство как таковое не представляет собой нежелательное в моральном плане явление; нежелательное явление – это бедность. Если человеку дана долгая, здоровая, счастливая, полная возможностей жизнь, то с точки зрения морали не имеет значения, сколько зарабатывают его соседи, какой у них дом и сколько машин. Франкфурт пишет: «С нравственной позиции не столь важно, чтобы у всех всего было поровну. Важно, чтобы у всех всего было достаточно»[277]. Зацикленность на экономическом неравенстве может иметь губительные последствия, если мы вдруг отвлечемся, чтобы убить козу Бориса, вместо того чтобы думать, как дать козу Игорю.
Ошибочное отождествление неравенства и бедности напрямую вытекает из заблуждения о неизменном объеме, то есть из веры, что богатство – это ограниченный ресурс, как туша антилопы, которую нужно делить по принципу «одному досталось меньше – другому больше». Как мы уже убедились, богатство работает не так: начиная с промышленной революции оно растет по экспоненте[278]. Это значит, что, пока богатые богатеют, бедные тоже могут стать богаче. Даже специалисты иногда впадают в заблуждение о неизменном объеме, хотя скорее в пылу риторики, чем от ошибочности своих представлений. Тома Пикетти, чей вышедший в 2014 году бестселлер «Капитал в XXI веке» (Le Capital au XXI siècle) стал символом всемирной волны возмущения неравенством, писал: «Что касается нижней половины населения, то сегодня она так же бедна в имущественном отношении, как и вчера: в 2010-м, как и в 1910 году, она располагала всего 5 % имущества»[279][280]. Однако суммарное богатство сейчас несоизмеримо больше, чем в 1910 году, так что, если половина населения владеет той же его долей, она гораздо богаче, а не «так же бедна».
Заблуждение о неизменном объеме имеет и еще более пагубное последствие: люди верят, что, если кто-то становится богаче, он наверняка отнял больше положенного у всех остальных. Знаменитый пример философа Роберта Нозика, переложенный на реалии XXI века, показывает, почему это не так[281]. Джоан Роулинг, автор романов о Гарри Поттере, входит в число миллиардеров планеты; она продала более 400 миллионов копий своих книг и адаптировала их для серии фильмов, которые посмотрело примерно столько же народу[282]. Предположим, что миллиард человек отдали по 10 долларов за книгу или билет в кинотеатр, а 10 % выручки при этом достались Роулинг. Она стала миллиардером, увеличив тем самым неравенство, но она улучшила жизнь людей, а не ухудшила ее (хотя я не хочу этим сказать, что каждый богатый человек делает то же самое). Это не значит, что огромное состояние Роулинг – справедливая плата за ее труды и таланты или что это награда за грамотность и радость, которые она привнесла в мир; никакой комитет не решал, что она заслужила быть настолько богатой. Ее богатство возникло как побочный эффект добровольных решений миллионов покупателей книг и посетителей кинотеатров.
Конечно же, есть много причин волноваться по поводу самого неравенства, а не только по поводу бедности. Не исключено, что большинство людей солидарны с Игорем: счастье для них определяется не абсолютными показателями их благосостояния, а тем, насколько оно велико в сравнении с их согражданами. Когда богатые становятся слишком богатыми, все остальные чувствуют себя слишком бедными, и тогда неравенство снижает благополучие, даже если все при этом богатеют. Это давно известная в социальной психологии идея, которую называют то теорией социального сравнения, то учением о референтных группах, то относительной депривацией[283]. Однако эту идею нельзя рассматривать в отрыве от контекста. Представьте себе Саиду, неграмотную женщину из бедной страны; ее жизнь ограничена ее деревней, половина ее детей умерли от болезней, а она сама скончается в пятьдесят лет, как большинство ее знакомых. Потом представьте Салли, образованную женщину из богатой страны, которая побывала в нескольких крупных городах и национальных парках, увидела, как повзрослели все ее дети, и доживет до восьмидесяти, но при этом навсегда останется в нижнем слое среднего класса. Мы можем предположить, что Салли деморализована окружающим ее богатством, которого ей никогда не достичь, что она не особенно счастлива и даже, вероятно, менее счастлива, чем Саида, которая рада тем крохам, что имеет. Тем не менее нелепо утверждать, что Салли живется хуже, и просто преступно – что жизнь Саиды не стоит улучшать, потому что у ее соседей дела могут пойти успешнее, чем у нее, и она в итоге не станет счастливее[284].
В любом случае этот мысленный эксперимент не имеет смысла, поскольку в реальности Салли почти наверняка счастливее Саиды. В противовес бытовавшему ранее мнению, что осознание богатства соотечественников заставляет людей постоянно обнулять показания своего внутреннего измерителя счастья вне зависимости от того, как хорошо живется лично им, в главе 18 мы увидим, что богатые люди и люди из богатых стран (в среднем) счастливее, чем бедные люди и люди из бедных стран[285].
Но даже если люди делаются счастливее, когда возрастает их личное богатство и богатство их страны, не становятся ли они несчастнее от того, что окружающие все равно богаче их, то есть от того, что растет экономическое неравенство? В своей нашумевшей книге «Дух равенства: почему более высокий уровень равенства делает общества сильнее» (The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger) эпидемиологи Ричард Уилкинсон и Кейт Пикетт утверждают, что в странах c более высоким неравенством выше показатели убийств, численности заключенных, подростковых беременностей, детской смертности, физических и психических заболеваний, социального недоверия, ожирения и употребления наркотиков[286]. Экономическое неравенство – причина всех этих бед, пишут они: неравенство в обществе заставляет людей чувствовать себя так, будто они участвуют в состязании, где победителю достается все, а проигравшему – ничего. Этот стресс расшатывает психику и склоняет к саморазрушению.
Теорию духа равенства называют «новой левой теорией всего», и она так же сомнительна, как и любая другая теория, которая перескакивает от клубка корреляций к единой причинно-следственной связи. Для начала: неочевидно, что в состояние конкурентной тревоги людей вводит факт существования Джоан Роулинг или Сергея Брина, а не реальных соперников в частной борьбе за профессиональный, любовный или социальный успех. Хуже того, экономически эгалитарные страны, такие как Швеция или Франция, отличаются от стран с сильным расслоением вроде Бразилии или Южной Африки по многим другим показателям, помимо характера распределения доходов. В эгалитарных странах среди прочего выше уровень богатства и образования, лучше работают правительства и более однородна культура, поэтому приближенная корреляция между неравенством и счастьем (или любым другим социальным благом) может свидетельствовать лишь о том, что существует много причин, по которым в Дании жить лучше, чем в Уганде. В своем анализе Уилкинсон и Пикетт ограничились только развитыми странами, но даже внутри этой группы корреляция оказывается очень зыбкой и зависит от выбора конкретных стран[287]. Богатые государства с глубоким расслоением, например Сингапур и Гонконг, часто социально здоровее более бедных стран с меньшим уровнем неравенства, в частности бывших коммунистических стран Восточной Европы.
Самый большой урон теории духа равенства нанесли социологи Джонатан Келли и Мэрайя Эванс, которые опровергли причинно-следственную связь между неравенством и счастьем в своем ведшемся на протяжении трех десятилетий исследовании 200 000 человек из 69 стран[288]. (В главе 18 мы рассмотрим, как измеряются счастье и удовлетворенность жизнью.) Келли и Эванс следили за неизменностью факторов, достоверно влияющих на уровень счастья, таких как ВВП на душу населения, возраст, пол, образование, семейный статус и религиозная принадлежность; в итоге они установили, что теория о несчастье как следствии неравенства «терпит крушение, натолкнувшись на факты». В развивающихся странах неравенство не погружает людей в уныние, а, наоборот, воодушевляет: чем выше уровень неравенства, тем люди счастливее. Авторы предполагают, что, сколько бы люди ни испытывали зависти, тревоги по поводу своего статуса и относительной депривации, в бедных странах с высоким уровнем неравенства эти чувства с лихвой перекрывает надежда. Неравенство видится жителям этих стран символом возможностей, знаком того, что образование и другие способы продвинуться выше по социальной лестнице могут привести к успеху их самих или их детей. В развитых же странах (кроме бывших коммунистических) неравенство вовсе не сказывается на счастье. (В бывших коммунистических странах ситуация двойственная: неравенство тяжело переносится старшим поколением, которое выросло при коммунизме, но помогает молодым или же безразлично им.)
Такая неоднозначность влияния неравенства на человеческое благополучие подводит нас к еще одному заблуждению, характерному для участников этой дискуссии, – смешению неравенства и несправедливости. Многие психологические исследования показывают, что люди, в том числе дети, предпочитают, чтобы неожиданная выгода равномерно распределялась между всеми причастными, даже если в сумме всем достанется меньше. Такие результаты заставили некоторых психологов предположить существование некоего синдрома, названного ими «неприятием неравенства», – стремления к распределению богатства. Однако в своей недавней статье «Почему люди предпочитают неравные общества» (Why People Prefer Unequal Societies) психологи Кристина Старманс, Марк Шескин и Пол Блум по-другому взглянули на эти исследования и обнаружили, что людям больше по душе неравное распределение, как среди участников эксперимента, так и среди граждан своей страны, если им кажется, что это распределение справедливо: если дополнительные надбавки достаются самым усердным работникам, самым заботливым помощникам или даже случайным победителям честной лотереи[289]. «Пока что нет доказательств, – заключают авторы статьи, – что дети или взрослые однозначно склонны к неприятию неравенства». Людей устраивает экономическое неравенство, когда их страна представляется им меритократической, и они возмущаются, если им кажется, что это не так. Различные версии причин экономического неравенства волнуют их больше, нежели сам факт его существования. Это позволяет политикам легко стравливать людей друг с другом, просто указав пальцем на тех, кто нечестно получает больше положенного: жирующих на социальных пособиях, иммигрантов, внешних врагов, банкиров или богатых, причем нередко эти группы ассоциируются с определенными этническими меньшинствами[290].
В дополнение к гипотезам, что экономическое неравенство оказывает воздействие на психологию отдельно взятых людей, его связывали с еще несколькими общественными проблемами, такими как экономическая стагнация, финансовая нестабильность, отсутствие межпоколенной мобильности и продажность политической системы. Эти отрицательные явления требуют к себе самого серьезного внимания, однако и здесь можно усомниться, что с неравенством их связывает не корреляция, а отношения причины и следствия[291]. Как бы то ни было, я полагаю, что стремиться изменить коэффициент Джини как корень множества социальных бед куда менее эффективно, чем искать решение каждой проблемы по отдельности: инвестировать в исследования и инфраструктуру для выхода из экономической стагнации, упорядочивать финансовый сектор для уменьшения нестабильности, увеличивать доступность образования для поощрения экономической мобильности, повышать прозрачность избирательного процесса, реформировать финансирование предвыборных кампаний для борьбы с излишним политическим влиянием богатых и так далее. Воздействие денег на политику особенно опасно, поскольку оно способно извратить любой правительственный курс, но это не та же самая проблема, что экономическое неравенство. В конце концов, при отсутствии реформы избирательной системы самые богатые жертвователи будут иметь свободный доступ к политикам вне зависимости от того, достается ли им 2 % национального дохода или 8 %[292].
Таким образом, экономическое равенство само по себе не является одним из аспектов человеческого благополучия. Кроме того, неравенство не стоит путать с несправедливостью или бедностью. Теперь от моральной оценки неравенства обратимся к вопросу, почему оно менялось со временем.
~
Глядя на историю неравенства, проще всего заявить, что оно является порождением эпохи модерна. Наверняка сначала мы находились в состоянии естественного равенства, поскольку богатства не было в принципе, и все имели равные доли от ничего, а затем, когда возникло богатство, у некоторых его оказалось больше, чем у других. В таком изложении неравенство изначально находилось на нулевом уровне и росло по мере накопления капитала. Но это не совсем верно.
Охотники и собиратели на первый взгляд представляют собой очень эгалитарное общество, и именно это подтолкнуло Маркса и Энгельса к идее «первобытного коммунизма». Однако этнографы отмечают, что образ равенства, царящего в таких группах, обманчив. Во-первых, современные племена охотников и собирателей, за которыми мы имеем возможность наблюдать, не живут той же жизнью, что их древние предшественники: они вытеснены на маргинальные земли и потому вынуждены кочевать, что делает невозможным накопление какого-либо богатства, хотя бы потому, что его не так-то легко носить на себе. Но оседлые охотники и собиратели, например коренные жители обильного лососем, ягодами и пушным зверем северо-западного побережья Северной Америки, были отнюдь не эгалитаристами. Они имели потомственную знать, которая владела рабами, копила предметы роскоши и гордо демонстрировала свое богатство в ходе потлачей. Кроме того, хотя кочевые охотники и собиратели действительно делят между собой мясо (поскольку охота – это в значительной мере дело удачи, и поделиться в день богатой добычи – значит обезопасить себя на тот случай, когда ее не будет совсем), растительную пищу они делят куда реже. Собирательство – это вопрос усердия; если делить собранное поровну на всех, кто-то сможет получать свою долю, ничего при этом не делая[293]. Любому обществу свойствен определенный уровень неравенства, как и осознание его существования[294]. Недавнее исследование неравенства в обладании теми формами богатства, которые доступны охотникам и собирателям (домами, лодками, добычей), показало, что они далеки от состояния «первобытного коммунизма»: коэффициент Джини в таких обществах составляет 0,33, что близко к показателю для располагаемого дохода американцев в 2012 году[295].
Что происходит, когда общество начинает производить богатство в значительном объеме? Рост абсолютного неравенства (разницы между самыми богатыми и самыми бедными) оказывается почти что математической неизбежностью. При отсутствии некоего Управления по перераспределению дохода, которое раздавало бы всем равные доли, одни члены общества непременно – будь то благодаря удаче, умению или усердию – будут извлекать из новых возможностей больше преимуществ, чем другие, и получать непропорциональную выгоду.
Рост относительного неравенства (измеряемого коэффициентом Джини или долей от общего дохода, получаемой определенным квантилем) не неизбежен математически, но тоже весьма вероятен. Согласно известной гипотезе экономиста Саймона Кузнеца, по мере того как страна богатеет, неравенство в ней должно расти, поскольку часть жителей оставляет сельское хозяйство и выбирает более высокооплачиваемые сферы деятельности, тогда как другие остаются в нищете деревенской жизни. Однако в конечном итоге прилив поднимает все лодки. С ростом процента населения, живущего в условиях современной экономики, неравенство должно начать снижаться, описывая траекторию, похожую на перевернутую букву U. Эта гипотетическая дуга изменения неравенства во времени называется кривой Кузнеца[296].
В предыдущей главе мы видели намеки на кривую Кузнеца в динамике неравенства среди разных стран. По мере того как промышленная революция набирала ход, европейские страны совершали Великий побег из всеобщей бедности, оставляя другие государства позади. Как пишет Дитон, «более совершенный мир – это мир, где есть место различиям; любой побег подразумевает неравенство»[297]. Затем, с началом глобализации и распространением знаний о том, как накапливается богатство, бедные страны стали сокращать свое отставание в ходе Великой конвергенции. Признаки снижения международного неравенства мы видим во взлете ВВП азиатских стран (рис. 8–2), в преображении кривой распределения мирового дохода из улитки сначала в двугорбого верблюда, а потом в одногорбого (рис. 8–3), в падении доли (рис. 8–4) и абсолютного числа (рис. 8–5) людей, живущих за чертой крайней бедности.
Чтобы убедиться, что рост этих показателей действительно свидетельствует о снижении неравенства – что бедные страны становятся богаче быстрее, чем богатые страны становятся еще богаче, – нам нужна единая мера, объединяющая в себе все факторы, то есть международный коэффициент Джини, который представляет каждую страну как отдельного члена общества. Рис. 9–1 показывает, что международный коэффициент Джини вырос с 0,16 в 1820 году, когда все страны были бедны, до 0,56 в 1970-м, когда некоторые из них разбогатели. Затем, как и предсказывал Кузнец, кривая вышла на плато, а с 1980-х годов начала снижение[298]. Однако международный коэффициент Джини несколько искажает реальность, поскольку не проводит различия между повышением качества жизни миллиарда китайцев и, скажем, четырех миллионов панамцев. На том же рис. 9–1 представлена кривая изменения международного коэффициента Джини, пересчитанного экономистом Бранко Милановичем с учетом численности населения каждой страны, которая более явно демонстрирует снижение неравенства в его реальном влиянии на человечество.

РИС. 9–1. Международное неравенство, 1820–2013
Источники: Международное неравенство: проект OECD ClioInfra, Moatsos et al. 2014; использованы данные о рыночных доходах домохозяйств в разных странах; Международное неравенство с учетом численности населения: Milanović 2012; данные за 2012 и 2013 годы предоставлены автору Бранко Милановичем
И все же международный коэффициент Джини предполагает, что все китайцы зарабатывают одинаково, что все американцы имеют средний по Америке доход и так далее, а значит, занижает уровень неравенства среди населения мира в целом. Всемирный коэффициент Джини, который учитывал бы доход каждого человека вне зависимости от страны его проживания, подсчитать сложнее, поскольку для этого потребовалось бы привести к общему знаменателю доходы жителей в корне различных стран, но на рис. 9–2 мы можем увидеть две его приблизительные оценки. Графики располагаются на разных уровнях, поскольку рассчитаны в долларах с учетом паритета покупательной способности за разные годы, но в их траекториях тоже можно разглядеть подобие кривой Кузнеца: после промышленной революции всемирное неравенство стабильно росло до 1980-х, а затем начало снижаться. Кривые международного и всемирного коэффициентов Джини, вопреки характерной для западных стран озабоченности по поводу растущего неравенства, говорят об одном: неравенство в мире снижается. Это, однако, очень косвенное свидетельство прогресса: в снижении неравенства нам важно то, что оно означает сокращение бедности.
Тот тип неравенства, который вызывает столько тревог в последнее время, характерен для развитых стран вроде США и Великобритании. Долговременная динамика неравенства в этих странах показана на рис. 9–3. До недавнего времени оба эти государства следовали по кривой Кузнеца. Неравенство росло после промышленной революции, а позже начало снижаться, сначала постепенно со второй половины XIX века, а затем стремительно в середине XX века. Однако примерно в 1980-х годах оно вдруг устремилось вверх – совсем не по сценарию Кузнеца. Давайте рассмотрим каждый из этих участков по отдельности.

РИС. 9–2. Всемирное неравенство, 1820–2011
Источник: Milanović 2016, fig. 3.1. Левая кривая построена на основе данных о располагаемом доходе на душу населения в международных долларах 1990 года; правая использует международные доллары 2005 года и соединяет полученные для домохозяйств данные о потреблении и располагаемом доходе на душу населения

РИС. 9–3. Неравенство в Великобритании и США, 1688–2013
Источник: Milanović 2016, fig. 2.1, располагаемый доход на душу населения
Подъем и спад неравенства в XIX веке отражает расширение экономики, о котором писал Кузнец: все больше людей постепенно оказывались заняты в городских, требующих специальных навыков и, соответственно, более высокооплачиваемых профессиях. Но обвал неравенства в XX веке, который также называют Великим уравниванием, или Великой компрессией, имеет более конкретные причины. Этот обвал наложился на две мировые войны, и это не простое совпадение: крупные войны обычно выравнивают распределение доходов[299]. Войны уничтожают капитал, производящий богатства, снижают стоимость активов кредиторов посредством инфляции и вынуждают богатых мириться с высокими налогами, из которых государство платит жалованье солдатам и работникам военных заводов, увеличивая тем самым спрос на рабочую силу в других секторах экономики.
Война – это только одна из катастроф, которые способствуют повышению равенства по логике Игоря и Бориса. Историк Вальтер Шайдель выделяет «четырех всадников уравнивания»: «война с массовой мобилизацией, трансформационная революция, распад государства и летальные пандемии»[300]. Эти четыре всадника не только уничтожают богатство (а при коммунистических революциях и тех, кто им владеет) – они снижают неравенство, еще и убивая большое количество рабочих, отчего повышается заработок тех, кто выжил. Шайдель приходит к выводу: «Всем нам, кто ратует за большее экономическое равенство, необходимо помнить о том, что, за редчайшими исключениями, оно достигалось только путем страданий. Будьте осторожны в своих желаниях»[301].
Предостережение Шайделя было верно почти на всем протяжении человеческой истории. Однако эпоха модерна предложила более безобидный способ снижения неравенства. Как мы уже убедились, рыночная экономика – лучшая в масштабах целой страны программа по борьбе с бедностью. Тем не менее она плохо приспособлена для помощи тем, кто не способен ничего дать взамен: молодым, пожилым, больным, невезучим и всем остальным, чьи навыки и труд недостаточно ценятся, чтобы обеспечить им достойную жизнь. (Иными словами, рыночная экономика поднимает средние показатели, но нас также волнуют дисперсия и диапазон.) По мере того как круг сопереживания в рамках страны начинает охватывать и бедных (в том числе потому, что люди хотят иметь страховку на тот случай, если обеднеют сами), все большая часть общих ресурсов, то есть бюджетных средств, выделяется на облегчение участи бедноты. Эти ресурсы должны откуда-то браться. Их источником может быть налог на прибыль предприятий, или налог с продаж, или фонд национального благосостояния, но в большинстве стран они в основном собираются в виде прогрессивного подоходного налога, который подразумевает, что обеспеченные граждане платят по более высокой ставке, поскольку для них эта потеря не так чувствительна. В конечном итоге мы имеем «перераспределение» доходов, хотя в данном случае это и не совсем точный термин, ведь цель тут – поднять нижний уровень, а не снизить верхний, пускай на практике он и вправду снижается.
Те, кто порицает современные капиталистические общества за бездушность по отношению к бедным, скорее всего, не осознают, как мало тратили на облегчение участи бедноты докапиталистические государства прошлого. Дело не только в том, что они располагали меньшими средствами в абсолютных числах; они тратили меньшую долю своего богатства. Куда меньшую долю: с Ренессанса и до начала XX века европейские страны в среднем выделяли на помощь бедным, образование и прочие социальные нужды 1,5 % своего ВВП. Во многих странах во многие периоды денег на это не выделялось вообще[302].
Одна из составляющих прогресса, которую иногда называют революцией равенства, заключается в том, что современные общества тратят значительную часть своего богатства на здравоохранение, образование, пенсии и помощь малоимущим[303]. Рис. 9–4 показывает, что социальные расходы начали резко расти в середине XX века (в США – с 1930-х годов, после провозглашения Рузвельтом Нового курса; в других развитых странах – с появлением государства всеобщего благосостояния после Второй мировой). Сейчас медианное значение социальных расходов западных стран составляет 22 % их ВВП[304].
Бурный рост расходов на социальные нужды изменил само предназначение государства: теперь оно заключалось не только в ведении войн и охране порядка, но и в заботе о населении[305]. Это произошло по нескольким причинам. Социальные расходы ограждают граждан от соблазнов коммунизма и фашизма. Некоторые преимущества вроде всеобщего образования и здравоохранения – это общественные блага, от которых выигрывают все, а не только те, кто ими непосредственно пользуется. Многие программы гарантируют гражданам защиту от рисков, от которых они не могут или не хотят застраховать себя сами. Помощь нуждающимся успокаивает совесть современного человека, которому невыносима мысль о том, что девочка со спичками замерзнет насмерть, что Жан Вальжан окажется в тюрьме за украденную для голодной сестры буханку хлеба или что семья Джоудов похоронит деда на обочине шоссе 66[306].