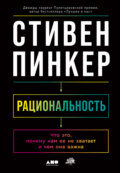Стивен Пинкер
Чистый лист: Природа человека. Кто и почему отказывается признавать ее сегодня
Вторая причина состоит в том, что 34 000 генов – это только 3 % человеческого генома. Остальное – ДНК, которая не кодирует белок и которую не учитывают, как «мусор». Но, как сказал недавно один биолог, «термин "мусорная ДНК"» лишь отражение нашего невежества»{195}. Размер, расположение и содержание некодирующей ДНК могут значительно влиять на активацию соседних с ней генов, кодирующих белки. Информация, записанная в миллиардах некодирующих участков генома – часть характеристики человека, и гораздо большая, чем та, что записана в 34 000 генов.
Итак, человеческий геном абсолютно точно способен построить сложный мозг, невзирая на нелепые заявления о том, как прекрасно, что человек почти так же прост, как круглый червь. Конечно, «удивительное разнообразие человеческого вида не запрограммировано в нашем генетическом коде», но нам не нужно считать гены, чтобы это понять, мы уже знаем это хотя бы из того факта, что ребенок, выросший в Японии, говорит по-японски, и тот же ребенок говорил бы по-английски, если бы вырос в Англии. Вот пример синдрома, который мы будем встречать повсюду в этой книге: научные открытия искажаются до неузнаваемости, чтобы вложить в них нравственный смысл, достичь которого было бы гораздо легче на другой почве.
* * *
Второе научное направление, обеспечивающее поддержку «чистому листу», – коннекционизм, теория, что мозг подобен искусственным нейронным сетям, смоделированным на компьютерах и обучающимся путем выделения статистических паттернов{196}.
Когнитивисты согласны, что элементарные процессы, составляющие набор инструкций для мозга – хранение и извлечение ассоциаций, определение последовательности элементов, фокусировка внимания, – встроены в него в виде цепей тесно связанных между собой нейронов (клеток мозга). Вопрос в том, может ли такая сеть самого общего вида, подвергнутая воздействию окружающей среды, объяснить человеческую психологию в целом, или геном создает различные сети для разных областей, таких как язык, зрение, мораль, страх, вожделение, интуитивная психология и т. д. Коннекционисты, разумеется, не верят в «чистый лист», но они верят в его ближайший эквивалент – неспециализированный механизм научения.
Что такое нейросеть? Коннекционисты называют так не реальные нейронные связи в мозгу, а вид компьютерной программы, построенной по аналогии с нейронами и их связями. В самом общем виде «нейроны» передают информацию, будучи более или менее активными. Уровень активности показывает наличие или отсутствие (или интенсивность или степень достоверности) какого-либо простого свойства окружающего мира. Это может быть цвет, линия, расположенная под определенным углом, буква алфавита или свойство животного, например наличие четырех ног.
Сеть нейронов может представлять различные понятия в зависимости от того, какие именно нейроны активны. Если это нейроны для «желтого», «летающего» и «поющего» – сеть думает о канарейке; если для «серебряного», «летающего», «рычащего» – сеть думает о самолете. Искусственные нейронные сети работают так: одни нейроны соединены с другими нейронами связями, имитирующими синапсы. Каждый нейрон считывает входные данные с других нейронов и в ответ меняет собственный уровень активности. Сеть учится, позволяя входным сигналам менять силу нейронных связей. Сила связей определяет вероятность того, будут ли нейроны ввода возбуждать или подавлять нейроны вывода.
В зависимости от того, за что отвечают нейроны, каким образом они связаны изначально и как связи меняются в процессе обучения, коннекционистская сеть может научиться вычислять разные вещи. Если каждый нейрон соединен со всеми прочими, сеть может выделить связи между отдельными свойствами и объединить их в класс объектов. Например, после предъявления описаний множества птиц она может предположить, что поющие объекты с перьями, вероятно, умеют летать, или что летающие объекты, покрытые перьями, поют, или что поющие летающие объекты обычно покрыты перьями. Если слой нейронов ввода связан со слоем нейронов вывода, сеть научится ассоциировать понятия, например: мягкие маленькие летающие объекты – это животные, а большие металлические летающие объекты – транспортные средства. Если слой вывода имеет обратную связь с предыдущими слоями, сеть может штамповать упорядоченные последовательности, например звуки, создающие слово.
Привлекательность нейронных сетей в том, что они автоматически распространяют усвоенные знания на новые похожие объекты. Если сеть научили, что тигры едят глазированные хлопья, она будет склонна к обобщению, что львы тоже едят глазированные хлопья, потому что «поедание глазированных хлопьев» ассоциировано не с «тиграми», а с более простыми характеристиками, вроде «рычания» и «усов», которые относятся и ко львам тоже. Коннекционистская школа, как и школа ассоцианизма Локка, Юма и Милля, доказывает, что в этих обобщениях состоит суть интеллекта. Если это так, то обученная – но в остальном обычная – нейронная сеть может объяснить разум.
Специалисты по компьютерным моделям часто применяют их к упрощенным задачам, чтобы доказать, что они могут работать в принципе. Вопрос тогда ставится так: можно ли масштабировать эти модели для решения более реалистичных задач или, как говорят скептики, исследователи «лезут на дерево, чтобы достать луну»? В этом и состоит проблема коннекционизма. Простые коннекционистские сети могут убедительно демонстрировать память и способность к обобщениям в простых задачах, таких как чтение списка слов или запоминание общих свойств животных. Но им не хватает мощности, чтобы воспроизвести реальные способности человеческого интеллекта, например понять смысл предложения или рассуждать о живых существах.
Люди не просто свободно ассоциируют похожие друг на друга вещи или вещи, которые часто появляются одновременно. Их разумы комбинаторны, они учитывают утверждения, что верно для чего и кто, что, кому, где, когда и зачем сделал. Это требует вычислительной конфигурации гораздо более сложной, чем стандартное переплетение нейронов в неспециализированных коннекционистских сетях. Конфигурации, оборудованной логическим аппаратом: правилами, переменными, утверждениями, состояниями цели и различными видами структур данных, организованных в системы высшего уровня. На эту проблему обращали внимание многие когнитивисты, в том числе Гари Маркус, Марвин Мински, Сеймур Паперт, Джерри Фодор, Зенон Пилишин, Джон Андерсон, Том Бивер и Роберт Хадли. Ее признают и исследователи нейронных сетей, не принадлежащие к коннекционистской школе, например Джон Хаммел, Локендрой Шастри и Пол Смоленски{197}. Я сам много писал об ограничениях коннекционизма и в своих исследованиях, и в популярной литературе и ниже подвожу итог моих собственных рассуждений{198}.
В книге «Как работает мозг» (How the Mind Works) в разделе под названием «Коннектоплазма» я описываю некоторые простые логические взаимосвязи и способности, лежащие в основе нашего понимания завершенной мысли (такой, как смысл предложения), которые сложно реализовать с помощью неспециализированных сетей{199}. Одна из них – различение видовых и индивидуальных свойств, таких как разница между утками вообще и конкретной уткой. Обе имеют общие черты (плавают, крякают, покрыты перьями и т. д.), и обе, таким образом, представлены одним и тем же набором активных элементов стандартной коннекционистской модели. Но люди знают, в чем разница.
Второй человеческий талант – композиционность: способность понимать новые сложные соображения, которые не являются суммой простых мыслей, но зависят от их отношений. Например, мысль, что кошки ловят мышей, нельзя понять, активируя по отдельности каждый элемент: «кошки», «мыши» и «ловить», потому что так мы легко придем к заключению, что это мыши ловят кошек.
Третий логический талант – квантификация, связывание переменных: например, разница между одурачиванием некоторых людей все время или всех людей некоторое время. Без вычислительного эквивалента для иксов и игреков, без понимания утверждений вида «для любого икс» коннекционистская модель не увидит разницы между приведенными высказываниями.
Четвертый – рекурсия: способность встроить одну мысль внутрь другой, так что мы можем понимать не только утверждение, что Элвис жив, но и мысль, что National Enquirer сообщил, что Элвис жив, или что некоторые люди верят сообщению журнала National Enquirer, что Элвис жив, или что это удивительно, но некоторые люди верят сообщению журнала National Enquirer, что Элвис жив, и т. д. Коннекционистские сети будут напластовывать эти утверждения и запутаются в подлежащих и сказуемых.
И последний ускользающий от коннекционистских моделей талант – наша способность оперировать категориями в противовес неопределенным размышлениям. Это помогает нам понять, что Боб Дилан – дедушка, хотя он и не выглядит как типичный дедушка, или что землеройка – не грызун, хотя и очень похожа на мышь. Не имея ничего, кроме супа из нейронов для фиксации свойств объекта, и без запаса правил, переменных и определений сеть оперирует стереотипами и сбивается с толку нетипичными примерами.
В книге «Слова и правила» (Words and Rules) я целенаправленно изучаю единственный феномен языка, который служит проверкой для способности неспециализированных ассоциативных сетей ухватывать самую его суть: составление новых комбинаций из слов или частей слов. Люди не просто запоминают отрывки речи, они создают нечто новое. Простой пример – прошедшее время. Услышав неологизм вроде «спамить» или «гуглить», человек не полезет в словарь, чтобы узнать форму прошедшего времени этих глаголов. Он инстинктивно знает, что правильно – «спамил» и «гуглил». Способность создавать новые комбинации появляется очень рано, в возрасте двух лет, когда англоязычные, например, дети порой неверно образуют прошедшее время, без надобности добавляя окончание -ed к неправильным глаголам, как в «We holded the baby rabbit» и «Horton heared a Who»{200}.
Очевидный способ объяснить этот талант – обратиться к двум видам вычислительных операций, осуществляемых в уме. Неправильные формы вроде held и heard хранятся в памяти и извлекаются из нее, подобно любому другому слову. Правильные формы, такие как walk-walked, создаются в уме с помощью грамматического правила о добавлении «-ed» к глаголу. Правило применяется, когда память не может помочь, например, когда слово незнакомо и форма его прошедшего времени не хранится в памяти, как в случае с неологизмами, или когда ребенок не может вспомнить неправильную форму, как в случае с «heard», а обозначить прошедшее время необходимо. Присоединение суффикса к глаголу – маленький пример важного человеческого таланта: умения комбинировать слова и фразы, чтобы создавать новые предложения и выражать ими новые мысли. Это одна из свежих идей когнитивной революции, о которых я писал в третьей главе, и один из логических вызовов коннекционизму, перечисленных мной в предшествующей дискуссии.
Коннекционисты использовали прошедшее время как опытный полигон, проверяя, смогут ли они повторить этот хрестоматийный пример человеческой креативности без использования правил и без разделения труда между системой памяти и системой грамматического комбинирования. Серии компьютерных моделей пытались образовывать формы прошедшего времени, используя простые сети сопоставления данных. Эти сети обычно связывают звуки в глаголе со звуками формы прошедшего времени: -am с -ammed, -ing с -ung и т. д. Затем модель может создавать новые формы по аналогии, вроде того как создается обобщение тигров со львами: модель, обученная на слове «crammed», может угадать «spammed», а на слове «folded» – способна сказать «holded».
Но, когда говорят люди, они не просто ассоциируют звуки со звуками, а делают гораздо большее, так что модели не могут за ними угнаться. Ошибки происходят из-за отсутствия механизмов, оперирующих логическими связями. Большинство моделей заходят в тупик, пытаясь справиться с новыми словами, которые не похожи на уже знакомые и не могут быть обобщены по аналогии. Встретившись с новым словом «frilg», например, они выдают не «frilged», как сделал бы человек, а странную смесь вроде «freezled». Дело в том, что у них нет алгоритма переменной (как «х» в алгебре или «глагол» в грамматике), приложимого к любому элементу категории, независимо от того, насколько знакомы его свойства. (Это механизм, позволяющий людям мыслить категориями.) Сети могут только ассоциировать отрывки звуков с другими отрывками, и, сталкиваясь с новым глаголом, который звучит непохоже ни на один из тех, на которых они обучались, сети выдают на-гора попурри из наиболее похожих звуков, какие только могут найти.
Модели также не могут различать глаголы-омонимы с одинаковым звучанием, но разными формами прошедшего времени, как в случае «ring the bell» – «rang the bell» или «ring the city» – «ringed the city». Стандартные модели учитывают только звуки и слепы к грамматической разнице глаголов, требующих различного спряжения. Ключевое отличие здесь между простыми корнями, такими как «ring» в смысле звонить (прошедшее время «rang») и сложными глаголами, произошедшими от существительных, такими как «ring» в смысле окружить (прошедшее время «ringed»). Чтобы уловить эту разницу, лингвистическая система должна быть оборудована структурами связанных данных (например, «глагол, произошедший от существительного»), а не просто кучей разрозненных элементов.
Еще одна проблема – в том, что коннекционистские сети внимательно отслеживают статистику ввода: сколько глаголов каждой звуковой модели они встречали. Это не позволяет им рассчитывать на озарения, с помощью которых маленькие дети открывают правило «-ed» и начинают делать ошибки вроде «heared» и «holded». Создатели коннекционистских сетей могут заставить их так ошибаться, только бомбардируя сети правильными глаголами (чтобы буквально выжечь в них «-ed»), что совершенно не похоже на живой опыт реальных детей. И наконец, масса свидетельств, предоставленных когнитивной нейронаукой, показывает, что грамматические комбинации (включая правильные глаголы) и словарный поиск (включая неправильные глаголы) выполняются отдельными системами мозга, а не единственной ассоциативной сетью.
Не то чтобы нейронные сети были не способны уловить смысл предложения или выполнить задачу грамматического спряжения. (Лучше бы они это умели, потому что сама идея, что размышление – это форма нейронного вычисления, требует, чтобы какой-то вид нейронной сети повторял все, что может делать разум.) Проблема лежит в убежденности, что можно сделать что угодно с самой общей моделью, если правильно ее обучать. Многие исследователи усиливали, модернизировали или объединяли сети в более сложные и мощные системы. Они посвящали разделы нейронной сети абстрактным понятиям вроде «глагольная группа» или «утверждение», встраивали дополнительные механизмы (такие как синхронизированные паттерны импульсов), чтобы связать их в подобие составной рекурсивной системы символов. Они устанавливали пакеты нейронов для слов, или для английских суффиксов, или для основных грамматических признаков. Они строили гибридные системы: с одной нейросетью – для извлечения неправильной формы глагола из памяти и другой – для соединения глагола с суффиксом{201}.
Система, собранная из усиленных подсетей, может оказаться вне всякой критики. Но в этом случае мы уже не говорим об обычной нейронной сети! Мы будем говорить о сложной системе, в которой изначально заложены механизмы для выполнения задач, подвластных людям. В детской сказке «Каша из топора» главный герой просит разрешения воспользоваться котлом, чтобы сварить кашу из топора. Но затем, чтобы сделать кашу вкуснее, он добавляет все новые и новые ингредиенты и готовит сытное наваристое блюдо за счет скупой хозяйки. Разработчики коннекционистских сетей, претендующие на создание интеллекта на базе обычных нейронных сетей, не требуя чего-то существенного, занимаются тем же самым. Элементы дизайна, которые делают нейросеть умной – за что отвечает каждый нейрон, как они связаны друг с другом, какие типы сетей объединены в систему следующего уровня и каким образом, – отражают врожденную организацию моделируемой части разума. Обычно исследователь подбирает их вручную, подобно изобретателю, перетряхивающему коробку с диодами и транзисторами, но в настоящем мозге они могли развиваться благодаря естественному отбору (и архитектура некоторых сетей действительно создается с помощью симуляции естественного отбора){202}. Единственная альтернатива состоит в том, что какие-то предыдущие эпизоды научения подготовили сеть к научению нынешнему, но, разумеется, нам придется в какой-то момент остановиться и признать некоторые врожденные характеристики самой первой сети, запустившей этот процесс.
Так что слухи, что нейронная сеть может заменить ментальную структуру статистическим научением, неверны. Простая, неспециализированная сеть не отвечает требованиям обычного человеческого мышления и речи; комплексные, специализированные сети – это каша из топора, в которой большая часть интересующей нас работы выполняется благодаря изначально заданным, врожденным настройкам нейронных связей внутри сети. Когда мы призна́ем это, моделирование нейронных сетей станет неотъемлемым дополнением теории сложной человеческой природы, а не будет пытаться подменить ее{203}. Оно заполнит пробелы между элементарными мыслительными операциями и психологической активностью мозга и послужит важным звеном в длинной цепи знаний между биологией и культурой.
* * *
Бо́льшую часть своей истории нейронауки сталкивались с обескураживающим фактом: мозг выглядит так, словно он изначально специализирован до мельчайшей детали. Если говорить о человеческом теле, то на нем мы видим следы жизненного опыта: оно может быть загорелым или бледным, плотным или рыхлым, иссушенным, пухлым или рельефным. Но подобных следов не найдешь в мозге. Очевидно, что-то здесь не так. Люди учатся, и учатся многому: осваивают язык, культуру, секреты производства, базы данных накопленных ими фактов. К тому же сотни триллионов связей в мозгу невозможно задать геномом в 750 мегабит. Мозг должен каким-то образом меняться в ответ на поступающую информацию, вопрос – каким?
И мы, наконец, начинаем это понимать. Изучение нейропластичности сейчас на пике. Почти каждую неделю появляются новые знания о том, как мозг формируется в утробе и настраивается вне ее. Десятилетиями никто не мог найти хоть что-то, что физически меняется в мозге, и неудивительно, что нынешние открытия в области пластичности нарушили равновесие в дихотомии врожденное/приобретенное. Некоторые считают, что пластичность поможет расширению человеческого потенциала и поставит силу мозга на службу революционным изменениям в воспитании детей, образовании, медицине и борьбе со старением. В некоторых научных манифестах провозглашается, будто пластичность доказывает, что мозг не может иметь сколько-нибудь значительной врожденной структуры{204}. В книге «Пересматривая наследственность» (Rethinking Innateness) Джеффри Элман и группа коннекционистов Западного полюса пишут, что предрасположенность по-разному думать о разных вещах (язык, люди, объекты и т. д.) может быть заложена в мозг только в виде предупреждающих сигнализаторов, которые обеспечивают организмам получение «огромного количества определенных входных данных еще до последовательного научения»{205}. В «конструктивистском манифесте» ученые-теоретики Стивен Кварц и Терренс Сейновски пишут, что «хотя кора больших полушарий и не "чистый лист", на ранних стадиях она по большей части не специализирована», и поэтому теории врожденных идей «выглядят неправдоподобными»{206}.
Бесспорно, исследования пластичности и развития нервной системы открывают человеческому знанию новые горизонты. Как линейная нить ДНК может управлять сборкой замысловатого объемного органа, позволяющего нам думать, чувствовать, учиться? Эта проблема поражает воображение и способна обеспечить нейроученых работой на десятилетия и заодно опровергнуть любые предположения о том, что мы достигли «конца наук».
Да и сами по себе открытия в этих областях удивительны и провокативны. Традиционно считалось, что кора головного мозга (наше «серое вещество») разделена на зоны с определенными функциями. Одни представляют конкретные части тела, другие отвечают за восприятие и обработку звуков и зрительных образов, третьи концентрируются на мышлении и языке. Но теперь мы знаем, что познание и практика меняют границы между зонами. (Это не значит, что ткани мозга буквально увеличиваются или сжимаются, но, как показывает сканирование или обследование коры головного мозга с помощью электродов, граница, на которой заканчивается одна способность и начинается другая, может сдвигаться.) Например, у скрипачей увеличена область коры, отвечающая за пальцы левой руки{207}. Когда человек или обезьяна выполняют простую задачу вроде различения форм или слежения за точкой в пространстве, нейроученые могут наблюдать, как части коры головного мозга или даже отдельные нейроны выполняют эту работу{208}.
Перераспределение ресурсов тканей мозга для выполнения новых задач особенно ярко заметно, когда человек лишается возможности пользоваться органом чувств или частью тела. Люди, слепые от рождения, пользуются зрительной корой, читая шрифт Брайля{209}. Глухие от рождения используют часть своей слуховой коры, когда говорят на языке жестов{210}. Области коры, отвечавшие ранее за ампутированную конечность, переориентируются на другую часть тела{211}. Маленькие дети после травм мозга, превративших бы взрослого человека в овощ, могут вырасти в общем и целом нормальными людьми – даже в случае полной потери левого полушария, которое в норме отвечает за язык и логику{212}. Все это предполагает, что функции восприятия и мышления не присваиваются тканям мозга раз и навсегда в зависимости от их расположения в черепе, но зависят от того, как сам мозг обрабатывает информацию.
Динамическое распределение тканей мозга можно наблюдать уже в процессе его развития в утробе. Компьютер первый раз включается только после его полной сборки, но мозг активен уже в процессе создания, и эта его активность может сборкой управлять. Эксперименты на кошках и других млекопитающих показали, что мозг плода формируется с заметными нарушениями, если химически подавлять его активность{213}. Участки коры развиваются по-разному в зависимости от сигналов, которые они получают. В своем превосходном эксперименте нейробиолог Мриганка Сур буквально перемонтировал нервные связи в мозге хорьков так, чтобы сигналы от глаз поступали в первичную слуховую зону, часть мозга, обычно получающую слуховые сигналы{214}. Затем он исследовал слуховую кору с помощью электродов и обнаружил, что теперь она работает подобно зрительной коре. Области новой зрительной коры располагались по схеме, и конкретные нейроны отвечали за линии и полосы определенной ориентации и за направление движения подобно нейронам обычной зрительной коры. Хорьки даже могли использовать свой перемонтированный мозг для движения в направлении объектов, зафиксированных только с помощью зрения. Значит, информация, поступающая в сенсорные зоны мозга, помогает их структурировать: зрительная информация заставляет слуховую кору работать как зрительная.
Что же значат эти открытия? Значат ли они, что мозг «может быть сформирован, вылеплен, смоделирован или отлит», как предполагает словарное определение слова «пластичный»? В оставшейся части главы я покажу, что ответ – нет, не значат{215}. Новые данные о том, как опыт меняет мозг, еще не доказывают, что научение – более мощный процесс, чем мы считали раньше, что мозг может быть значительно видоизменен получаемой информацией или что гены его не формируют. Более того, проявления пластичности мозга не настолько радикальны, как казалось вначале: предположительно, пластичные зоны коры все равно делают примерно то же самое, что они делали бы, если бы не были изменены. И новейшие открытия о развитии мозга также опровергли тезис о чрезвычайной его пластичности. Давайте рассмотрим все по порядку.
* * *
Тот факт, что мозг меняется, когда мы учимся, не стал великим открытием, изменившим представления о роли природы и воспитания или о возможностях человека, как некоторые заявляли. Даже Дмитрий Карамазов в XIX веке мог бы додуматься до этого в своей тюремной камере, рассуждая о том, что мышление исходит от дрожащих нервных хвостиков, а не от нематериальной души. Если мышление и действие – продукт физической активности мозга и если они подвержены влиянию опыта, то опыт и должен оставлять след в физической структуре мозга.
Так что для науки вопрос не в том, влияют ли опыт, познание и практика на мозг. Конечно, влияют, если мы хотя бы примерно движемся в верном направлении. Разве удивительно, что мозг людей, умеющих играть на скрипке, отличается от мозга тех, кто не умеет; и что мозг людей, пользующихся языком жестов или шрифтом Брайля, имеет отличия от мозга тех, кто говорит и пишет. Ваш мозг меняется, когда вы знакомитесь с новым человеком, когда узнаете слухи, когда смотрите церемонию вручения «Оскара», когда оттачиваете удар в гольфе, – короче, всякий раз, когда опыт оставляет след в сознании. Единственный вопрос – каким образом научение влияет на мозг? Хранятся ли воспоминания в белковых последовательностях, в новых нейронах и синапсах или отражаются в изменениях силы существующих связей? Когда кто-то осваивает новое умение, запечатлевается ли оно только в органах, отвечающих за учебные навыки (мозжечок и базальные ганглии) или перестраивает и кору? От чего зависит рост мастерства – от использования большего количества квадратных сантиметров коры или от использования большего количества синапсов на той же площади? Все это важные научные проблемы, но они ничего не говорят о том, могут ли люди учиться и как многому. Мы и так знали, что опытные скрипачи играют лучше новичков, иначе не засунули бы их головы в сканер. «Нейропластичность» – просто еще одно название для научения и развития, описываемых на новом уровне анализа.
Все это кажется очевидным, но в наши дни любая банальность о научении может быть облачена в «нейронные» одежды и выдана за научную сенсацию. Вот, к примеру, заголовок в New York Times: «Разговорная терапия, как утверждает психиатр, может изменить структуру мозга пациента»{216}. Хотелось бы надеяться, иначе этот психиатр просто обманывает своих клиентов. «Изменения в окружающей среде могут повлиять на развитие мозга ребенка», – сказал в интервью Boston Globe детский невролог Гарри Чугани. «Агрессия, жестокость или неадекватные поощрения отражаются на связях в мозге и на поведении ребенка»{217}. Ну да, если окружение вообще влияет на ребенка, оно влияет именно через изменение связей в мозге. Специальный выпуск журнала Educational Tecnology and Society («Образовательные технологии и общество») был посвящен «исследованию точки зрения, что научение происходит в мозге ученика, и тому, что образовательные методики и технологии должны создаваться и оцениваться с учетом воздействия на него». Приглашенный научный редактор (биолог) не сказал, существуют ли альтернативы вроде того, что научение происходит в каком-то другом органе, например в поджелудочной железе, или в нематериальной душе. Даже профессора нейронаук иногда заявляют об «открытиях», которые новы разве что для тех, кто верит в «духа в машине»: «Ученые обнаружили, что мозг способен изменять свои связи… У вас есть способность менять синаптические связи мозга»{218}. Это хорошо, иначе мы все страдали бы вечной амнезией.
Упомянутый нейроученый управляет компанией, которая «использует результаты исследований мозга и высокие технологии для создания продуктов, способствующих учебе и результативности», – одной из многих новых компаний с подобными притязаниями. «Человек обладает неограниченной креативностью, если его правильно воспитывать и мотивировать», – говорит консультант, который учит клиентов рисовать диаграммы, «отображающие их нейронные паттерны». «Чем старше вы становитесь, тем больше ассоциаций и связей должен создавать ваш мозг, – сказал довольный клиент, – потому что в вашем мозге хранится больше информации. Вам только нужно до нее добраться»{219}. Многие люди верят публичным заявлениям приверженцев нейронаук – неважно, насколько они убедительны и подкреплены фактами, – в духе того, что изменение привычного маршрута от работы до дома может предотвратить последствия старения{220}. А ведь есть еще и гении маркетинга, которых осенило, что кубики, мячики и другие игрушки «обеспечивают визуальную и тактильную стимуляцию» и «способствуют развитию и концентрации внимания». Это только малая часть движения за воспитание и образование, «основанное на функциях мозга», с которым мы встретимся снова в главе, посвященной детям{221}.
Такие компании эксплуатируют веру людей в «духа в машине», подразумевающую, что любая форма научения, воздействующая на мозг (предполагается, в противоположность научению, не влияющему на мозг), невероятно результативна. Но это неверно. Всякое познание влияет на мозг. То, что ученые узнают, как именно оно на него влияет, безусловно, вдохновляет, однако это не делает научение само по себе ни более глубоким, ни всеобъемлющим.
* * *
Корни второй ошибочной интерпретации нейропластичности можно найти в убеждении, что в разуме нет ничего такого, чего прежде не было в ощущениях. Самые известные открытия в области пластичности коры мозга касаются первичной сенсорной коры, участков серого вещества, которые первыми принимают сигналы от органов чувств (через таламус и другие подкорковые структуры). Авторы, использующие пластичность для подкрепления концепции «чистого листа», полагают, что, если первичная сенсорная кора пластична, остальной мозг должен быть еще более пластичен, потому что разум строится на сенсорном опыте. Например, по словам одного нейроученого, эксперимент Сура по изменению связей в мозге «ставит под сомнение то значение, которое недавно придавалось генам» и «возвращает людей к более высокой оценке роли окружающей среды в формировании нормального мозга»{222}.
Но если мозг – это сложный орган, состоящий из множества частей, для подобных выводов нет оснований. Первичная сенсорная кора – это не краеугольный камень разума, а устройство, одно из многих, предназначенное для обработки определенных видов сигналов на первых стадиях сенсорного анализа. Представим, что первичная сенсорная кора бесформенна, а структуру ей придают исключительно входные сигналы. Значило бы это, что весь мозг не имеет структуры и получает ее лишь из информации на входе? Вовсе нет. Начнем с того, что даже первичная сенсорная кора – это только одна из частей огромной сложной системы. Чтобы представить вещи в более широком контексте, ниже приведена современная диаграмма связей внутри зрительной системы приматов{223} (см. рис. ниже).