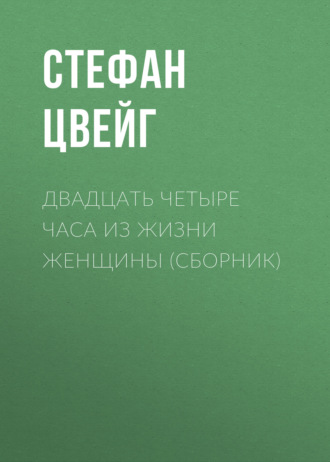
Стефан Цвейг
Двадцать четыре часа из жизни женщины (сборник)
Письмо незнакомки
Когда известный романист Р. после трехдневной экскурсии в горы возвратился ранним утром в Вену и, купив на вокзале газету, взглянул на число, он вдруг вспомнил, что сегодня день его рождения. Сорок первый – быстро сообразил он, и этот факт не доставил ему ни радости, ни боли. Бегло просмотрел он шелестящие страницы газеты и поехал в такси к себе на квартиру. Слуга доложил ему о приходивших в его отсутствие двух посетителях и о нескольких телефонных звонках и передал на подносе накопившуюся почту. Писатель лениво вскрыл пару конвертов, интересных для него благодаря их отправителям; письмо, написанное незнакомым почерком и показавшееся ему слишком объемистым, он отложил в сторону. В это время подали чай, Р. удобно уселся в кресле и пробежал еще раз газету и несколько печатных уведомлений; после этого он закурил сигару и взялся за отложенное письмо.
В нем было около тридцати страниц, торопливо исписанных неровным незнакомым женским почерком, – скорее рукопись, чем письмо. Он невольно еще раз ощупал конверт, не осталась ли там какая-нибудь сопроводительная записка. Но конверт оказался пустым, и на нем, так же как и на самом письме, не было ни адреса отправителя, ни подписи. «Странно», – подумал он и снова взял в руки письмо. «Тебе, никогда не знавшему меня», – гласило вверху обращение или заголовок. Он остановился в удивлении… К нему ли это относилось или к какому-то вымышленному человеку? В нем сразу проснулось любопытство. И он начал читать.
Мой ребенок вчера умер, – три дня и три ночи боролась я со смертью за маленькую, хрупкую жизнь; сорок часов грипп сотрясал лихорадкой его бедное горячее тельце, и я не отходила от его постели. Я клала холодные компрессы на его пылавший лобик, днем и ночью держала в своих руках его неспокойные маленькие ручки. На третий вечер я свалилась сама. Мои глаза не выдержали и закрылись помимо моей воли. Три или четыре часа проспала я, сидя на жестком стуле, а за это время смерть унесла его. Теперь он лежит, милый, бедный мальчик, в своей узкой детской кроватке, такой же, каким я его увидела после смерти; только глаза ему закрыли, его умные темные глазки, сложили ему ручки на белой рубашке, и четыре свечи горят высоко по четырем углам кроватки. Я боюсь взглянуть туда, боюсь тронуться с места, потому что, когда вспыхивают свечи, тени пробегают по его личику и закрытому рту, и тогда кажется, что его черты шевелятся, и я готова поверить, что он не умер, что он проснется вновь и своим звонким голоском скажет мне что-нибудь наивное и нежное. Но я знаю, он умер, я не хочу смотреть на него, чтобы не испытать еще раз надежды, не испытать еще раз разочарования. Я знаю, знаю, мой ребенок вчера умер, – теперь у меня только ты на всем свете, только ты, ничего не знающий обо мне, веселящийся в это время или забавляющий себя вещами и людьми. Только ты, никогда не знавший меня и которого я всегда любила.
Я взяла пятую свечу и поставила ее на стол, где я тебе пишу. Я не могу быть одна с моим мертвым ребенком, не выплакав свою душу, а с кем же мне говорить в этот ужасный час, как не с тобой, который для меня был всем и есть все! Я, может быть, не смогу говорить с тобой вполне ясно, может быть, ты не поймешь меня, – голова моя отупела, в висках стучит, и такая боль во всем теле. Я думаю, у меня жар, может быть, тоже грипп, который теперь крадется от двери к двери, и это было бы хорошо, потому что тогда я пошла бы за своим ребенком и не должна была бы ничего больше делать. Иногда у меня совершенно темнеет в глазах, я, может быть, не смогу даже дописать до конца это письмо, но я соберу все свои силы, чтобы хоть раз, только этот единственный раз, поговорить с тобой, мой любимый, никогда не узнававший меня.
С тобой одним хочу я говорить, в первый раз сказать тебе все; ты узнаешь всю мою жизнь, всегда принадлежавшую тебе, но о которой ты ничего не знал. Однако ты узнаешь мою тайну только тогда, когда тебе не придется отвечать мне, – если то, что сейчас жаром и холодом потрясает мое тело, есть действительно конец. Если мне суждено жить еще, я разорву это письмо и буду опять молчать, как молчала всегда. Но если ты держишь его в руках, то знай, что в нем мертвая рассказывает тебе свою жизнь, свою жизнь, которая была твоей от ее первого до ее последнего сознательного часа. Не пугайся моих слов, – мертвая ничего не хочет, ни любви, ни сострадания, ни утешения. Только одного хочу я от тебя: чтобы ты поверил всему, что поведает тебе моя стремящаяся к тебе тоска. Поверь мне, только об этом одном прошу я тебя: никто не станет лгать в час смерти единственного ребенка.
Я поведаю тебе всю мою жизнь, эту жизнь, поистине начавшуюся только в тот день, когда я тебя узнала. До того было что-то тусклое и смутное, куда мое воспоминание никогда не спускалось, какой-то погреб, полный запыленных, затканных паутиной вещей и людей, о которых мое сердце ничего больше не знает. Когда ты явился, мне было тринадцать лет, и я жила в том же доме, где ты теперь живешь, в том самом доме, где ты держишь в руках это письмо, этот последний вздох моей жизни; я жила на той же лестнице, как раз напротив дверей твоей квартиры. Ты, наверное, уже не помнишь нас, вдову скромного чиновника (она всегда ходила в трауре) и худенького подростка, – мы ведь всегда держались незаметно, словно придавленные нашим мещанским убожеством. Ты, может быть, никогда и не слыхал нашего имени, потому что у нас не было дощечки на входных дверях и никто никогда не приходил и не спрашивал нас. Так давно это было, пятнадцать, шестнадцать лет тому назад, нет, ты, наверное, не помнишь этого, мой любимый; но я – о, я жадно вспоминаю каждую мелочь, я помню, словно это было сегодня, тот день, тот час, когда я впервые услышала о тебе, в первый раз увидела тебя; и как могла бы я не помнить этого, если тогда для меня открылся мир. Позволь, любимый, рассказать тебе все с самого начала, и пусть тебя не утомит четверть часа послушать обо мне, не устававшей всю жизнь любить тебя.
Прежде чем ты переехал в наш дом, за твоей дверью жили отвратительные, злые, сварливые жильцы. Они были бедны и ненавидели бедность в своих соседях, в нас, потому что наша бедность не имела ничего общего с их грубостью опустившихся людей. Он был пьяницей и бил свою жену; мы часто просыпались среди ночи от грохота падающих стульев и разбитых тарелок; раз она выбежала, избитая в кровь, простоволосая, на лестницу; пьяный с криком преследовал ее, пока из других квартир не выскочили люди и не пригрозили ему полицией. Мать с самого начала избегала всякого общения с ними и запретила мне разговаривать с их детьми, которые мстили мне за это при всяком удобном случае. Встречая меня на улице, они кричали всякие гадости мне вслед, а однажды закидали меня такими твердыми снежками, что разбили мне лоб до крови. Весь дом единодушно и инстинктивно ненавидел этих людей, и когда вдруг что-то случилось, – кажется, мужа посадили за кражу в тюрьму, – и она со своей рухлядью должна была выехать, мы все облегченно вздохнули. Пару дней на воротах висело объявление о сдаче помещения, потом его сняли, и через домоуправителя быстро разнеслась весть, что какой-то писатель, одинокий, спокойный господин, снял квартиру. Тогда я в первый раз услышала твое имя.
Через два-три дня пришли маляры, штукатуры, столяры, обойщики, чтобы освободить квартиру от следов пребывания ее неопрятных обитателей. Они начали стучать молотками, чистить, мести, скрести, но мать только радовалась, говоря, что теперь настанет конец этим безобразиям в соседней квартире. Тебя самого мне, во время переезда, еще не пришлось увидеть, за всеми работами присматривал твой слуга, этот маленький степенный, седовласый камердинер, смотревший на всех сверху вниз и распоряжавшийся тихо и деловито. Он сильно импонировал нам всем, во-первых, потому, что камердинер у нас в предместье был совершенно новым явлением, а еще потому, что он был со всеми так необычайно вежлив, не становясь в то же время на равную ногу с простыми слугами и не вступая с ними в товарищеские разговоры.
Моей матери он с первого же дня кланялся почтительно, как даме, и даже ко мне, девчонке, относился приветливо и серьезно. Твое имя он произносил всегда с каким-то особенным уважением, почти с благоговением, и сразу видно было, что он, помимо службы, чрезвычайно привязан к тебе. И как я его за это любила, славного старого Иоганна, хотя и завидовала ему в том, что он всегда может быть возле тебя и служить тебе!
Я для того рассказываю тебе все это, любимый мой, все эти маленькие, почти смешные вещи, чтобы ты понял, каким образом ты смог с самого начала приобрести такую власть над робким, запуганным ребенком, каким я была. Еще раньше, чем ты вошел в мою жизнь, вокруг тебя уже создался какой-то нимб, ореол богатства, необычайности и тайны, – все мы в этом маленьком домике в предместье нетерпеливо ждали твоего приезда. Ты знаешь, как развито любопытство у людей, живущих мелкими, узкими интересами. И как поднялось во мне это любопытство к тебе, когда однажды, после обеда, я возвращалась из школы домой и перед домом стоял фургон с мебелью. Большую часть тяжелых вещей носильщики уже подняли наверх, теперь же переносили отдельные, более мелкие предметы. Я осталась стоять у двери, чтобы все это видеть, потому что все твои вещи казались мне чрезвычайно странными; я таких никогда не видела: тут были индийские божки, итальянские статуэтки, огромные, удивительно яркие картины и, наконец, появились книги в таком количестве и такие красивые, что я не верила своим глазам. Их сложили стопками у двери, там принял их слуга и заботливо обмахнул метелкой каждую из них. Охваченная любопытством, бродила я вокруг все растущей груды, слуга не отгонял меня, но и не поощрял; поэтому я не посмела прикоснуться ни к одной книге, хотя мне очень хотелось потрогать мягкую кожу переплетов. Я только робко рассматривала заголовки на корешках – тут были французские, английские книги, а некоторые на совершенно непонятных языках. Я думаю, я часами любовалась бы ими, но меня позвала мать.
И вот весь вечер я думала о тебе, еще не зная тебя. У меня самой был только десяток дешевых, переплетенных в истрепанную папку книг, которые я все очень любила и вечно перечитывала. Меня мучила мысль, каким должен быть человек, который прочел столько прекрасных книг, который знал все эти языки и был так богат и в то же время так образован. Все эти книги внушали мне какое-то необъяснимое благоговение. Я старалась мысленно создать твой портрет; ты был старым человеком, в очках и с длинной белой бородой, похожим на нашего учителя географии, только гораздо добрее, красивее и мягче. Не знаю почему, но уже тогда, когда ты представлялся мне стариком, я была уверена, что ты должен быть красив. Тогда, в ту ночь, еще не зная тебя, я в первый раз мечтала о тебе.
На следующий день ты переехал, но сколько я ни подглядывала, мне не удалось увидеть тебя, и это еще больше возбуждало мое любопытство. Наконец на третий день я увидела тебя; и как я была потрясена неожиданностью, когда ты оказался совсем другим, не имеющим ничего общего с образом «старого бога», созданным моим детским воображением. Я грезила о добродушном старце в очках, и вот явился ты – ты, совершенно такой же, как сегодня, ты, не меняющийся, мимо которого бесследно скользят годы! На тебе был прелестный светло-коричневый спортивный костюм, и ты своей удивительно легкой, юношеской походкой взбегал по лестнице, прыгая через две ступеньки. Шляпу ты держал в руке, и я была неописуемо поражена, увидев твое юное, живое лицо и светлые волосы. Я прямо испугалась, до того я была ошеломлена, увидев тебя таким юным, красивым, таким стройным и элегантным. И разве это не странно: в этот первый миг я сразу ясно ощутила то, что меня и всех других всегда так поражало в тебе, – что у тебя какая-то двойственная душа: ты – горячий, легкомысленный, преданный игре и приключениям юноша и в то же время в области своего искусства – неумолимо строгий, верный своему долгу, бесконечно начитанный и образованный человек. Я бессознательно почувствовала, что ты ведешь какую-то двойную жизнь, жизнь со светлой, обращенной к внешнему миру стороной, и другую – темную, которую знаешь только ты один; это глубочайшее раздвоение, эту тайну твоего бытия я, тринадцатилетняя, магически притягиваемая к тебе, ощутила с первого взгляда.
Понял ли ты теперь, любимый, каким чудом, какой заманчивой загадкой ты был для меня, бедного ребенка! Человек, перед которым преклонялись, потому что он писал книги, потому что он был знаменит в другом, огромном мире, вдруг оказался молодым, элегантным, юношески веселым, двадцатипятилетним человеком! Нужно ли мне еще говорить о том, что с этого дня в нашем доме, во всем моем бедном детском мирке меня ничто больше не интересовало, кроме тебя, что я со всей настойчивостью, со всем цепким упорством тринадцатилетней девочки думала только о твоей жизни, о твоем существовании. Я наблюдала за тобой, наблюдала за твоими привычками, наблюдала за приходившими к тебе людьми, и все это только увеличивало мое любопытство к тебе самому, вместо того чтобы его уменьшать, потому что вся двойственность твоего существа отражалась в разнородности этих посещений. Приходили молодые люди, твои товарищи, с которыми ты смеялся и бывал весел; приходили оборванные студенты; а то подъезжали в автомобилях дамы; раз я видела директора оперы, видела знаменитого дирижера, которым издали восхищалась в театре; бывали маленькие девочки, еще ходившие в коммерческую школу и спешившие смущенно юркнуть в дверь, – вообще много, очень много женщин. Я особенно над этим не задумывалась, даже тогда, когда однажды утром, отправляясь в школу, увидела уходившую от тебя под густой вуалью даму. Мне ведь было только тринадцать лет, и я не знала, что страстное любопытство, с которым я подкарауливала и подстерегала тебя, означало уже любовь. Но я, мой любимый, знаю совершенно точно день и час, когда я всей душой и навек отдалась тебе. Я гуляла со школьной подругой, и мы, болтая, стояли у ворот. В это время подъехал автомобиль, остановился, и в тот же миг ты порывисто и легко выпрыгнул из него и готов был уже войти в дом. Невольно мне захотелось открыть тебе дверь, я сделала шаг, и мы чуть не столкнулись. Ты взглянул на меня теплым, мягким, окутывающим взглядом, похожим на ласку, улыбнулся мне, да, именно ласково, улыбнулся мне и сказал тихим и почти дружеским голосом: «Большое спасибо, фрейлейн».
Вот и все, любимый; но с этой минуты, с тех пор как я почувствовала на себе этот мягкий, нежный взгляд, я была твоя. Позже, и даже скоро, я узнала, что ты даришь этот охватывающий, притягивающий к тебе, окутывающий и в то же время раздевающий взгляд, этот взгляд прирожденного соблазнителя каждой женщине, проходящей мимо тебя, каждой продавщице в лавке, каждой горничной, открывающей тебе дверь, – узнала, что этот взгляд не зависит у тебя от воли и склонности, но что твое ласковое отношение к женщинам делает твой взгляд совершенно бессознательно мягким и теплым, когда ты его обращаешь на них. Но я, тринадцатилетний ребенок, этого не подозревала, я была вся охвачена огнем. Я думала, что эта ласка только для меня, для меня одной, и в этот миг во мне проснулась женщина, полусозревшая женщина, и она навек стала твоей.
– Кто это? – спросила меня подруга.
Я не могла ей сразу ответить. Я не могла заставить себя произнести твое имя: в этот миг оно уже было для меня священным, оно стало моей тайной.
– Ах, какой-то господин, живущий здесь в доме, – неловко пробормотала я.
– Почему же ты так покраснела? – дразнила меня подруга.
И именно потому, что кто-то посмел издеваться над моей тайной, кровь еще горячее прилила к моим щекам. Я была смущена и ответила грубостью.
– Дура набитая! – сердито отозвалась я. Я готова была ее задушить. Но она расхохоталась еще громче и насмешливее, и я почувствовала, что слезы бессильного гнева наполняют мои глаза. Я оставила ее и убежала наверх.
С этого мгновения я полюбила тебя. Я знаю, женщины часто говорили тебе, избалованному, это слово. Но поверь мне, никто не любил тебя так рабски, с такой собачьей преданностью, с такой самоотверженностью, как то существо, которым я была и которым навсегда осталась для тебя, потому что ничто на земле не сравнится с незаметной любовью ребенка, такой безнадежной, всегда готовой к услугам, такой покорной, чуткой и страстной, какой никогда не бывает исполненная желаний и бессознательных требований любовь взрослой женщины. Только одинокие дети могут всецело затаить в себе свою страсть, другие выбалтывают свое чувство товарищам, треплют его, поверяя своим друзьям, – они много слышали и читали о любви и знают, что она неизбежный удел всех людей. Они играют ею, как игрушкой, хвастают ею, как мальчики своей первой папиросой. Но я – у меня не было никого, кому я могла довериться, никто не наставлял и не предостерегал меня, – я была неопытна и наивна; я бросилась в свою судьбу, как в пропасть. Все, что во мне росло и распускалось, я поверяла тебе, вызывая в мечтах твой образ; отец мой давно умер, от матери, с ее постоянной озабоченностью женщины, живущей на пенсию, я была далека, испорченные школьные подруги отталкивали меня, легкомысленно играя тем, что было для меня высшей страстью, – и я бросила к твоим ногам все, что обычно раздробляют и делят, все свои подавляемые и каждый раз заново нетерпеливо пробивающиеся чувства. Ты был для меня, – как объяснить тебе? Каждое сравнение в отдельности слишком мало, – ты был именно всем, всей моей жизнью. Все существовало лишь постольку, поскольку оно имело отношение к тебе, все в моем существовании лишь в том случае приобретало смысл, если было связано с тобой. Ты изменил всю мою жизнь. До тех пор равнодушная и посредственная ученица, я неожиданно стала первой, я читала тысячи книг, читала до глубокой ночи, потому что знала, как ты любишь книги; к удивлению матери, я вдруг начала с невероятным упорством упражняться в игре на рояле, так как предполагала, что ты любишь музыку. Я чистила и чинила свои платья, чтобы не попасться тебе на глаза неряшливо одетой, и предметом моего непрестанного огорчения была четырехугольная заплатка на моем старом школьном переднике, перекроенном из домашнего платья матери. Я боялась, что ты можешь заметить эту заплатку и станешь меня презирать. Поэтому я, взбегая по лестнице, всегда прижимала к этому месту сумку с книгами и все боялась, как бы ты все-таки не заметил этот изъян. Но как это было глупо: ты никогда, почти никогда больше на меня не смотрел.
И все же я весь день только и делала, что ждала тебя, подкарауливала тебя. На нашей двери был маленький медный глазок, сквозь круглый вырез которого можно было видеть твою дверь. Это отверстие – нет, нет, не смейся, любимый, даже теперь, даже теперь я не стыжусь тех часов! – было моим глазом в мир, там, в ледяной передней, боясь, как бы не рассердить мать, я просиживала в засаде, с книгой в руке, чуть не целыми днями, как натянутая и звучавшая при твоем приближении струна. Я всегда была полна тобой, всегда в напряжении и возбуждении; но тебе было так же трудно заметить это, как напряжение пружины часов, которые ты носишь в кармане и которые терпеливо считают и отмеряют во тьме твои дни и сопровождают тебя на твоем пути неслышными ударами сердца; ведь ты лишь раз за миллионы отстукиваемых секунд бросаешь на них свой беглый взгляд. Я знала о тебе все, знала все твои привычки, все твои галстуки, все твои костюмы, я знала и скоро научилась отличать отдельных твоих знакомых и разделяла их на таких, которые мне нравились, и таких, которые были мне неприятны. С тринадцати до шестнадцати лет я каждый час жила тобой. Ах, сколько глупостей я выделывала! Я целовала ручку двери, к которой прикасалась твоя рука, я стащила окурок сигары, который ты бросил, прежде чем войти к себе, и он был для меня священным, потому что к нему прикасались твои губы. Сотни раз, по вечерам, я под каким-нибудь предлогом выбегала на улицу, чтобы посмотреть, в каких комнатах горит у тебя свет, и таким образом лучше ощутить твое невидимое присутствие. А в те недели, когда ты уезжал, – у меня сердце останавливалось всегда от страха, когда я видела старого Иоганна, идущего вниз с твоим желтым чемоданом, – в эти недели моя жизнь замирала и теряла всякий смысл. Мрачная, скучающая, раздражительная, ходила я по дому и должна была следить за тем, чтобы мать по моим заплаканным глазам не отгадала моего отчаяния.
Я знаю, что все это смешные преувеличения чувств и детские выходки. Мне следовало бы стыдиться их, но я их не стыжусь, потому что никогда моя любовь к тебе не была чище и пламеннее, чем во время этих детских эксцессов. Целыми часами, целыми днями могла бы я рассказывать тебе, как я тогда жила тобой, почти не знавшим моего лица, потому что при встрече с тобой на лестнице я, боясь твоего обжигающего взгляда, опускала голову и мчалась мимо, как человек, бросающийся в воду, чтобы спастись от огня. Целыми днями могла бы я рассказывать тебе о тех давно забытых тобой годах, могла бы восстановить каждый день твоей жизни; но я не хочу нагонять на тебя тоску, не хочу мучить тебя. Я только хочу рассказать тебе о прекраснейшем переживании моего детства и прошу тебя не смеяться, что оно так ничтожно, потому что для меня, ребенка, оно означало необыкновенно много. Это было, вероятно, в один из воскресных дней, ты был в отъезде, и твой слуга втаскивал через открытую дверь квартиры только что выколоченные им тяжелые ковры. Старику было тяжело, и я, внезапно набравшись храбрости, подошла к нему и спросила: не могу ли я ему помочь? Он удивился, но не стал возражать, и таким образом я увидела – могу ли я высказать тебе, какое мной овладело благоговение! – твою квартиру, – твой мир, – письменный стол, за которым ты привык сидеть, и на нем цветы в голубой хрустальной вазе. Я увидела твои шкафы, твои картины, твои книги. Это был лишь воровской, украдкой брошенный взгляд в твою жизнь, потому что верный Иоганн, несомненно, не позволил бы мне много разглядывать, но я этим единственным взглядом впитала в себя всю атмосферу твоего гнезда и запаслась пищей для своих бесконечных грез о тебе наяву и во сне.
Это событие, этот быстрый миг был счастливейшим в моем детстве. Я хотела рассказать тебе о нем для того, чтобы ты, не знающий меня, начал наконец догадываться, как человеческая жизнь горела и сгорела для тебя. Об этом часе я хотела рассказать тебе и еще о другом, ужаснейшем часе, который, увы, последовал очень скоро за этим. Как я тебе уже говорила, я ради тебя забыла обо всем, не слушалась матери и ни на кого не обращала внимания. Я не заметила, что один пожилой господин, купец из Инсбрука, отдаленный родственник матери, начал часто бывать и засиживаться у нас, мне это было только приятно, потому что он иногда приглашал маму в театр и я могла оставаться одна, думать о тебе, подстерегать тебя, а это было моим высшим, моим единственным счастьем. И вот однажды мать с некоторой торжественностью позвала меня в комнату и сказала, что хочет серьезно поговорить со мной. Я побледнела и почувствовала, как у меня внезапно начало биться сердце. Не возникло ли у нее подозрение, не догадалась ли она о чем-нибудь? Моя первая мысль была о тебе, о тайне, связывавшей меня с миром. Но мать была сама смущена, она нежно поцеловала меня (чего обыкновенно никогда не делала) раз, другой, притянула меня к себе на кушетку и начала, запинаясь и смущаясь, рассказывать, что ее родственник-вдовец сделал ей предложение и что она, главным образом ради меня, решила его принять. Еще горячей забилось у меня сердце, – только одна мысль внутри отвечала на эти слова, мысль о тебе. «Но мы ведь останемся здесь?» – с трудом пробормотала я. «Нет, мы переедем в Инсбрук, там у Фердинанда чудная вилла». Больше я ничего не слышала. У меня потемнело в глазах. Потом я узнала, что была в обмороке. Я слышала, как мать тихонько рассказывала ожидавшему за дверью отчиму, что я вдруг отшатнулась и, всплеснув руками, рухнула на пол, как кусок свинца. Не могу тебе описать, что происходило в ближайшие дни, как я, слабое дитя, боролась против подавлявшей меня воли. Даже в эту минуту, когда я пишу, у меня при воспоминании об этом дрожит рука. Я не могла выдать свою настоящую тайну, поэтому мое сопротивление казалось просто строптивостью, каким-то злобным упрямством. Никто больше не заговаривал со мной, все совершалось за моей спиной. Для подготовки к переезду пользовались теми часами, когда я была в школе; возвращаясь домой, я всегда находила то ту, то иную вещь проданной или увезенной. На моих глазах разрушалась квартира, а с нею и моя жизнь; и однажды, вернувшись из школы, я увидела, что были упаковщики мебели и все унесли. В пустых комнатах стояли упакованные чемоданы и две складные кровати – для матери и для меня: нам предстояло провести здесь еще одну ночь, последнюю, а утром мы уезжали в Инсбрук.
В этот последний день я с удивительной ясностью поняла, что не смогу жить вдали от тебя. В тебе одном я видела свое спасение. Что я тогда думала и могла ли вообще в эти часы отчаяния разумно рассуждать, этого я никогда не буду знать, но вдруг – мать куда-то ушла – я вскочила, в платье, в котором только что была в школе, и пошла к тебе. Нет, я не шла сама, какая-то магнетическая сила тянула меня к твоей двери; я вся дрожала и с трудом передвигала одеревеневшие ноги. Я сама не представляла себе, чего я хотела – упасть к твоим ногам, просить тебя оставить меня у себя как служанку, как рабыню. Боюсь, что ты посмеешься над этим невинным экстазом пятнадцатилетней девочки; однако, любимый, ты не стал бы смеяться, если бы знал, как я стояла тогда на холодной лестничной площадке, скованная страхом и все-таки гонимая вперед какой-то неведомой силой, как я, словно отрывая дрожащую руку от тела, заставила ее подняться, и после коротких, но составлявших целую вечность мгновений борьбы нажала пальцем пуговку звонка. Я по сей день слышу резкий, дребезжащий звон и сменившую его тишину, когда сердце мое перестало биться и вся кровь во мне остановилась и прислушивалась, не идешь ли ты.
Но ты не пришел. Не пришел никто. Очевидно, тебя не было дома, а Иоганн тоже ушел за какими-нибудь покупками. И вот я побрела, унося в ушах мертвый отзвук звонка, назад в нашу разоренную, опустошенную квартиру и в изнеможении бросилась на какой-то тюк. От пройденных мною четырех шагов я устала больше, чем если бы несколько часов ходила по глубокому снегу. Но под этим утомлением тлела еще не угасшая решимость увидеть тебя, поговорить с тобой, прежде чем меня увезут. Я клянусь тебе, к этому не примешивалось никакой чувственной мысли, я была еще совершенно наивна, именно потому, что ни о чем больше не думала, только о тебе; я хотела только увидеть тебя, еще раз увидеть. Всю ночь, всю эту долгую, ужасную ночь я прождала тебя, любимый. Как только мать улеглась в постель и заснула, я выскользнула в переднюю и стала прислушиваться, не идешь ли ты домой. Я прождала всю ночь, всю эту ледяную январскую ночь. Я устала, все тело ныло, и нигде не было даже стула, чтобы присесть. Тогда я легла прямо на холодный пол, где сильно дуло от двери. В одном лишь тоненьком платье лежала я на холоде и даже не накрылась одеялом, я боялась, что, согревшись, усну и не услышу твоих шагов. Мне было больно, руки у меня дрожали; приходилось каждый раз вставать, так холодно было в этом ужасном, темном углу. Но я все ждала, ждала тебя, как свою судьбу.
Наконец – вероятно, было уже около двух или трех часов – я услышала, как отперли внизу ворота, и затем на лестнице раздались шаги. В тот же миг я перестала ощущать холод, меня обдало жаром, тихонько отворила я дверь, готовая броситься тебе навстречу, упасть к твоим ногам… Ах, я не знаю, чего бы я, глупое дитя, ни наделала тогда. Шаги приблизились, огонек свечи заколыхался по стенам. Дрожа, держалась я за рукоятку двери. Ты это или кто-нибудь другой?
Да, это был ты, любимый, но ты был не один. Я услышала заглушенный смех, шуршание шелкового платья и твой тихий голос, – ты шел к себе с какой-то дамой…
Как я могла пережить эту ночь, я не знаю. На следующее утро, в восемь часов, меня увезли в Инсбрук; у меня не было сил сопротивляться.
Мой ребенок вчера ночью умер, – теперь я буду опять одна, если мне действительно суждено жить еще. Завтра придут чужие, одетые в черное, бесцеремонные люди, принесут с собой гроб, положат в него моего ребенка, мое бедное, мое единственное дитя. Может быть, придут и друзья и принесут венки; но что значат цветы возле гроба? Люди станут утешать меня и говорить мне какие-то слова, слова, слова; но чем люди могут помочь мне? Я знаю, что все равно останусь опять одна. А ведь нет ничего более ужасного, чем одиночество среди людей. Я узнала это тогда, в те бесконечные два года, проведенные в Инсбруке, от шестнадцати до восемнадцати лет, когда я, словно пленница, словно отверженная, жила среди своей семьи. Отчим, человек очень спокойный, скупой на слова, прекрасно относился ко мне; мать, словно заглаживая какую-то неосознанную вину передо мной, шла навстречу всем моим желаниям; я была окружена молодыми людьми, но я отталкивала их всех с каким-то страстным упорством. Я не хотела быть счастливой, не хотела быть довольной – вдали от тебя. Я сама зарывала себя в какой-то мрачный мир самоистязания и одиночества. Новых платьев, которые мне покупали, я не надевала; я отказывалась ходить на концерты и в театр или принимать участие в веселых поездках за город. Я почти не выходила на улицу, – поверишь ли ты, любимый, что я едва ли знала десяток улиц в этом маленьком городке, где прожила целых два года? Я предавалась печали и хотела быть печальной, я опьяняла себя лишениями, но моим главным страданием было то, что я не видела тебя. И кроме того, я не хотела, чтобы меня отвлекали от моей страсти, хотела жить только тобой. Я сидела дома одна, целыми днями думала только о тебе, снова и снова перерывая в памяти тысячи маленьких воспоминаний о тебе, каждую встречу, каждое ожидание, – я, как в театре, разыгрывала в своем воображении все эти мелкие эпизоды. И оттого, что я несчетное число раз повторяла каждую секунду минувшего времени, все мое детство с такой яркостью запечатлелось в моей памяти и каждый миг тех минувших лет я чувствую так ясно и горячо, как если бы он еще вчера жил в моей крови.







