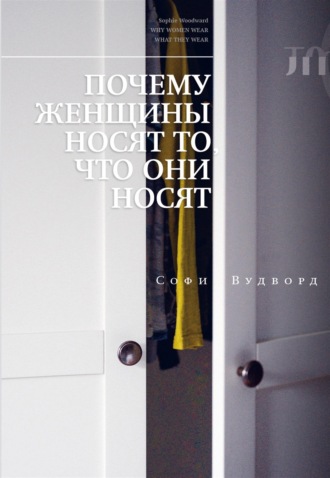
Софи Вудворд
Почему женщины носят то, что они носят
Социальная личность
Тезис об исторической обусловленности гендерно маркированного «я» подразумевает, что личность и самосознание – не чисто внутренние психологические категории, они возникают в определенных социальных контекстах. Хотя абстрактные представления о личности и самоощущении имеются в каждой культуре (Carrithers 1985), на деле «я» принимает специфическую форму лишь в историческом и социальном контексте. Признание важности этих социальных конструкций не означает, однако, что социальное первично по отношению к «я». Антропология, которая рассматривает индивидов как репрезентации неких категорий или ролей, предписываемых социальной структурой (Leach 1970; Levi-Strauss 1969), не оставляет места индивидуальному конструированию личности. Индивид сводится здесь к частному воплощению категорий культуры. Вместе с тем, говоря о женщинах и их сарториальном выборе, важно не бросаться в крайности; ошибочно полагать, что психологическая индивидуальность и субъектность полностью доминируют над культурными конструктами и категориями. Именно поэтому мое исследование сосредоточено на взаимоотношениях между индивидуумом и социальным контекстом, в рамках которого реляционное «я» конструируется с помощью выбора костюма. Социальные контексты имеют структурирующие, но не детерминирующие функции. Тарло (Tarlo 1996) демонстрирует это в этнографическом исследовании сарториальных дилемм в условиях жесткой кастовой дифференциации, принятой в сельских районах Индии. Исследовательница показывает, как преодолевается традиционная связь между кастой и костюмом. Иначе комбинируя предметы гардероба, люди отказываются от прежних идентичностей и обретают новые. Кастовый статус – не единственное, чем можно руководствоваться при подборе костюма; решение определяется также возрастом, семейным положением и происхождением (например, (не)принадлежностью к городской элите). Выбор одежды ограничен специфическими социальными ожиданиями, но и здесь имеются возможности для проявления индивидуальной агентности, и манипуляции с гардеробом этому способствуют.
Даже когда мы фокусируемся на личности и ее биографии, необходимо понимать, что мировоззрение людей во многом зависит от их социализации. Личность прочно встроена в культурный контекст, и социальное измерение актуализируется лишь в индивидуальных практиках. Бурдьё, излагая концепцию «габитуса» (Bourdieu 1977), описывает баланс между социальными конструкциями и индивидуумом как равновесие между структурой и агентностью. Габитус – это «система прочных перемещаемых диспозиций, которая, интегрируя прошлый опыт, каждый раз функционирует как матрица восприятий, оценок и действий» (Ibid.: 83).
Габитус тесно связан с социальным статусом, обусловленным разными факторами: образованием, происхождением, экономическим положением. Структурированные диспозиции опосредствуются семейным воспитанием. Таким образом, женщины могут иметь заранее заданные сарториальные и вкусовые предрасположенности; те, однако, могут меняться, и женщины способны создавать новые костюмы с помощью уже имеющегося у них гардероба или покупать новую одежду.
И предпочтения, и однажды привитый вкус обусловлены как индивидуальными, так и социальными факторами, взаимодействующими друг с другом в контексте практик социализации; то же происходит каждый раз, когда женщина одевается, поскольку в этом случае ей приходится увязывать нормативные идеальные образы с индивидуальными предпочтениями и реальными телесными формами. Облачаясь в костюм, женщина размышляет, соответствует ли он ее возрасту, статусу и роду занятий и подходит ли к конкретному случаю; эти соображения подкрепляются интуицией: надев костюм, женщина должна почувствовать себя собой. Одеться означает сконструировать себя с помощью социально приемлемых сарториальных практик. Представления об избранной роли и связанных с ней ожиданиях сопрягаются здесь с вещами, непосредственно касающимися тела; природа таких отношений не исчерпывается социальными связями. Стремясь соответствовать внешним нормам, женщина беспокоится о том, как выглядит ее тело, поскольку смотрит на себя чужими глазами. Выбор костюма превращается в процесс конструирования «социального индивида» (Mead 1982: 102). «Я» в этом случае открывается взглядам и конкретного, и обобщенного «другого»: одеваясь, женщины всегда занимают позицию наблюдателя, смотрящего на себя со стороны. Их «я» имеет социальную природу, поскольку конструируется с учетом чужого взгляда, а также ранее усвоенных и интериоризованных социальных ожиданий. Понятие интериоризации объясняет многие спонтанные решения, которые женщина принимает при выборе костюма.
И все же, как пишет Мид, не существует двух людей, одинаково конституирующих социальное, поскольку «я» не поддается познанию (будучи познанным, оно превращается в «ты»); здесь по-прежнему есть место для спонтанности и индивидуальности. Социальное – это уникальное сопряжение разных факторов, таких как класс, род занятий, местонахождение, пол и семейное положение. Социальное и индивидуальное пребывают в интегративных взаимоотношениях; никакой отдельной реальности, предшествующей социальным ожиданиям или ролям или отличной от них, попросту не существует. Социальные ожидания реализуют себя в индивидуальных действиях, поскольку повседневное поведение «есть подражание правилам приличия, отклик на образцовые формы поведения других, и исходное усвоение этих идеалов принадлежит скорее воображению, чем реальности» (Goffman 1974: 562)[3]. Стандарты, предписанные культурой, являются неотъемлемой частью повседневной реальности. Не существует подлинного «я», отдельного или предшествующего всему остальному, оно создается и осуществляется посредством уникальных действий в контексте культуры. И. Гофман описывает «я» как «изменяемую формулу, которая определяет поведение в ‹…› событиях» (Ibid.: 573)[4].
Что такое костюм
Учитывая, что «я» не тождественно ни социальному конструкту, ни уникальной внесоциальной индивидуальности, я в этой книге буду говорить главным образом о том, как женщины используют гардероб, чтобы менять себя и взаимодействовать с самими собой. Материальная природа вещей позволяет человеку конструировать себя определенным образом, и одежда служит женщинам отнюдь не только для «коммуникации» (Barthes 1985; Craik 1993) с другими людьми. Неверно также, что костюм является исключительно репрезентацией подлинного внутреннего «я». Подход, близкий моему взгляду на гардероб, применялся и к архитектуре; речь идет о парадоксе белой стены (Wigley 1995), которая часто воспринимается как нейтральная, позволяющая увидеть «реальную» конструкцию здания. М. Уигли (Ibid.) пишет, что Ле Корбюзье, задумав кардинально реформировать модернистскую архитектуру, уделял пристальное внимание окраске стен еще до того, как подступался к внутренней конструкции строения. Поверхность, видимый образ здесь мыслятся ключевыми атрибутами объекта, обусловливающими его трансформацию. То же происходит и с одеждой: тот или иной предмет гардероба не выражает внутреннее «я» владельца, но стимулирует его характерологические и поведенческие модификации; сшитый на заказ дорогой костюм пробуждает к жизни сильную и уверенную в себе женщину.
Итак, изменить себя с помощью костюма возможно. Однако костюм, в свою очередь, может и не произвести желаемого эффекта. Как отмечает Уигли (Ibid.), белая краска Ле Корбюзье отшелушивалась от стен, а вместе с ней исчезала иллюзия технологического модернизма. Подобное случается и с одеждой: если каблук туфли сломается, элегантный образ распадется. Одежда не просто выражает индивидуальность, которую человеку хочется обрести. Хорошо известно, что наша способность свободно выражать свою идентичность сдерживается социальными ограничениями (Bourdieu 1977). Однако сказанное выше выводит само понятие ограничения на другой уровень, бросая явный вызов постмодернистскому представлению, согласно которому «каждый может быть кем ему вздумается» (цит. по: Featherstone 1991: 82). Одежда всегда может предать своего хозяина – и вот уже туфли на высоких каблуках, которые должны были добавить женщине сил и уверенности, сбивают и натирают ей ноги.
Если костюм не выполняет возложенную на него задачу, и между ним и его владелицей возникает эстетический диссонанс, одежда начинает казаться чем-то внешним по отношению к ее обладательнице. В таких случаях женщина чувствует себя в костюме неловко. Объективация, в понимании Миллера, оказывается незавершенной. Однако если наряд подобран удачно, человек и костюм сливаются в единое целое, поскольку в этом случае, как пишет А. Гелл (Gell 1998), одежда становится продолжением «я». Отсутствие четкой границы между объектами и людьми просматривается в разных культурах. Дж. Лафонтен (La Fontaine 1985) приводит в пример четыре сообщества (в Гане, Уганде, Кении и Высокогорной Новой Гвинее), для которых характерно представление о людях как о «сложных созданиях… состоящих из материальных и нематериальных элементов» (Ibid.: 126). Например, в культуре гахуку-гама (Высокогорная Новая Гвинея) материальное (биологическое и вещественное) играет ключевую роль в конструировании человеческой личности. Кожа многое может рассказать о социальном статусе и характере человека. О том же пишет и Стратерн (Strathern 1979) в работе, посвященной обычаю мужчин меланезийского города Маунт-Хаген украшать тела для ритуальных церемоний. Стратерн подчеркивает, что их тщательно продуманный макияж не является маскировкой в нашем смысле; это не попытка скрыть свою идентичность, а, напротив, ее демонстрация: внутреннее здесь «выносится наружу» (Ibid.: 249). Свойства личности выставлены напоказ и покрывают тело; в обычных случаях, когда «я» не служит объектом для презентации, эти свойства скрыты «под кожей как потенциальное измерение личности» (Ibid.). Опираясь на пример, приведенный Стратерн, можно сказать, что в моей работе одежда рассматривается как средство, также позволяющее женщинам «вынести наружу» те или иные аспекты «я».
Этому способствует многослойность костюма (Young 2001), сочетание вещей в разных комбинациях. Подобно многослойности человеческой кожи, где лишь один слой – дерма – считается подлинным, одежда также многослойна. Розовый топ, который женщина надевает под рабочий костюм, может быть именно той вещью, которую она ассоциирует с собой-настоящей. Сочетая разные слои и комбинируя предметы гардероба, можно аккумулировать разные аспекты личности в одном наряде: например, предстать одновременно уверенной профессионалкой и сексуальной женщиной. Личность, репрезентирующая себя с помощью одежды, может быть внутренне противоречивой. Напье открыто противопоставляет христианские культуры пантеистическим, которым присущ «политетический подход к личности» (Napier 1985: 28). Множественность «я» не считается там чем-то деструктивным: маски ассоциируются с разными психологическими состояниями, гранями личности и духовными энергиями. На примере индуизма и традиции ношения масок на Бали Напье показывает, как маски связаны с амбивалентной природой человека, которая актуализируются посредством ритуалов. На Западе это читалось бы как намек на множественность репрезентаций личности, а не как попытка уловить принципиальную для нее амбивалентность. Наше обращение с гардеробом напоминает описанный способ взаимодействия с масками: природа одежды, предоставляющей нам возможность и выразить, и сокрыть себя, также амбивалентна. Будучи одновременно «прозрачными и темными» (Brilliant 1991: 113), маски маркируют двусмысленные отношения между поверхностным и глубинным, дают понять, что можно «обнаруживать, скрывая» (Warwick & Cavallero 1998: 133). Это позволяет предполагать, что разные детали костюма, сочетаясь друг с другом и наслаиваясь друг на друга определенным образом, актуализируют разные аспекты личности.
Материальная культура и антропология костюма
Актуализируя разные аспекты «я» с помощью костюма, женщина ориентируется среди прочего на физические свойства одежды: на то, как вещь контейнирует тело, обнажает или скрывает его, как она выглядит на свету и как ощущается на коже. Такие ощущения очень важно учитывать, если мы действительно хотим понять, как костюм конструирует идентичность; однако в исследованиях, посвященных моде и идентичности, эта тема часто находится на периферии авторского внимания. Интерес к материальным аспектам моды играет важную роль в истории костюма с момента включения ее в историю искусств в период Возрождения/раннего Нового времени (Taylor 2004). Однако до недавнего времени эта тема не служила предметом академических исследований. Л. Тейлор пишет о «непреодолимой пропасти» (Ibid.: 279) между традиционными академическими исследованиями и историей костюма; к экспертным навыкам кураторов музеев моды, в свою очередь, часто относятся с пренебрежением как к чисто эмпирическому, описательному знанию (Fine & Leopold 1993). Безусловно, до середины двадцатого века история костюма в основном укладывается в рамки истории стилей. Подобный скорее описательный, нежели аналитический подход по-прежнему отличает и более поздние исследования, важные для этой области знания (Boucher 1967; Laver 1995).
Между тем пренебрежительное отношение к эмпирическому документированию и описательным методам представляется непродуктивным: объектно-ориентированные исследования (Taylor 2002) очень полезны в тех случаях, когда их предметом оказываются носимые и живые материальные объекты, рассматриваемые в широком социальном и культурном контекстах (см., например, монографию Ли Саммерс, посвященную истории корсета: Summers 2001). Н. Таррант (Tarrant 1994) подчеркивает, что исследователю моды принципиально необходимы знания в области кроя и конструирования одежды как прививка от сугубо академического подхода, при котором изучаемый предмет «искажается и подгоняется под абстрактную теорию, не предполагающую наличия базовых представлений о свойствах ткани и конструкции костюма» (Ibid.: 12). К. Бруард (Breward 2003) также указывает на невнимание к материальным свойствам и конструкции костюма в исследованиях, посвященных системе моды; вместо этого авторы главным образом уделяют внимание тем или иным эфемерным смыслам, которые вменяются предметам гардероба.
Цель этой книги – взглянуть на одежду как на предмет материальной культуры, причем под материальностью здесь понимается прежде всего то, как одежда проживается и воплощается. Материальные отношения между телом и костюмом всегда следует рассматривать как специфические для того или иного социального контекста. Подобный подход характерен для антропологических исследований моды, таких, например, как сборник под редакцией А. Вайнер и Дж. Шнайдер (Weiner & Schneider 1989), где уделяется пристальное внимание свойствам текстиля и его способности служить маркером социальных отношений и идентичностей, воспроизводить их, обнаруживать или маскировать. Авторы вошедших в сборник статей стараются понять, как особенности текстиля – например, его проницаемость и близость к человеческому телу – соотносятся с теми или иными категориями культуры и идентичности. Особое внимание уделяется магическим свойствам одежды: так, в Индонезии духовные ценности непосредственно вплетаются в ткань (Hoskins 1989), а в Индии люди преображаются, облачаясь в одежду, якобы наделенную магическими свойствами (Bayly 1986). Б. Кон (Cohn 1989) рассказывает о предметах одежды, в буквальном смысле воплощающих собой власть и влияние. В работах, посвященных западной моде, магический потенциал костюма не исследуется, а между тем подобные верования, связанные с одеждой, существуют и здесь. Надеваемый на интервью счастливый костюм, в котором женщина чувствует себя успешной и уверенной, топ, всегда поднимающий настроение, или худи, в котором уютно и безопасно, – все это одежда, наделяемая, в определенном смысле, магическими свойствами. Ткань, стиль или цвет одежды могут ассоциироваться с разными эмоциональными состояниями. К. Бейли (Bayly 1986) замечает, что в индийской культуре некоторые цвета стимулируют интенсивные эмоциональные состояния; в Британии красный цвет наделяется эротическими коннотациями, и соответствующая одежда позволяет ее владельцу чувствовать себя более сексуальным.
Материалы, представленные в сборнике, свидетельствуют, что именно физические свойства одежды вызывают трансформации, переживаемые ее владельцами. Это может быть цвет или текстура вещи; в более поздних исследованиях речь идет даже о волокнах ткани (Colchester 2003; Kuechler & Miller 2005; Kuechler & Were 2004). Будучи пористым и плетеным, текстиль, как показывает Бейли (Bayly 1986) на индийском материале, может, так или иначе, хранить отпечаток предыдущего владельца, в зависимости от грубости ткани и размера узлов. С течением времени и в процессе носки вещи вступают во взаимодействие со своими хозяевами и ассоциируются с конкретным периодом их жизни; часто эта связь настолько прочна, что люди могут рассказать историю своей жизни языком одежды, которую они носили. С. Бин (Bean 1989) исследует этот феномен, рассматривая биографию и политическую эволюцию Ганди как историю его гардероба. Ганди сознательно выбирал разные костюмы, в зависимости от политического контекста, однако нечто подобное делают и обычные люди в повседневной жизни. Поскольку человек обычно носит одну и ту же одежду в течение некоторого периода времени, последняя определяет его в этот период; при этом одежда стареет, она имеет свой срок жизни и свою культурную биографию (Hendrickson 1995; Renne 1995).
Одежда может состариться и умереть раньше, чем мы готовы с ней расстаться; часто именно тогда, когда одежда изнашивается, мы больше всего привязываемся к ней, поскольку она аккумулирует в себе воплощенную материальную историю нашей жизни. Со временем костюм и его владелец оказываются связаны тесными узами; вещь несет в себе «историю наших взаимоотношений, превращая саму ткань в осязаемый архив» (Weiner 1989: 52). Вещи, которые передаются от матерей к дочерям, хранятся как почитаемые семейные реликвии; если дочь решает носить их сама, они создают особую связь между ней и матерью. Одежда приобретает смыслы именно в процессе носки, поскольку телесность принципиально значима и для конструирования внешнего образа, и для обретения «сенсорного опыта ношения» костюма (Barnes & Eicher 1993: 3). М. Банерджи и Д. Миллер (Banerjee & Miller 2003) именно так описывают сари – не как статичный костюм, а как живой, противоречивый, сенсорно значимый предмет гардероба. Это исследование демонстрирует возможности осмысления материальных предпочтений одежды с учетом ее эмпирических, тактильных свойств.
Упомянутые антропологические исследования демонстрируют, что одежда всегда пребывает в некотором социальном, экономическом и политическом контексте и благодаря своим материальным свойствам выражает разные социальные категории, такие как пол (Barnes & Eicher 1993) или этническая принадлежность (Femenias 2004). Однако когда речь заходит о современной Британии, костюм часто рассматривают исключительно в контексте моды, а не в более широком социальном или культурном контексте. Даже в сборнике Вайнер и Шнайдер западная массовая мода прямо противопоставляется традиционному народному костюму (Weiner & Schneider 1989: 16). Последний наделяется глубиной и ценностью, западный же трактуется как нечто поверхностное и сиюминутное. Создается впечатление, что в контексте западной моды одежда утрачивает свою социальную и материальную природу. Авторы подобных работ (см., например: Barnes & Eicher 1993) фокусируются на гендерных и социальных аспектах взаимоотношений производства и ткачества; эти аспекты действительно важны, однако это не значит, что взаимодействия с одеждой как объектом потребления по умолчанию эфемерны и поверхностны. В сборнике Вайнер и Шнайдер, как и во многих других исследованиях, игнорируется тот факт, что одежда в индустриальном обществе также поддается описанию с антропологической точки зрения.
Как демонстрирует историческое исследование Р. Сеннетта (Sennett 1971), мода, одежда и внешний облик могут интерпретироваться не только как самореферентная система; их следует также рассматривать в более широком контексте, учитывающем социально обусловленные изменения представлений о внешности и самости. Подобный глубокий контекстуальный анализ характерен для большей части работ, посвященных исследованию чужих культур. В статьях и монографиях, посвященных проблемам гендера и сексуальности в Замбии (Hansen 2004a; Hansen 2004b) или культурной биографии traje, то есть костюма майя в Гватемале (Hendrickson 1995), одежда описывается как феномен, воплощающий и конституирующий культурные категории и социальные структуры. При изучении истории британского костюма также принципиально важно учитывать его культурный контекст и материальную природу. Антропологи преимущественно исследуют моду того или иного сообщества или субкультуры. Невзирая на ценность подобной оптики, она не учитывает те базовые взаимоотношения, которые связывают большую часть женщин с гардеробом и которым скорее свойственны амбивалентность и тревога, нежели стабильность и прочность. Антропологи больше заняты проблемами транснациональной циркуляции предметов модного производства, например глобализацией азиатского костюма (Niessen et al. 2003) или распространением африканской моды в Дакаре, Найроби и Лос-Анджелесе (Rabine 2002). При исследовании небольших сообществ этот контекст также учитывается, поскольку даже локальные идентичности рефлексируются и трансформируются. Мое небольшое исследование учитывает более широкие тенденции системы моды, которая, с одной стороны, эфемерна, изменчива и подвержена влиянию трендов, а с другой – утверждает те или иные сарториальные образы как приемлемые.
Мода и амбивалентность идентичности
В этой книге я использую ситуативную и контекстуальную оптику антропологии и подход к одежде как к феномену материальной культуры для изучения гардеробов женщин, живущих в Лондоне и Ноттингеме. В рамках контекстуального исследования мода рассматривается как один из многих факторов, который женщины учитывают, решая, что им надеть. Взгляд на одежду как на материальный феномен необычен для работ, посвященных западному костюму. Разнообразные модные медиа имеют по преимуществу визуальную природу: это дефиле, журналы, фотографии знаменитостей, телевидение и кино. Неудивительно поэтому, что большая часть исследователей концентрируется именно на модных образах. Это наследие бартовского (Barthes 1985) анализа системы моды как комплексной системы смыслов, определяющей значения предметов гардероба. По мысли Р. Барта, мода создается журналами: настоящей одежды, предшествующей модному дискурсу, не существует. Язык журналов конструирует образы и смыслы, вуалирующие объект (Ibid.: xi): реальность моды – это реальность образа, созданного прессой. Отдавая первенство визуальному восприятию, Барт пытается осмыслить систему моды исключительно как язык, обладающий специфической грамматикой. Его последователи, однако, в большинстве случаев склонялись к эмпирическим исследованиям и методам семиотического декодирования; один из излюбленных приемов исследования моды – текстуальный анализ содержимого модных изданий (Buckley & Gundle 2000; Evans 2000; Evans & Thornton 1989; Winship 1987).
Изобилие модных журналов и зрелищность модных показов подтверждают важность исследования модного образа. Гораздо больше проблем, однако, создает культурологическая традиция рассматривать предметы одежды как форму коммуникации (Lurie 1992), где мода интерпретируется как язык, а одежда – как слова, которые человек использует в процессе самоописания. Сведение моды к ее визуальным аспектам игнорирует важнейшие тактильные, сенсорные свойства костюма как вещи, предназначенной для ношения. Культуральные исследования уделяют преимущественное внимание поп-культуре и истории повседневности; неудивительно, что взгляд на костюм как на воплощение творческого гения дизайнера сегодня не популярен (Breward 2000). Однако отказываться от исследования конкретных предметов гардероба – значит выплескивать вместе с водой ребенка, поскольку в этом случае изучение материальной природы вещи полностью подменяется текстуальным анализом.
Задача текстуального анализа моды – понять, как, говоря языком Барта, эти образы означивают, то есть как они производят смысл. Одна из важных составляющих подхода Барта – внимание к взаимоотношениям образов. Это помогает понять, как складывается норма, поскольку разные воплощения модного идеала порождают смыслы именно в процессе взаимодействия. По мнению Б. Гюнтера и М. Вайкс, женские журналы последовательно и систематически конструируют доминирующую концепцию женственности, непосредственно связанную с телесным образом (Gunter & Wykes 2005: 95). В отличие от большинства исследователей, они отмечают связь между диктуемым прессой идеалом и отношением женщин к собственному телу. Презентация «модного идеала» (Thesander 1997) важна как означивающий контекст, который, в свою очередь, влияет на то, как женщины видят свое отражение в зеркале: оно помещается в более широкий контекст идеального тела, созданный модными журналами.
В этом контексте идеальное тело совпадает с хорошо одетым телом. Правильно одеваться, однако, не значит конформистски следовать моде. Это лишь самая простая и банальная репрезентация индивидуального модного образа. Сегодня, когда модными считаются самые разные вещи, соответствие моде зачастую предполагает способность собрать себе наряд, прибегая к компилятивной эстетике, допускающей возможность сочетания самых разных вещей: содержимого благотворительных магазинов, товаров массового производства и дизайнерских моделей. Таким образом, бремя ответственности за создание правильного модного образа ложится на индивидуума.
Все это осуществляется в контексте моды, которая далека от системности и в том, что касается презентации стилей. Традиционные представления об осуществляемой дважды в год смене гомогенных трендов не отвечают реальности просачивающейся системы моды. Исследователи больше не рассматривают моду как абстрактную систему или механизм, в котором женщинам отводится роль винтиков согласно концепции, впервые предложенной Зиммелем (Simmel 1971) и Т. Вебленом (Veblen 1899). С развитием культуральных исследований и подходов, уделяющих преимущественное внимание конструированию и трансформации смыслов, подобные иерархические гомогенные модели начали ставиться под сомнение. А. МакРобби (McRobbie 1994) и Д. Хебдидж (Hebdige 1987) в работах, посвященных субкультурным сарториальным стилям, отмечают, что основой для творческих прорывов и новаций может служить и уличная, и высокая мода. Эти тенденции, о которых пишет МакРобби, сегодня еще заметнее. Многочисленные производители модного знания – журналы, телевидение, дизайнеры и знаменитости (Entwistle 2000; White & Griffiths 2000) – в условиях, предполагающих присутствие моды во всех сферах современной жизни, возлагают на индивидуумов бремя сарториальной осознанности; и в то же время у этих претензий нет никаких устойчивых и надежных оснований.
В такой ситуации представляется уместным переходить от широкого системного анализа к исследованию внутренних дилемм индивидуума. Зиммель (Simmel 1971) отмечал, что мода предполагает противоречие между индивидуальностью и конформизмом. Он полагал, что это напряжение и лежит в основе системы моды. Уилсон (Wilson 1985), однако, переводит рассматриваемый вопрос из абстрактной плоскости в пространство внутренних дилемм и индивидуальных противоречий. Ситуация, в которой оказывается личность, взаимодействуя с модой, двусмысленна: мода предоставляет индивидууму возможности связи с его социальной группой и одновременно – средства для выражения индивидуальности. «Я» здесь и акцентируется, и нивелируется. Когда женщины выбирают, что надеть, они стараются создать индивидуальный образ, соответствующий тем или иным социальным обстоятельствам и ролям, но при этом пытаются выглядеть модно. Попытка обрести равновесие в этих подчас противоречивых обстоятельствах провоцирует беспокойство (Clarke & Miller 2002).
Беспокойство, порождаемое модой, – лишь один из факторов, который женщины должны учитывать при выборе одежды: им также приходится думать о выборе правильного костюма для своего возраста или для новой социальной ситуации. Причастность миру моды предполагает наличие определенного знания, «многознайство» (Gregson et al. 2001: 12), которое позволяет женщинам экспериментировать с новыми образами и стилями. Эти переживания и знания сложно устроены и многослойны, поскольку облачение в одежду подразумевает владение фундаментальными культурными компетенциями (Craik 1993; Entwistle 2001; Goffman 1971a; Mauss 1973). Считается, что женщины должны надлежащим образом одеваться в любых обстоятельствах: дома, на работе или когда ведут детей в школу. Таким образом, образы модного тела, представленные в журналах, всегда соотносятся с более широкими культурными ожиданиями и нормами, диктующими, например, что приемлемо носить пожилым женщинам или что рекомендуется надеть на первое свидание.
Процесс облачения в одежду требует осмысления множества ролей, которые отводятся женщинам, и взаимодействия с упомянутыми выше дилеммами и беспокойством. Поэтому я посвятила свою книгу изучению того, как женщины конструируют «я», учитывая предоставленные им разнообразные и часто противоречивые возможности. Среди современных культуральных исследований моды много работ о стилевой специфике субкультур. Авторы рассматривают конкретное сообщество и анализируют факторы, маркирующие принадлежность к нему. Подобные исследования сегодня переживают период бурного развития (Cole 2000; Johnson & Lennon 1999; Brydon & Niessen 1998). Все они рассматривают сквозь призму костюма одну конкретную группу людей или описывают некую основополагающую социальную идентичность, к которой, как предполагается, впоследствии присоединяются другие идентичности. Например, У. Кинан (Keenan 2001) анализирует подобным образом идентичность школьницы-мусульманки или балерины. Такой подход, без сомнения, имеет право на существование. Я, однако, собираюсь действовать иначе. Задавшись целью подробно исследовать, почему женщины носят то, что они носят, я учитываю все разнообразие идентичностей женщины в ее прошлом, настоящем и желанном будущем и пытаюсь понять, как эти идентичности актуализируются в тот момент, когда женщина открывает шкаф, чтобы подобрать себе костюм.


