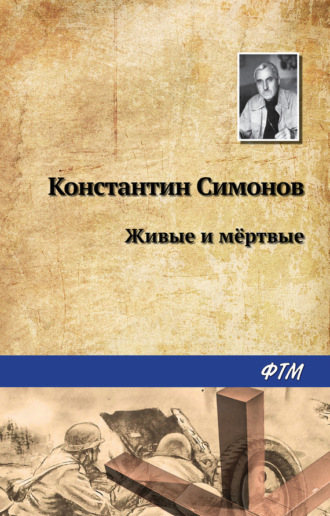
Константин Симонов
Живые и мертвые
Глава первая
Первый день войны застал семью Синцовых врасплох, как и миллионы других семей. Казалось бы, все давно ждали войны, и все-таки в последнюю минуту она обрушилась как снег на голову; очевидно, вполне приготовить себя заранее к такому огромному несчастью вообще невозможно.
О том, что началась война, Синцов и Маша узнали в Симферополе, на жарком привокзальном пятачке. Они только что сошли с поезда и стояли возле старого открытого «линкольна», ожидая попутчиков, чтобы в складчину доехать до военного санатория в Гурзуфе.
Оборвав их разговор с шофером о том, есть ли на рынке фрукты и помидоры, радио хрипло на всю площадь сказало, что началась война, и жизнь сразу разделилась на две несоединимые части: на ту, что была минуту назад, до войны, и на ту, что была теперь.
Синцов и Маша донесли чемоданы до ближайшей скамейки. Маша села, уронила голову на руки и, не шевелясь, сидела как бесчувственная, а Синцов, даже не спрашивая ее ни о чем, пошел к военному коменданту брать места на первый же отходящий поезд. Теперь им предстояло сделать весь обратный путь из Симферополя в Гродно, где Синцов уже полтора года служил секретарем редакции армейской газеты.
К тому, что война была несчастьем вообще, в их семье прибавлялось еще свое, особенное несчастье: политрук Синцов с женой были за тысячу верст от войны, здесь, в Симферополе, а их годовалая дочь осталась там, в Гродно, рядом с войной. Она была там, они тут, и никакая сила не могла перенести их к ней раньше чем через четверо суток.
Стоя в очереди к военному коменданту, Синцов пробовал представить себе, что сейчас творится в Гродно. «Слишком близко, слишком близко к границе, и авиация, самое главное – авиация… Правда, из таких мест детей сразу же могут эвакуировать…» Он зацепился за эту мысль, ему казалось, что она может успокоить Машу.
Он вернулся к Маше, чтобы сказать, что все в порядке: в двенадцать ночи они выедут обратно. Она подняла голову и посмотрела на него как на чужого.
– Что в порядке?
– Я говорю, что с билетами все в порядке, – повторил Синцов.
– Хорошо, – равнодушно сказала Маша и опять опустила голову на руки.
Она не могла простить себе, что уехала от дочери. Она сделала это после долгих уговоров матери, специально приехавшей к ним в Гродно, чтобы дать возможность Маше и Синцову вместе съездить в санаторий. Синцов тоже уговаривал Машу ехать и даже обиделся, когда она в день отъезда подняла на него глаза и спросила: «А может, все-таки не поедем?» Не послушайся она их обоих тогда, сейчас она была бы в Гродно. Мысль быть там сейчас не пугала ее, пугало, что ее там нет. В ней жило такое чувство вины перед оставленным в Гродно ребенком, что она почти не думала о муже.
Со свойственной ей прямотой она сама вдруг сказала ему об этом.
– А что обо мне думать? – сказал Синцов. – И вообще все будет в порядке.
Маша терпеть не могла, когда он говорил так: вдруг ни к селу ни к городу начинал бессмысленно успокаивать ее в том, в чем успокоить было нельзя.
– Брось болтать! – сказала она. – Ну что будет в порядке? Что ты знаешь? – У нее даже губы задрожали от злости. – Я не имела права уехать! Понимаешь: не имела права! – повторила она, крепко сжатым кулаком больно ударяя себя по коленке.
Когда они сели в поезд, она замолчала и больше не упрекала себя, а на все вопросы Синцова отвечала только «да» и «нет». Вообще всю дорогу, пока они ехали до Москвы, Маша жила как-то механически: пила чай, молча глядела в окно, потом ложилась на свою верхнюю полку и часами лежала, отвернувшись к стене.
Вокруг говорили только об одном – о войне, а Маша словно и не слышала этого. В ней совершалась большая и тяжелая внутренняя работа, к которой она не могла допустить никого, даже Синцова.
Уже под Москвой, в Серпухове, едва поезд остановился, она впервые за все время сказала Синцову:
– Выйдем, погуляем…
Вышли из вагона, и она взяла его под руку.
– Знаешь, я теперь поняла, почему с самого начала почти не думала о тебе: мы найдем Таню, отправим ее с мамой, а я останусь с тобой в армии.
– Уже решила?
– Да.
– А если придется перерешить?
Она молча покачала головой.
Тогда, стараясь быть как можно спокойней, он сказал ей, что два вопроса – как найти Таню и идти или не идти в армию – надо разделить…
– Не буду я их делить! – прервала его Маша.
Но он настойчиво продолжал объяснять ей, что будет куда разумнее, если он поедет к месту службы, в Гродно, а она, наоборот, останется в Москве. Если семьи эвакуировали из Гродно (а это, наверное, сделали), то Машина мать вместе с Таней уж конечно постарается добраться до Москвы, до своей собственной квартиры. И Маше, хотя бы для того, чтобы не разъехаться с ними, самое разумное – ждать их в Москве.
– Может быть, они уже сейчас там, приехали из Гродно, пока мы едем из Симферополя!
Маша недоверчиво посмотрела на Синцова и опять замолчала до самой Москвы.
Они приехали в старую артемьевскую квартиру на Усачевке, где так недавно и так беззаботно прожили двое суток по дороге в Симферополь.
Из Гродно никто не приезжал. Синцов надеялся на телеграмму, но и телеграммы не было.
– Сейчас я поеду на вокзал, – сказал Синцов. – Может быть, достану место, сяду на вечерний. А ты попробуй позвонить, вдруг удастся.
Он вынул из кармана гимнастерки записную книжку и, вырвав листок, записал Маше гродненские редакционные телефоны.
– Подожди, сядь на минуту, – остановила она мужа. – Я знаю, ты против того, чтобы я ехала. Но как все-таки это сделать?
Синцов стал говорить, что делать этого не надо. К прежним доводам он прибавил новый: если даже ей дадут сейчас доехать до Гродно, а там возьмут в армию – в чем он сомневается, – неужели она не понимает, что ему от этого будет вдвое тяжелей?
Маша слушала, все больше и больше бледнея.
– А как же ты не понимаешь, – вдруг закричала она, – как же ты не понимаешь, что я тоже человек?! Что я хочу быть там, где ты?! Почему ты думаешь только о себе?
– Как «только о себе»? – ошеломленно спросил Синцов.
Но она, ничего не ответив, горько разрыдалась; а когда выплакалась, сказала деловым голосом, чтобы он ехал на вокзал доставать билеты, а то опоздает.
– И мне тоже. Обещаешь?
Разозленный ее упрямством, он наконец перестал щадить ее, отрубил, что никаких штатских, тем более женщин, в поезд, идущий до Гродно, сейчас не посадят, что уже вчера в сводке было Гродненское направление и пора, наконец, трезво смотреть на вещи.
– Хорошо, – сказала Маша, – если не посадят, значит, не посадят, но ты постараешься! Я тебе верю. Да?
– Да, – угрюмо согласился он.
И это «да» много значило. Он никогда не лгал ей. Если ее можно будет посадить в поезд, он возьмет ее.
Через час он с облегчением позвонил ей с вокзала, что получил место на поезд, отходящий в одиннадцать вечера в Минск, – прямо до Гродно поезда нет, – и комендант сказал, что сажать в этом направлении не приказано никого, кроме военнослужащих.
Маша ничего не ответила.
– Что ты молчишь? – крикнул он в трубку.
– Ничего. Я пробовала звонить в Гродно, сказали, что связи пока нет.
– Ты пока переложи все мои вещи в один чемодан.
– Хорошо, переложу.
– Я сейчас попробую пробиться в политуправление. Может быть, редакция куда-нибудь переместилась, попробую узнать. Часа через два буду. Не скучай.
– А я не скучаю, – все тем же бескровным голосом сказала Маша и первая повесила трубку.
Маша перекладывала вещи Синцова и неотступно думала все об одном и том же: как же все-таки она могла уехать из Гродно и оставить там дочь? Она не солгала Синцову, она и в самом деле не могла отделить своих мыслей о дочке от мыслей о самой себе: дочь надо найти и отправить сюда, а самой остаться вместе с ним там, на войне.
Как выехать? Что сделать для этого? Вдруг в последнюю минуту, уже закрывая чемодан Синцова, она вспомнила, что у нее где-то на клочке бумаги записан служебный телефон одного из товарищей брата, с которым тот вместе служил на Халхин-Голе, полковника Полынина. Этот Полынин, как раз когда они остановились здесь по дороге в Симферополь, вдруг позвонил и сказал, что прилетел из Читы, видел там Павла и обещал ему сделать личный доклад матери.
Маша тогда сказала Полынину, что Татьяна Степановна в Гродно, и записала его служебный телефон, чтобы мать позвонила ему в Главную авиационную инспекцию, когда вернется. Только вот где он, этот телефон? Она долго лихорадочно искала, наконец нашла и позвонила.
– Полковник Полынин слушает! – сказал сердитый голос.
– Здравствуйте! Я сестра Артемьева. Мне нужно вас увидеть.
Но Полынин даже не понял сразу, кто она и чего от него хочет. Потом наконец понял и после долгой неприветливой паузы сказал, что если ненадолго, то хорошо, пусть через час приедет. Он выйдет к подъезду.
Маша сама не знала толком, чем может помочь ей этот Полынин, но ровно через час была у подъезда большого военного дома. Ей казалось, что она помнит внешность Полынина, но среди сновавших вокруг нее людей его не было видно. Вдруг дверь открылась, и к ней подошел молоденький сержант.
– Вам товарища полковника Полынина? – спросил он у Маши и виновато объяснил, что товарища полковника вызвали в наркомат, он уехал десять минут назад и просил подождать. Лучше всего там, в скверике, за трамвайной линией. Когда полковник прибудет, то за ней придут.
– А когда он приедет? – Маша вспомнила, что Синцов уже скоро должен вернуться домой.
Сержант только пожал плечами.
Маша прождала два часа, и как раз в ту минуту, когда она, решив больше не ждать, перебежала линию, чтобы вскочить в трамвай, из подъехавшей «эмочки» вылез Полынин. Маша узнала его, хотя его красивое лицо сильно переменилось и казалось постаревшим и озабоченным.
Чувствовалось, что он считает каждую секунду.
– Не обижайтесь, постоим, поговорим прямо тут, а то у меня там уже народ собран… Что у вас стряслось?
Маша как могла коротко объяснила, что у нее стряслось и чего хочет. Они стояли рядом, на трамвайной остановке, прохожие толкались, задевали их плечами.
– Что ж, – сказал Полынин, выслушав ее. – Думаю, муж ваш прав: семьи из тех мест по возможности эвакуируют. В том числе и семьи наших авиаторов. Если что-нибудь узнаю через них, позвоню. А ехать туда сейчас вам не ко времени.
– И все-таки очень прошу вас помочь! – упрямо сказала Маша.
Полынин сердито сложил руки на груди.
– Слушайте, чего вы просите, куда вы лезете, извините за выражение! Под Гродно сейчас такая каша, можете вы это понять?
– Нет.
– А не можете, так слушайте тех, кто понимает!
Он спохватился, что, желая отговорить ее от глупостей, бухнул лишнее насчет той каши, которая сейчас под Гродно: ведь у нее там дочь и мать.
– В общем, там положение, конечно, прояснится, – неуклюже поправился он. – И эвакуация семей, конечно, будет налажена. И я вам буду звонить, если узнаю хотя бы малейшее что! Хорошо?
Он очень спешил и был окончательно не в состоянии скрывать это.
…Придя домой и не застав Маши, Синцов не знал, что и думать. Хоть бы оставила записку! Машин голос по телефону показался ему странным, но не могла же она поссориться с ним сегодня, когда он уезжает!
В политуправлении ему не сказали ровно ничего сверх того, что он знал и сам: в районе Гродно бои, а передислоцировалась или нет редакция его армейской газеты, ему сообщат завтра в Минске.
До сих пор и собственная, не выходившая из головы тревога за дочь, и состояние полной потерянности, в котором находилась Маша, заставляли Синцова забывать о себе. Но сейчас он со страхом подумал именно о себе, о том, что это война и что именно он, а не кто-нибудь другой, едет сегодня туда, где могут убить. Едва он подумал об этом, как раздался прерывистый междугородный звонок. Пробежав через комнату, он рванул с рычага трубку, но звонил не Гродно, а Чита.
– Кто это? Мама? – донесся сквозь многоголосое жужжание неимоверно далекий голос Артемьева.
– Нет, это я, Синцов.
– А я думал, ты уже воюешь.
– Еду сегодня.
– А где твои? Где мать?
Синцов сказал все, как было.
– Да-а, невеселые у вас дела! – еле слышным, охрипшим голосом сказал Артемьев на том конце шеститысячеверстного провода. – По крайней мере, хоть Марусю не пускай туда. И черт меня занес в Забайкалье! Как без рук!
– Разъединяю, разъединяю! Ваше время кончилось! – как дятел, задолбила телефонистка, и в трубке разом оборвалось все: и голоса и жужжание, – осталась одна тишина.
Маша вошла молча, опустив голову. Синцов не стал спрашивать ее, где она была, ждал, что скажет сама, и только поглядел на стенные часы: до ухода из дома оставался всего час.
Она перехватила его взгляд и, почувствовав укоризну, взглянула ему прямо в лицо.
– Не обижайся! Я ходила советоваться, нельзя ли все-таки уехать с тобой.
– Ну и что тебе посоветовали?
– Ответили, что пока нельзя.
– Ах, Маша, Маша! – только и сказал ей Синцов.
Она ничего не ответила, стараясь взять себя в руки и унять дрожь в голосе. В конце концов ей это удалось, и в последний час перед разлукой она казалась почти спокойной.
Но на самом вокзале лицо мужа в больничном свете синих маскировочных лампочек показалось ей нездоровым и печальным; она вспомнила слова Полынина: «Под Гродно сейчас такая каша!..» – вздрогнула от этого и порывисто прижалась к шинели Синцова.
– Что ты? Ты плачешь? – спросил Синцов.
Но она не плакала. Просто ей стало не по себе, и она прижалась к мужу так, как прижимаются, когда плачут.
Оттого, что никто еще не свыкся ни с войной, ни с затемнением, на ночном вокзале царили толчея и беспорядок.
Синцов долго не мог ни у кого узнать, когда же пойдет тот поезд, на Минск, с которым ему предстояло отправляться. Сначала ему сказали, что поезд уже ушел, потом – что пойдет только под утро, а сразу же вслед за этим кто-то закричал, что поезд на Минск отправляется через пять минут.
Провожающих почему-то не пускали на перрон, в дверях сразу же образовалась давка, и Маша и Синцов, стиснутые со всех сторон, в суматохе даже не успели напоследок обняться. Прихватив Машу одной рукой – в другой у него был чемодан, – Синцов в последнюю секунду больно прижал ее лицо к пряжкам скрещивавшихся у него на груди ремней и, поспешно оторвавшись от нее, исчез в вокзальных дверях.
Тогда Маша обежала вокзал кругом и вышла к высокой, в два человеческих роста решетке, отделявшей вокзальный двор от перрона. Она уже не надеялась увидеть Синцова, ей хотелось только поглядеть, как будет отходить от платформы его поезд. Она полчаса простояла у решетки, а поезд все еще не трогался. Вдруг она различила в темноте Синцова: он вылез из одного вагона и шел к другому.
– Ваня! – закричала Маша, но он не услышал и не повернулся.
– Ваня! – еще громче крикнула она, схватясь за решетку.
Он услышал, удивленно повернулся, несколько секунд бестолково смотрел в разные стороны и, только когда она крикнула в третий раз, подбежал к решетке.
– Ты не уехал? Когда же пойдет поезд? Может быть, не скоро?
– Не знаю, – сказал он. – Все время говорят, что с минуты на минуту.
Он поставил чемодан, протянул руки, и Маша тоже протянула ему руки через решетку. Он поцеловал их, а потом взял в свои и все время, пока они стояли, так и держал, не выпуская.
Прошло еще полчаса, а поезд все не отходил.
– Может быть, ты все-таки найдешь себе место, положишь вещи, а потом выйдешь? – спохватилась Маша.
– А-а!.. – Синцов небрежно тряхнул головой, по-прежнему не выпуская ее рук. – Сяду на подножку!
Они были заняты надвигавшейся на них разлукой и, не думая об окружающих, пытались смягчить эту разлуку привычными словами того мирного времени, которое уже три дня как перестало существовать.
– Я уверен, что с нашими все в порядке.
– Дай Бог!
– Может быть, даже встречусь с ними на какой-нибудь станции: я – туда, а они – сюда!
– Ах, если бы так!..
– Я, как приеду, сразу же напишу тебе.
– Тебе будет не до меня, просто дай телеграмму – и все.
– Нет, я непременно напишу. Ты жди письма…
– Еще бы!
– Но и ты мне пиши, хорошо?
– Конечно!
Они оба еще до конца не понимали того, что в действительности уже сейчас, на четвертые сутки, представляла собой эта война, на которую ехал Синцов. Они еще не могли представить себе, что ничего, ровно ничего из того, о чем они сейчас говорили, уже долго, а может быть, и никогда не будет в их жизни: ни писем, ни телеграмм, ни свиданий…
– Трогаемся! Кто едет, садитесь! – закричал кто-то за спиной Синцова.
Синцов, в последний раз стиснув Машины руки, схватил чемодан, накрутил на кулак ремень полевой сумки и на ходу, потому что поезд уже медленно пополз мимо, вскочил на подножку.
И сразу же вслед за ним на подножку вскочил кто-то еще и еще, и Синцова заслонили от Маши. Ей то казалось издали, что это он машет ей фуражкой, то казалось, что это чужая рука, а потом ничего уже не стало видно; замелькали другие вагоны, другие люди кричали что-то кому-то, а она стояла одна, прижавшись лицом к решетке, и торопливо застегивала плащ на вдруг озябшей груди.
Поезд, почему-то составленный из одних дачных вагонов, с томительными стоянками шел через Подмосковье и Смоленщину. И в том вагоне, где ехал Синцов, и в других вагонах большую часть пассажиров составляли командиры и политработники Особого Западного военного округа, срочно возвращавшиеся из отпусков в части. Лишь сейчас, оказавшись все вместе в этих ехавших к Минску дачных вагонах, с удивлением увидели друг друга.
Каждый из них, порознь уходя в отпуск, не представлял себе, как это выглядит все, вместе взятое, какая лавина людей, обязанных сейчас командовать в бою ротами, батальонами и полками, оказалась с первого дня войны оторванной от своих, наверно, уже дравшихся, частей.
Как это могло получиться, когда предчувствие надвигающейся войны висело в воздухе еще с апреля, не мог понять ни Синцов, ни другие отпускники. В вагоне то и дело вспыхивали разговоры об этом, затихали и снова вспыхивали. Ни в чем не повинные люди чувствовали себя виноватыми и нервничали на каждой длинной стоянке.
Расписание отсутствовало, хотя за весь первый день в пути не было ни одной воздушной тревоги. Только ночью, когда поезд стоял в Орше, кругом заревели паровозы и дрогнули стекла: немцы бомбили Оршу-товарную.
Но даже и тут, впервые слыша звуки бомбежки, Синцов еще не понимал, как близко, вплотную подъезжает их дачный поезд к войне. «Ну что ж, – думал он, – в том, что немцы по ночам бомбят идущие к фронту составы, нет ничего удивительного». Вдвоем с капитаном-артиллеристом, сидевшим напротив него и ехавшим в свою часть, на границу, в Домачево, они решили, что немцы, наверное, летают из Варшавы или Кенигсберга. Если б им сказали, что немцы уже вторую ночь летают на Оршу с нашего военного аэродрома в Гродно, из того самого Гродно, куда Синцов ехал в редакцию своей армейской газеты, они просто не поверили бы этому!
Но прошла ночь, и им пришлось поверить в гораздо худшие вещи. Утром поезд дотащился до Борисова, и комендант станции, кривясь, как от зубной боли, заявил, что эшелон дальше не пойдет: путь между Борисовом и Минском разбомблен и перерезан немецкими танками.
В Борисове было пыльно и душно, над городом кружились немецкие самолеты, по дороге шли войска и машины: одни – в одну, другие – в другую сторону; у госпиталя прямо на булыжной мостовой лежали на носилках убитые.
Перед комендатурой стоял старший лейтенант и кричал кому-то оглушительным голосом: «Закопать пушки!» Это был комендант города, и Синцов, не бравший с собой в отпуск оружия, попросил выдать ему наган. Но у коменданта не было нагана: час назад он роздал дотла весь арсенал.
Задержав первый попавшийся грузовик, шофер которого упрямо метался по городу в поисках своего куда-то запропастившегося завскладом, Синцов и капитан-артиллерист поехали искать начальника гарнизона. Капитан отчаялся попасть в свой полк на границу и хотел получить назначение в какую-нибудь артиллерийскую часть здесь, на месте. Синцов надеялся узнать, где Политуправление фронта, – если добраться до Гродно уже нельзя, пусть его пошлют в любую армейскую или дивизионную газету. Оба были готовы идти куда угодно и делать что угодно, только бы перестать болтаться между небом и землей в этом трижды проклятом отпуску. Им сказали, что начальник гарнизона где-то за Борисовом, в военном городке.
На окраине Борисова над их головами, строча из пулеметов, пронесся немецкий истребитель. Их не убило и не ранило, но от борта грузовика полетели щепки. Синцов, опомнившись от страха, бросившего его лицом на пропахшее бензином дно грузовика, с удивлением вытащил вершковую занозу, через гимнастерку воткнувшуюся ему в предплечье.
Потом оказалось, что в трехтонке кончается бензин, и они, прежде чем искать начальника гарнизона, поехали по шоссе в сторону Минска, на нефтебазу.
Там они застали странную картину: лейтенант – начальник нефтебазы – и старшина держали под двумя пистолетами майора в саперной форме. Лейтенант кричал, что он скорее застрелит майора, чем позволит ему подорвать горючее. Немолодой майор, с орденом на груди, держа руки вверх и дрожа от досады, объяснял, что приехал сюда не подрывать нефтебазу, а лишь выяснить возможности ее подрыва. Когда наконец пистолеты были опущены, майор со слезами ярости на глазах стал кричать, что это позор – держать под пистолетом старшего командира. Чем кончилась эта сцена, Синцов так и не узнал. Лейтенант, угрюмо слушавший выговор майора, буркнул, что начальник гарнизона находится в казармах танкового училища, недалеко отсюда, в лесу, и Синцов поехал туда.
В танковом училище все двери были распахнуты настежь – и хоть шаром покати! Только на плацу стояли две танкетки с экипажами. Они были оставлены здесь впредь до дальнейших распоряжений. Но этих распоряжений уже сутки не поступало. Толком никто ничего не знал. Одни говорили, что училище эвакуировано, другие – что оно ушло в бой. Начальник Борисовского гарнизона, по слухам, находился где-то на Минском шоссе, но не по эту сторону Борисова, а по ту.
Синцов и капитан вернулись в Борисов. Комендатура грузилась. Комендант охрипшим голосом прошептал, что есть приказ маршала Тимошенко оставить Борисов, отойти за Березину и там, не пуская немцев дальше, защищаться до последней капли крови.
Артиллерийский капитан недоверчиво сказал, что комендант порет какую-то отсебятину. Однако комендатура грузилась, и едва ли это делалось без чьего-то приказа. Они снова выехали на своем грузовике за город. Поднимая тучи пыли, по шоссе шли люди и машины. Но теперь все это двигалось уже не в разные стороны, а в одну – на восток от Борисова.
У въезда на мост в толчее стоял громадного роста человек, без фуражки, с наганом в руке. Он был вне себя и, задерживая людей и машины, надорванным голосом кричал, что он, политрук Зотов, должен остановить здесь армию и он остановит ее и расстреляет каждого, кто попробует отступить!
Но люди двигались и двигались мимо политрука, проезжали и проходили, и он пропускал одних, для того чтобы остановить следующих, засовывал за пояс наган, брал кого-то за грудь, потом отпускал, опять хватался за наган, поворачивался и снова яростно, но бесполезно хватал кого-то за гимнастерку…
Синцов и капитан остановили машину в редком прибрежном лесу. Лес кишел людьми. Синцову сказали, что где-то рядом есть какие-то командиры, которые формируют части. И в самом деле, на опушке леса распоряжалось несколько полковников. На трех грузовиках с откинутыми бортами составляли списки людей, из них формировались роты и под командой тут же, на месте, назначенных командиров отправляли налево и направо вдоль Березины. На других грузовиках лежали груды винтовок, их раздавали всем, кто записывался, но не был вооружен. Синцов тоже записался; ему досталась винтовка с примкнутым штыком и без ремня, ее все время приходилось держать в руке.
Один из распоряжавшихся полковников, лысый танкист с орденом Ленина, ехавший из Москвы в одном вагоне с Синцовым, посмотрел его отпускной билет, удостоверение личности и ядовито махнул рукой: какая, мол, сейчас к черту газета, – но тут же приказал, чтобы Синцов далеко не отходил: для него, как для интеллигентного человека, найдется дело. Полковник именно так странно и выразился – «как для интеллигентного человека». Синцов, потоптавшись, отошел и сел в ста шагах от полковника, возле своей трехтонки. Что означала эта фраза, он узнал лишь на следующий день.
Через час к машине подбежал артиллерийский капитан, выхватил из кабины вещевой мешок и, счастливо крикнув Синцову, что на первый случай получил под команду два орудия, убежал. Синцов его больше никогда не видел.
Лес был по-прежнему набит людьми, и, сколько бы их ни отправлялось под командой в разные стороны, казалось, все они никогда не рассосутся.
Прошел еще час, и над реденьким сосновым лесом появились первые немецкие истребители. Синцов каждые полчаса бросался на землю, прижимаясь головой к стволу тонкой сосны; высоко в небе колыхалась ее редкая крона. При каждом налете лес начинал стрелять в воздух. Стреляли стоя, с колена, лежа, из винтовок, из пулеметов, из наганов.
А самолеты шли и шли, и все это были немецкие самолеты.
«А где же наши?» – горько спрашивал себя Синцов, так же как это и вслух и молча спрашивали все люди вокруг него.
Уже под вечер над лесом прошла тройка наших истребителей с красными звездами на крыльях. Сотни людей вскочили, закричали, радостно замахали руками. А еще через минуту три «ястребка» вернулись, строча из пулеметов.
Стоявший рядом с Синцовым пожилой интендант, снявший фуражку и прикрывшийся ею от солнца, чтобы получше разглядеть свои самолеты, свалился, убитый наповал. Рядом ранило красноармейца, и он, сидя на земле, все время сгибался и разгибался, держась за живот. Но еще и теперь людям казалось, что это случайность, ошибка, и лишь когда в третий раз те же самолеты прошли над самыми верхушками деревьев, по ним открыли огонь. Самолеты шли так низко, что один из них удалось сбить из пулемета. Ломаясь о деревья и разваливаясь на куски, он упал всего в ста метрах от Синцова. В обломках кабины застрял труп летчика в немецкой форме. И хотя в первые минуты весь лес торжествовал: «Наконец сбили!» – но потом всех ужаснула мысль, что немцы уже успели где-то захватить наши самолеты.
Наконец наступила долгожданная темнота. Шофер грузовика по-братски поделился с Синцовым сухарями и вытащил из-под сиденья купленную в Борисове бутылку теплого сладкого ситро. До реки не было и полукилометра, но ни у Синцова, ни у шофера после всего пережитого за день не хватило сил сходить туда. Они выпили ситро, шофер лег в кабине, высунув ноги наружу, а Синцов опустился на землю, приткнул к колесу машины полевую сумку и, положив на нее голову, несмотря на ужас и недоумение, все-таки упрямо подумал: нет, не может быть. То, что он видел здесь, не может происходить всюду!
С этой мыслью он заснул, а проснулся от выстрела над ухом. Какой-то человек, сидя на земле в двух шагах от него, палил в небо из нагана. В лесу рвались бомбы, вдали виднелось зарево; по всему лесу, в темноте, наезжая одна на другую и на деревья, ревели и двигались машины.
Шофер тоже рванулся ехать, но Синцов совершил первый за сутки поступок военного человека – приказал переждать панику. Только через час, когда все стихло – исчезли и машины и люди, – он сел рядом с шофером, и они стали искать дорогу из лесу.
На выезде, у опушки, Синцов заметил темневшую впереди на фоне зарева группу людей и, остановив машину, с винтовкой в руках пошел к ним. Двое военных, стоя на обочине шоссе, разговаривали с задержанным штатским, требуя документы.
– Нету у меня документов! Нету!
– Почему нету? – настаивал один из военных. – Предъяви нам документы!
– Документы вам? – крикнул задрожавшим, злым голосом человек в штатском. – А зачем вам документы? Что я вам, Гитлер? Все Гитлера ловите! Все равно не поймаете!
Военный, требовавший предъявления документов, взялся за пистолет.
– Ну и стреляй, если совести хватит! – с отчаянным вызовом крикнул штатский.
Едва ли этот человек был диверсантом, скорее всего он был просто какой-нибудь мобилизованный, доведенный до горькой злобы поисками своего призывного пункта. Но того, что он крикнул про Гитлера, нельзя было кричать людям, тоже доведенным до бешенства своими мытарствами…
Но все это Синцов подумал потом, а тогда он ничего не успел подумать: над их головами зажглась ослепительно белая ракета. Синцов упал и, уже лежа, услышал грохот бомбы. Когда он, переждав минуту, поднялся, то увидел в двадцати шагах от себя только три изуродованных тела; словно приказывая ему навсегда запомнить это зрелище, ракета погорела еще несколько секунд и, коротко чиркнув по небу, бесследно упала куда-то.
Вернувшись к машине, Синцов увидел торчавшие из-под нее ноги шофера, залезшего головой под мотор. Они оба снова сели в кабину и сделали еще несколько километров к востоку сначала по шоссе, потом по лесной дороге. Остановив двух встретившихся командиров, Синцов узнал, что ночью был приказ отойти из того леса, где они стояли вчера, на семь километров назад, на новый рубеж.
Чтобы шедшая без фар машина не врезалась в деревья, Синцов вылез из кабины и пошел впереди. Если б его спросить, зачем ему нужна эта машина и почему он с ней возится, он бы не ответил ничего вразумительного, просто так уж вышло: потерявший свою часть шофер не хотел отстать от политрука, а не доехавший до своей части Синцов был тоже рад, что с ним благодаря этой машине все время связана хоть одна живая душа.
Только на рассвете, поставив машину в другом лесу, где почти под каждым деревом стояли грузовики, а люди рыли щели и окопы, Синцов наконец добрался до начальства. Было серое, прохладное утро. Перед Синцовым на лесной тропинке стоял сравнительно молодой человек с трехдневной щетиной, в надвинутой на глаза пилотке, в гимнастерке с ромбами на петлицах, в красноармейской шинели, накинутой на плечи, и почему-то с лопатой в руках. Синцову сказали, что, кажется, это и есть начальник Борисовского гарнизона.
Синцов подошел к нему и, обратись по всей форме, попросил товарища бригадного комиссара сказать, не может ли он, политрук Синцов, быть использован по своей должности армейского газетчика, а если нет, то какие будут приказания. Бригадный комиссар посмотрел отсутствующими глазами сначала на его документы, потом на него самого и сказал с равнодушной тоской:
– Разве вы не видите, что делается? Про какую газету вы говорите? Какая может быть теперь здесь газета?
Он сказал это так, что Синцов почувствовал себя виноватым.
– Вам надо в штаб, а верней – в Политуправление фронта, там вам скажут, куда являться, – помолчав, сказал бригадный комиссар.






