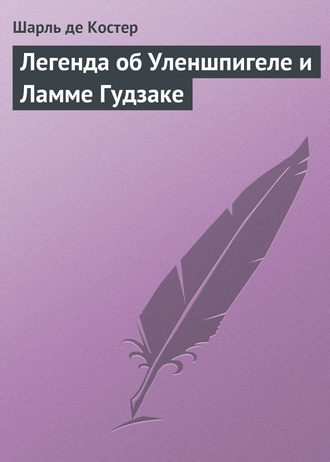
Шарль де Костер
Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке
– Я не из тех, кто лижет барские сапоги, – сказал Уленшпигель. – Слово солдата – уже не золотое слово.
– Поставьте виселицу и отведите его к ней: пусть он там услышит пеньковое слово, – вскричал де Люмэ.
– Хорошо, – ответил Уленшпигель, – я перед всем народом буду тебе кричать: «Слово солдата – уже не золотое слово».
Виселица была воздвигнута на Большом рынке. Тотчас же весь город обежала весть, что будут вешать Уленшпигеля, храброго гёза. И народ, исполненный жалости и сострадания, сбежался толпой на Большой рынок; господин де Люмэ также прибыл сюда верхом на лошади, желая лично подать знак к исполнению казни.
Он сурово смотрел на Уленшпигеля, раздетого для казни, в одной рубахе, с привязанными к телу руками и верёвкой на шее, стоявшего на лестнице, и на палача, готового приступить к делу. Трелон обратился к нему:
– Адмирал, пожалейте его; он не предатель, и никто не видел ещё, чтобы вешали человека за то, что он прямодушен и жалостлив.
И народ, мужчины и женщины, услышав слова Трелона, кричал:
– Сжальтесь, ваша милость, помилуйте Уленшпигеля!
– Этот медный лоб был дерзок со мной, – сказал де Люмэ, – пусть покается и скажет, что я был прав.
– Согласен ты покаяться и сказать, что он был прав? – спросил Трелон Уленшпигеля.
– Слово солдата – уже не золотое слово, – ответил Уленшпигель.
– Тяни верёвку, – сказал де Люмэ.
Палач уже чуть было не исполнил приказания, как вдруг молодая девушка, вся в белом и с венком на голове, взбежала, как безумная, по ступенькам эшафота, бросилась к Уленшпигелю на шею и крикнула:
– Этот человек мой; я беру его в мужья.
И народ рукоплескал ей, и женщины кричали:
– Молодец, девушка! Спасла Уленшпигеля!
– Это ещё что такое? – спросил де Люмэ.
– По нравам и обычаям этой страны, – ответил Трелон, – установлено, как закон и право, что невинная или незамужняя девушка спасает человека от петли, если у подножья виселицы берёт его себе в мужья.
– Бог за него, – сказал де Люмэ, – развяжите его.
Проезжая затем мимо эшафота, он увидел, что палач не даёт девушке разрезать верёвки Уленшпигеля и борется с ней, говоря:
– Если вы их разрежете, кто за них заплатит?
Но девушка не слушала его.
Увидя её миловидность, проворство и нежность, де Люмэ смягчился.
– Кто ты? – спросил он.
– Я Неле, его невеста, я приехала за ним из Фландрии.
– Хорошо сделала, – надменно сказал он и удалился.
К ним подошёл Трелон.
– Маленький фламандец, – спросил он, – ты и женившись останешься солдатом на наших кораблях?
– Да, ваша милость, – ответил Уленшпигель.
– А ты, девочка, что будешь делать без твоего мужа?
– Если позволите, ваша милость, я буду свирельщиком на его корабле.
– Хорошо, – сказал Трелон.
И он дал ей два флорина на свадьбу.
И Ламме, плача и смеясь от радости, говорил:
– Вот ещё три флорина. Всё съедим: я плачу за всё. Идём в «Золотой гребешок». Ах, он жив остался, мой друг. Да здравствуют гёзы!
И народ бил в ладоши, и они отправились в «Золотой гребешок», где было устроено великое пиршество, и Ламме бросал из окна деньги народу.
А Уленшпигель говорил Неле:
– Красавица моя дорогая, вот ты со мной. О радость! Она здесь телом, душой и сердцем, моя милая подружка. О кроткие глазки, о пурпурные уста, из которых вылетало только доброе слово. Она спасла мне жизнь, моя нежная, моя любимая! Ты будешь играть на наших кораблях песню освобождения. Помнишь… Нет, не надо… Наш этот сладостный час, мое это личико нежное, как июньский цветок. Я в раю… Но ты плачешь…
– Они убили её, – сказала Неле. И она рассказала ему о своей утрате.
И, глядя друг другу в глаза, они плакали от любви и скорби.
И на пиру они ели и пили, и Ламме грустно смотрел на них, приговаривая:
– О жена моя, где ты?
И явился священник и обвенчал Неле и Уленшпигеля.
И утреннее солнце застало их рядом в их брачной постели.
Голова Неле лежала на плече Уленшпигеля. И, когда луч солнца разбудил её, он сказал:
– Свежее личико и нежное сердечко, мы будем мстителями за Фландрию.
И она, поцеловав его в губы, сказала:
– Отчаянная голова и могучая рука, господь благословит союз свирели и шпаги.
– Я тебе сделаю солдатскую одежду.
– Сейчас! – сказала она.
– Сейчас, – ответил Уленшпигель. – Но кто это сказал, что земляника всего вкуснее по утрам? Твои губы много лучше.
IX
Уленшпигель, Ламме и Неле, так же как их друзья и товарищи, отбирали у монастырей то, что монахи выманивали у народа крестным ходом, ложными чудесами и прочими римскими проделками. Делали это гёзы против повеления Молчаливого, принца свободы, но деньги шли на военные расходы. Ламме Гудзак не довольствовался деньгами; он забирал в монастырях окорока, колбасы, бутылки пива и вина и возвращался с похода, обвешанный птицей, гусями, индейками, каплунами, курами и цыплятами, ведя на верёвке ещё несколько монастырских телят и свиней.
– Это нам и принадлежит по праву войны, – говорил он.
В восторге от каждого такого захвата, он приносил добычу на корабль для пиршества и угощения, но жаловался всегда, что корабельный повар – невежда в высокой науке соусов и жарких.
Как-то гёзы, победоносно налившись вином, обратились к Уленшпигелю:
– У тебя хороший нюх на то, что творится на суше; ты знаешь все военные походы. Спой нам о них, Ламме будет бить в барабан, а смазливый свирельщик посвистит в такт твоей песне.
И Уленшпигель начал:
– В ясный, свежий майский день Людвиг Нассауский, рассчитывая войти в Монс[189], не нашёл, однако, ни своей пехоты, ни конницы. Несколько его приверженцев уже открыли ворота и опустили подъёмный мост, чтобы он мог взять город. Но горожане овладели воротами и мостом. Где же солдаты графа Людвига? Горожане вот-вот подымут мост. Граф Людвиг трубит в рог!
И Уленшпигель запел:
Где твои всадники, где пехотинцы?
По́ лесу бродят, топчут ногой
Ландыш в цвету и валежник сухой…
На их суровых, обветренных лицах
Луч солнца играет, и спины коней
Блестят под навесом зелёным ветвей.
Чу! звуки рога… Граф Людвиг зовёт…
Слышат они – и тихо сбор барабанщик бьёт.
Все на коней! Аллюр боевой!
Закусив удила, скакуны летят.
Всадник за всадником мчатся стрелой,
Грозно доспехи на них гремят.
Мчитесь на помощь! Скорей, скорей!..
Уж мост поднимают… Гоните коней!
Вонзайте в бока разъярённые шпоры!
Уж мост поднимают… Потерян город!
Вот он перед ними. Поспеют иль нет?..
Земли не касаясь, отряд несётся.
Впереди граф Шомон на своём скакуне.
Смелый скачок. И мост поддаётся…
Наш город Монс! По его мостовой,
Слышите? – всадники мчатся стрелой,
Мчатся, как грозный, железный вихрь —
Только доспехи гремят на них.
Слава Шомону и его скакуну – слава!
Бей, барабан, веселее! Трубите, горнисты!
Скоро косьба, ароматом дышут цветы и травы,
Птички носятся с пеньем в небе лазурном, чистом.
Слава свободным птицам! Бей, барабан, бей!
Мы победили. Графу Шомону и скакуну его – слава!
За здоровье Шомона – чокнемся, лей!
Взят город Монс!.. Да здравствуют гёзы!
И гёзы пели на кораблях: «Христос, воззри на войско твоё! Господь, наточи мечи! Да здравствуют гёзы!»
И Неле, смеясь, дудила на своей свирели, и Ламме бил в барабан, и вверх к небесам, храму господнему, вздымались золотые чаши и песни свободы. И волны, ясные и свежие, точно сирены, мерно плескались вокруг корабля.
X
Был жаркий и душный августовский день; Ламме тосковал. Молчал и спал его весёлый барабан, и палочки его торчали из отверстия сумки. Уленшпигель и Неле, любовно улыбаясь от удовольствия, грелись на солнце. Дозорные, сидя на верхушке мачты, свистели или пели, рыская глазами по морскому простору, не увидят ли на горизонте какой добычи. Трелон спрашивал их, но они отвечали только:
– Niets – ничего.
И Ламме жалобно вздыхал, бледный и усталый. И Неле спросила его:
– Отчего это, Ламме, ты такой грустный?
– Ты худеешь, сын мой, – сказал Уленшпигель.
– Да, – ответил Ламме, – я тоскую и худею. Сердце моё теряет свою весёлость, а моя добродушная рожа – свою свежесть. Да, смейтесь надо мной вы, нашедшие друг друга, несмотря на тысячи опасностей. Насмехайтесь над бедным Ламме, который живёт вдовцом, будучи женат, тогда как вот она, – он указал на Неле, – спасла своего мужа от лобзаний верёвки. Неле будет его последней возлюбленной. Она хорошо поступила, да благословит её господь. Но пусть она не смеётся надо мной. Да, ты не должна смеяться над бедным Ламме, друг мой Неле. Моя жена смеётся за десятерых. О женщины, как вы жестоки к чужим страданиям! Да, тоскует моё сердце, поражённое мечом разлуки, и ничто не исцелит его, кроме неё.
– Или куска доброго жаркого! – сказал Уленшпигель.
– Да, – ответил Ламме, – а где же мясо на этом унылом корабле. На королевских судах в мясоед получают четыре раза в неделю говядину и три раза рыбу. Что до рыбы, – да покарает меня господь, если эта мочала – я говорю о рыбьем мясе – производит что-нибудь, кроме бесплодного пожара в моей крови, моей бедной крови, которая скоро уйдёт с водою. У них там есть и пиво, и сыр, и суп, и выпивка. Да, у них всё для радостей желудка: сухари, ржаной хлеб, пиво, масло, солонина; да, всё: вяленая рыба, сыр, горчица, соль, бобы, горох, крупа, уксус, постное масло, сало, дрова, уголь. А нам только что запретили забирать скот чей бы то ни было, – дворянский, мещанский или поповский. Едим селёдку и пьём жиденькое пиво. Ох-ох, всего-всего я лишён, ни dobbel-bruinbier, ни порядочной еды. В чём здесь наши радости?
– Я сейчас скажу тебе, Ламме, – ответил Уленшпигель, – око за око, зуб за зуб; в Париже в ночь святого Варфоломея[190] они убили десять тысяч человек, десять тысяч свободных сердец в одном только Париже. Сам король стрелял в свой народ. Проснись, фламандец, схватись за свой топор, не зная жалости: вот наши радости. Бей врага испанца и католика везде, где он попадётся тебе. Забудь о своей жратве. Они отвозили живыми и мёртвыми свои жертвы к рекам и целыми повозками выбрасывали их в воду. Мёртвых и живых! – слышишь ты, Ламме. Девять дней была красна Сена, и вороны тучами слетались над городом. И в ла Шаритэ, Руане, Тулузе, Лионе, Бордо, Бурже, Мо избиение было чудовищно. Видишь стаи пресыщенных собак, лежащих подле трупов. Их зубы устали. Полёт ворон тяжёл, потому что брюхо их переполнено мясом жертв. Слышишь, Ламме, голос жертв, вопиющих о мести и жалости? Проснись, фламандец! Ты говоришь о твоей жене. Я не думаю, чтобы она тебе изменила: она влюблена в тебя, бедный мой друг. И она не была среди этих придворных дам, которые в самую ночь убийств своими нежными ручками раздевали трупы, чтобы удостовериться в размерах их мужской плоти. И они хохотали, эти дамы, великие в распутстве. Воспрянь духом, сын мой, несмотря на твою рыбу и жидкое пиво. Если скверно во рту после селёдки, то много сквернее запах этих гнусностей. Вот пируют убийцы и плохо вымытыми руками режут жареных гусей, угощая знатных красавиц парижских, поднося им лапки, крылышки и гузку. А ведь только что они трогали руками другое мясо, холодное мясо.
– Больше не буду жаловаться, сын мой, – сказал Ламме, вставая. – Для свободных сердец селёдка – тот же дрозд, жидкое пиво – мальвазия.
И Уленшпигель возгласил:
Да здравствуют гёзы!
Братья! Плакать не время сейчас.
На крови́, из развалин,
Расцветает роза свободы.
С нами господь! – кто устоит против нас?
Пусть торжествует гиена —
Час придёт и льву победить:
Лапы ударом одним гиену он опрокинет.
Око за око! Зуб за́ зуб! Да здравствуют гёзы!
И гёзы на кораблях подхватили:
Сам себе участь жестокую Альба готовит:
Раной отплатим за рану! Зуб за́ зуб!
Око за око! Да здравствуют гёзы!
XI
Чёрной ночью грохотал гром в недрах грозовых туч. Уленшпигель сидел с Неле на палубе.
– Все наши огни погашены, – сказал он. – Мы лисицы, подстерегающие испанскую дичь: двадцать два богатых испанских корабля, на которых мерцают фонари: это их несчастные звёзды. И мы мчимся на них.
– Это колдовская ночь, – сказала Неле, – небо черно, как пасть ада, зарницы вспыхивают, как улыбка сатаны, глухо грохочет вдали буря; с резкими криками носятся вокруг чайки; море катит свои светящиеся волны, точно серебряные ужи. Тиль, дорогой мой, унесёмся в царство духов. Прими порошок сновидений.
– Я увижу Семерых, дорогая?
И они приняли порошок, вызывающий видения.
И Неле закрыла глаза Уленшпигелю, и Уленшпигель закрыл глаза Неле. И страшное зрелище предстало пред ними.
Небо, земля, море были заполнены толпами людей: мужчины, женщины, дети работали, бродили, плыли, мечтали. Их баюкало море, их несла земля. Они копошились, точно угри в корзине.
Семь венценосцев, мужчин и женщин, посредине неба сидели на престолах. На лбу у каждого сверкала блестящая звезда, но образ их был так смутен, что Неле и Уленшпигель не различали ничего, кроме их звёзд.
Море вздымалось под небеса, неся на своей пене бесчисленное множество кораблей, мачты и снасти которых сталкивались, скрещивались, ломались, разбивались, следуя порывистым движениям воды. И один корабль явился среди прочих. Борта его были из пламенеющего железа. Его стальной киль был острее ножа. Вода болезненно вскрикивала, когда он прорезал её. На корме корабля, оскалив зубы, сидела Смерть, держа в одной руке косу, а в другой бич, которым она, издеваясь, хлестала семерых путников. Первым из них был тощий, мрачный, надменный, безмолвный человек. В одной руке он держал скипетр, в другой меч. Подле него сидела верхом на козе девушка в раскрытом платье, с голыми грудями, возбуждёнными глазами, багровыми щеками. Она похотливо тянулась к старому еврею, собиравшему гвозди, и надутому толстяку, который падал всякий раз, как она ставила его на ноги, между тем как тощая женщина яростно колотила их обоих. Толстяк ничем не отвечал на это, равно как его краснолицая подруга. Монах, сидя посредине, поглощал колбасу. Женщина, ползая на земле, скользила между ними, как змея. Она кусала старого еврея за то, что у него ржавые гвозди, толстяка – за его благодушие, краснолицую девушку – за влажный блеск её глаз, монаха – за колбасы и тощего человека – за его скипетр. И все тут же передрались между собой.
Когда они промелькнули, бой на море, на небе и на земле стал ужасен. Лил кровавый дождь. Корабли были изрублены топорами, разбиты выстрелами из пушек и ружей. Обломки их носились по воздуху среди порохового дыма. На земле сталкивались армии, подобно медным стенам. Города, деревни, поля горели среди криков и слёз. Высокие колокольни гордыми очертаниями вздымали своё каменное кружево среди огня, потом рушились с грохотом, точно срубленные дубы. Многочисленные чёрные всадники словно муравьи, разбившись на тесные кучки, с мечом в одной руке и пистолетом в другой, избивали мужчин, женщин, детей. Некоторые из них, пробив проруби, топили в них живыми стариков; другие отрезали груди у женщин и посыпали раны перцем, третьи вешали детей на трубах. Устав убивать, они насиловали девушек или женщин, пьянствовали, играли в кости и, засунув руки в груды золота – плод грабежа, – копошились в них окровавленными пальцами.
Семеро, увенчанные звёздами, возглашали:
– Жалость к несчастному миру!
И призраки хохотали. И голоса их были подобны крику тысяч морских орлов.
И Смерть махала своей косой.
– Слышишь? – говорил Уленшпигель. – Это хищные птицы, слетевшиеся на трупы людские. Они питаются маленькими птичками: теми, кто прост и добр.
И Семеро, увенчанные звёздами, возглашали:
– Любовь, справедливость, сострадание!
И семь призраков хохотали. И голоса их были подобны крику тысяч морских орлов. И Смерть хлестала их своим бичом.
И корабль мчался по волнам, разрезая пополам суда, ладьи, мужчин, женщин, детей. И над морем оглушительно несся жалобный стон жертв, кричащих: «Сжальтесь!»
И красный корабль прошёл через них, между тем как призраки кричали, как морские орлы.
И Смерть с хохотом пила воду, густо окрашенную кровью.
И корабль исчез в тумане, стихла битва, и исчезли семь звёздных венцов.
И Уленшпигель и Неле видели пред собой только чёрное небо, бурное море, мрачные тучи, спускающиеся на светящиеся волны, и – совсем близко – красные звёздочки.
Это были фонари двадцати двух кораблей. Глухо грохотало море и раскаты грома.
И Уленшпигель тихо ударил vacharm (тревогу) в колокол и крикнул:
– Испанцы, испанцы! Держать на Флиссинген!
И крик этот был подхвачен всем флотом.
– Серый туман покрыл небо и море, – говорит Уленшпигель. – Тускло мерцают фонари, встаёт заря, свежеет ветер, валы взметают свою пену выше палубы, льёт дождь и стихает, восходит лучезарное солнце, золотя гребни волн: это твоя улыбка, Неле, свежая, как утро, кроткая, как солнечный луч.
Проходят двадцать два корабля с богатым грузом; на судах гёзов бьют барабаны, свистят свирели; де Люмэ кричит: «Во имя принца, в погоню!» Эвонт Питерсен Борт, вице-адмирал, кричит: «Во имя принца Оранского и господина адмирала, в погоню!» И на всех кораблях, на «Иоганне», «Лебеде», «Анне-Марии», «Гёзе», «Компромиссе», «Эгмонте», «Горне», «Вильгельме Молчаливом», кричат капитаны: «Во имя принца Оранского и господина адмирала!»
– В погоню, да здравствуют гёзы! – кричат солдаты и моряки.
Корвет Трелона «Бриль», на котором находятся Ламме и Уленшпигель, вместе с «Иоганной», «Лебедем» и «Гёзом», захватили четыре корабля. Гёзы бросают в воду всё, что носит имя испанца, берут в плен уроженцев Голландии, очищают корабли, точно яичную скорлупу, от всего груза и бросают их носиться по взморью без мачт и парусов. Затем они пускаются в погоню за остальными восемнадцатью судами. Порывистый ветер дует со стороны Антверпена, борта быстролётных кораблей склоняются к воде под тяжестью парусов, надутых, как щёки монаха-ветра, дующего из кухни; преследуемые корабли несутся быстро; гёзы под огнём укреплений преследуют их до Миддельбурга[191]. Здесь завязался кровопролитный бой; гёзы с топорами в руках бросаются на палубу вражеских кораблей; вот вся она покрыта отрубленными руками и ногами, которые после боя приходится корзинами выбрасывать в воду. Береговые укрепления осыпают гёзов выстрелами; они, не обращая на это внимания, под крики: «Да здравствуют гёзы!» забирают на кораблях порох, пушки, свинец и пули; опустошив, сжигают их и уносятся во Флиссинген, оставив вражеские суда тлеть и догорать на взморье.
Из Флиссингена гёзы направляют отряды в Зеландию и Голландию разрушать плотины[192], и другие отряды помогают на верфи строить новые суда, особенно шкуны в сто сорок тонн, способные поднять до двадцати чугунных орудий.
XII
Над кораблями идёт снег. Вся воздушная даль бела, и снежинки неустанно падают, падают мягко в чёрную воду и там быстро тают.
Снег идёт на земле; белы дороги, белы чёрные очертания оголённых деревьев. Ни звука; только далеко в Гаарлеме[193] колокола отбивают часы, и этот весёлый перезвон разносится в снежной дали.
Не звоните, колокола, не наигрывайте своих напевов, простых и мирных: приближается дон Фадрике, кровавое отродье Альбы. Он идёт на тебя с тридцатью пятью батальонами испанцев, твоих смертельных врагов, о Гаарлем, город свободы: двадцать два батальона валлонов, восемнадцать батальонов немцев, восемьсот всадников, могучая артиллерия следуют за ним. Слышишь ли ты лязг этих смертоносных орудий на колёсах. Фальконеты, кулеврины, широкогорлые мортиры – это всё для тебя, Гаарлем. Не звоните, колокола, не разносите весёлый перезвон своих напевов, простых и мирных, в снежной пелене воздуха!
Будем звонить мы, колокола; я, перезвон, буду звенеть, бросая мои смелые напевы в снежную пелену воздуха. Гаарлем – город отважных сердец и мужественных женщин. Без страха с высоты своих колоколен смотрит он, как копошатся, подобно адским муравейникам, чёрные орды палачей; Уленшпигель, Ламме и сто морских гёзов в его стенах. Их корабли плавают по Гаарлемскому озеру.
– Пусть придут! – говорят горожане. – Мы ведь только простые обыватели, рыбаки, моряки и женщины. Сын герцога Альбы заявил, что для входа в наш город не хочет иных ключей, кроме своих пушек. Пусть откроет, если может, эти хрупкие ворота: он найдёт за ними мужей. Звоните, колокола, несите свои весёлые напевы в снежный простор!
«У нас слабые стены и устарелые рвы – больше ничего. Четырнадцать орудий извергают свои сорокашестифунтовые ядра в Gruys-poort. Поставьте людей там, где нехватает камней. Пришла ночь, все на работе, – и словно никогда здесь не было пушек. В Gruys-poort он выпустил шестьсот восемьдесят ядер, в ворота святого Яна – шестьсот семьдесят пять. Эти ключи не открывают, ибо вот за стенами вырос новый вал. Звоните, колокола, бросай, перезвон, свои весёлые напевы!
«Пушки неустанно громят и громят крепость, разлетаются камни, рушится стена. Брешь достаточно широка для фронта целого батальона. Приступ! «Бей, бей!» – кричат они. Они карабкаются, их десять тысяч; дайте им перебраться через рвы с их мостами, с их лестницами. Наши орудия готовы! Вот знамя тех, кто умрёт. Отдайте им честь, пушки свободы. Они салютуют: цепные ядра, смоляные обручи, пылая, летят, свистят, разят, пробивают, зажигают, ослепляют строй наступающих, который ослаб и бежит в беспорядке. Полторы тысячи трупов переполнили ров. Звоните, колокола, неси, перезвон, свои бодрые напевы!
«Ещё раз на приступ! Не смеют! Принялись за обстрел, ведут подкопы. Ну, мы тоже знаем минное дело. Под ними, под ними зажгите фитиль. Сюда, народ, будет, что посмотреть. Четыреста испанцев взлетело на воздух! Это не путь к вечному огню. О, чудная пляска под серебряный напев наших колоколов, под весёлый их перезвон.
«Они и не думают, что принц заботится о нас, что каждый день по прекрасно охраняемым путям к нам прибывают вереницы саней с грузом хлеба и пороха: хлеб для нас, порох для них. Где шестьсот немцев, которых мы утопили и перебили в гаарлемском лесу? Где одиннадцать знамён, которые мы взяли у них, шесть орудий и пятьдесят быков? Прежде у нас была одна крепостная стена, теперь – две. Даже женщины дерутся, и Кенан стоит во главе их отважного отряда. Придите, придите, палачи, вступите в наши улицы, наши дети подрежут вам поджилки своими маленькими ножами! Звоните, колокола, и ты, перезвон, бросай в даль свои весёлые напевы!
«Но судьба против нас. Эскадра гёзов разбита на Гаарлемском озере. Разбито войско Оранского, посланное нам на помощь. Всё мёрзнет, всё мёрзнет. Нет помощи ниоткуда. И вот уже шесть месяцев мы держимся, тысяча против десяти тысяч. Надо как-нибудь сговориться с палачами. Но захочет ли слушать о каком бы то ни было договоре отродье Альбы, после того как он поклялся уничтожить нас! Пусть выйдут с оружием все солдаты; они прорвутся через неприятельские ряды. Но женщины у ворот; они боятся, что их оставят одних охранять город. Но звоните, колокола, не бросай своих напевов, веселый перезвон.
«Вот июнь на дворе, пахнет сеном, жатва золотистая на солнце, поют птички. Мы голодали пять месяцев, город в отчаянии. Мы выйдем все из города: впереди стрелки, чтобы открыть путь, потом женщины, дети, должностные лица под охраной пехоты, стерегущей брешь. И вдруг письмо! Письмо от кровавого отродья Альбы. Что возвещает оно – смерть? Нет, жизнь всем, кто находится в городе. О неожиданная пощада! Но, может быть, это ложь? Запоёшь ли ты ещё, весёлый перезвон колоколов? Они вступают в город!»
Уленшпигель, Ламме и Неле переоделись немецкими наёмниками и вместе с ними – всего шестьсот человек – заперлись в августинском монастыре.
– Мы умрём сегодня, – шепнул Уленшпигель Ламме.
И он прижал к груди нежное тельце Неле, дрожащее от страха.
– О жена моя, я не увижу её, – вздохнул Ламме, – но, может быть, одежда немецких солдат спасёт нам жизнь.
Уленшпигель покачал головой, чтобы показать, что он не верит в пощаду.
– Я не слышу шума разгрома, – сказал Ламме.
– По договору, – ответил Уленшпигель, – горожане откупились от грабежа и резни за взнос в двести сорок тысяч флоринов. Они должны уплатить в течение двенадцати дней наличными сто тысяч, а остальные через три месяца. Женщинам приказано укрыться в церквах. Убийства начнутся несомненно. Слышишь, как сколачивают эшафоты и строят виселицы.
– Ах, пришёл нам конец, – сказала Неле. – Я голодна!
– Да, – сказал потихоньку Ламме Уленшпигелю, – кровавый выродок герцогский сказал, что, изголодавшись, мы будем покорны, когда нас поведут на казнь.
– Я так голодна! – сказала Неле.
Вечером пришли солдаты и принесли по одному хлебу на шестерых.
– Триста валлонских солдат повешены на рынке, – рассказывали они. – Скоро ваша очередь. Всегда так было, что гёз венчался с виселицей.
На другой день они опять принесли по хлебу на шесть человек.
– Четырём важным обывателям отрубили головы, – рассказывали они, – двести сорок девять солдат связаны попарно и брошены в море. Жирны будут раки в этом году. Да, вы не потолстели с седьмого июля, когда вас здесь заперли. Обжоры и пьяницы все эти нидерландцы; нам вот, испанцам, довольно двух фиг на ужин.
– Вот почему, – ответил Уленшпигель, – вы повсюду требуете от обывателей, чтобы вас кормили четыре раза в день мясом, птицей, сливками, вином и вареньем; вам нужно молоко для омовения ваших mustachos[194] и вино, чтобы мыть копыта ваших лошадей.
Восемнадцатого июля Неле сказала:
– У меня мокро под ногами. Что это такое?
– Кровь, – ответил Уленшпигель.
Вечером солдаты опять принесли по хлебу на шестерых.
– Где недостаточно верёвки, там справляется топор, – рассказывали они: – триста солдат и двадцать семь горожан, которые вздумали убежать, шествуют теперь в ад, неся свои головы в руках.
На другой день кровь опять потекла в монастырь; солдаты пришли, но не принесли хлеба, а только смотрели на заключённых и говорили:
– Пятьсот валлонов, англичан и шотландцев, которым вчера отрубили головы, выглядели лучше; эти изголодались, конечно, но кому же и умирать с голоду, как не гёзу: гёз ведь значит «нищий».
И в самом деле, бледные, измождённые, дрожащие от озноба, они были похожи на призраки.
Шестнадцатого августа в пять часов вечера пришли солдаты и со смехом раздавали узникам хлеб, сыр, пиво.
– Это предсмертный пир, – сказал Ламме.
В десять часов пришли четыре батальона: командиры приказали открыть ворота монастыря и, поставив заключённых по четыре человека в ряд, приказали им итти за барабанами и свирелями вплоть до места, где им сказано будет остановиться. Некоторые улицы были красны; и так они шли по направлению к полю виселиц.
Здесь и там на лугах краснели лужицы крови; кровь была кругом под стенами. Тучами носились всюду вороны; солнце заходило в тумане, небо было ещё ясно, и в глубине его робко зажигались звёздочки. Вдруг послышались жалобные завывания.
– Это кричат гёзы, запертые в форте Фейке, за городом, – сказали солдаты, – их приказано уморить голодом.
– И наш час пришёл, – сказала Неле. И она заплакала.
– Пепел стучит в моё сердце, – сказал Уленшпигель.
– Ах, – сказал Ламме (он говорил по-фламандски, и конвойные солдаты не понимали этого гордого языка). – Ах, если бы я мог захватить кровавого герцога и заставить его глотать все эти верёвки, виселицы, плахи, гири, дыбы, тиски, глотать до тех пор, пока он не лопнул бы; если бы я мог поить и поить его пролитой им кровью, чтобы из его продырявленной шкуры и разодранных кишек вылезли все эти деревянные щепки и куски железа и чтобы он ещё не издох от этого, а я бы вырвал у него из груди сердце и заставил его сырьём сожрать это ядовитое сердце. Тогда уже наверное, уйдя из этой жизни, он попадёт в серное пекло, где дьявол заставит его жевать и пережёвывать эту закуску, и так во веки веков!
– Аминь! – сказали Уленшпигель и Неле.
– Но ты ничего не видишь? – спросила она.
– Нет.
– Я вижу на западе пять мужчин и двух женщин, – сказала она, – они сидят кружком. Один в пурпуре и в золотой короне. Он кажется главою прочих; они все в лохмотьях и тряпках. И на востоке, я вижу, тоже явились Семеро; один во главе их; он тоже в пурпуре, но без короны. И они несутся к западным женщинам и мужчинам. Они бьются с ними в облаках, но больше я ничего не вижу.
– Семеро, – сказал Уленшпигель.
– Я слышу подле нас, – сказала Неле, – в листве голос, точно дуновение ветра, говорит:
Средь развалин, в огне,
И мечом на войне —
Ищи!
Там, где смерть, боль и страх,
И в крови, и в слезах —
Найди!
– Не мы – другие освободят землю Фландрскую, – сказал Уленшпигель. – Ночь темнеет, солдаты зажигают факелы. Мы уже подле поля виселиц. О милая моя подруга, зачем ты пошла за мной? Больше ничего не слышишь, Неле?
– Слышу, – ответила она, – в хлебах звякнуло оружие. И там над этим склоном, повыше дороги, по которой мы идём, видишь, блеснул на стали багровый отсвет факелов. Я вижу огненные кончики фитилей аркебузов. Спят наши конвойные или ослепли. Слышишь громовый залп? Видишь, как падают испанцы под пулями? Слышишь: «Да здравствуют гёзы!»? Бегом вверх по тропинке они подымаются с копьями наперевес; они сбегают по склону с топором в руке. Да здравствуют гёзы!
– Да здравствуют гёзы! – кричали Ламме и Уленшпигель.
– Вот солдаты дают нам оружие, – говорила Неле, – бери, Ламме, бери, дорогой! Да здравствуют гёзы!
– Да здравствуют гёзы! – кричит толпа пленников.
– Непрестанно палят аркебузы, – говорит Неле, – они падают, как мухи, потому что освещены факелами. Да здравствуют гёзы!
– Да здравствуют гёзы! – кричит отряд спасителей.
– Да здравствуют гёзы! – кричат Уленшпигель и пленники. – Испанцы в железном кольце! Бей, бей! Уж нет ни одного на ногах. Бей без пощады, война без жалости! А теперь собирай пожитки и бегом в Энкгейзен[195]. Кому суконное и шёлковое платье палачей? Кому их оружие?
– Всем, всем! – кричат они. – Да здравствуют гёзы!
И в самом деле, они возвращаются на судне в Энкгейзен.
И Ламме, Неле и Уленшпигель вновь на своих кораблях. И снова поют они в открытом море: «Да здравствуют гёзы!»
И крейсируют перед Флиссингеном.


