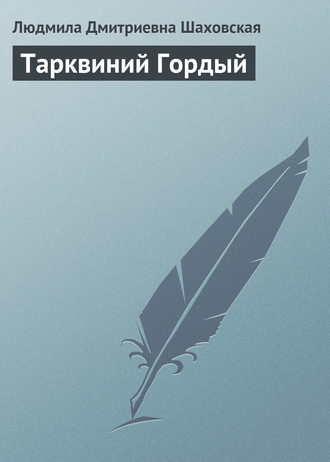
Людмила Шаховская
Тарквиний Гордый
ГЛАВА XXIV
Роковая ловушка
Лампа, с которою Турн благополучно сошел по скользким, сырым ступеням деревянной лесенки, была так устроена, благодаря ее высокой ручке и загнутому устью для фитиля, что она освещала только нижние места подземелья, оставляя стены в потемках. Не зная, как с нею обращаться, Турн остановился на последней ступеньке, опасаясь завязнуть в грязи, и сел, прислушиваясь ко всем звукам, доносившимся сверху.
Сначала раздавалось только хрюканье и сопенье множества спящих свиней, чмоканье поросят, ворчанье собак. Все это было до такой степени неинтересно, что внимание спрятанного скоро отвлеклось на другое: Турн, как помещик очень богатый, не вмешивался во все мелочи своего хозяйства, предоставив их на полную волю управляющего. Он стал теперь сердиться на Грецина, что тот допустил в его владениях устройство склада краденых вещей, и принялся осматривать яму, вертя лампу во все стороны, пока ему не удалось направить ее свет в такое место, где что-то блестело.
Он встал со ступеньки и начал осторожно красться, согнувшись под низким потолком, размышляя:
– Какая дрянная яма! Лучше ли я сделал, что засел в нее? Коварный Ловкач сбил меня с толка; я его послушался, потому что мне хотелось отвязаться от болтовни льстивого Бибакула. Лучше бы мне уйти в лес или в деревню; я добыл бы лошадь, чтобы ускакать к войску или хоть в Ариций. Не все в Лациуме на стороне Тарквиния и Руфа. Конечно, проклятье от фламина-диалиса получить ужасно, но у меня защитники нашлись бы… не посмотрели бы на все громы Юпитера, если бы Руф стал грозить ими.
Блестящий предмет, привлекший внимание Турна, оказался мечом, который лежал на полу у стены.
– Меч! – воскликнул Турн, приходя в ярость от гнева. – Как он попал в свинарню моего поместья?
А между тем «фламинское проклятье», которого Турн опасался, как страшного средства, способного взбудоражить народный фанатизм, уже пущено в ход против него.
Тарквиний Гордый среди тиранов Рима отличался умением выискивать самые действительные средства, и намеченные проскрипты редко ускользали от его беспощадных рук.
Турн осветил стену выше и еще сильнее удивился, открыв древко копья, дальше другое, третье, щиты, мечи, пращи.
– Вместо краденой свинины оружие! – продолжал он размышлять. – В высшей степени не понятно!
Погреб оказался просторным, но вплотную набитым всякого рода оружием, как настоящий арсенал.
– Горе мне! Я попал в западню! – воскликнул несчастный.
Многое, что прежде казалось ему пустяками или туманными недомолвками в разговорах Брута, которого он всегда считал чудаком, стало теперь ясно. Любовь к жизни закипела в его мужественном сердце; отчаяние возбудило его энергию.
– Надо вылезти отсюда и бежать в лес, – решил он, – я латинский и римский сенатор; мой меч я забыл взять, но тут много оружия; я буду биться до последней крайности со всяким, кто вздумает препятствовать моему бегству; я вырос среди оружия; отцовский щит был моею колыбелью, а над нею перекладиной для занавески – вбитое в стену копье; мечи служили моими игрушками. Я ходил в бою один на десять неприятелей, а у Тарквиния не могло быть очень большой свиты, половину задержит и уложит насмерть верный Грецин; он умрет за меня; я знаю его преданность. Я могу отбиться в этой свинарне, даже не убегая в лес; я буду кричать; поселяне сбегутся и часть их примет мою сторону. Иди, иди, Тарквиний, регент – самоуправец!.. Я убью тебя, как муху! Ты узнаешь, что дух могучих героев-предков еще жив в груди Турна Гердония!
Он взял из склада два дротика, попробовал их острия пальцем и убедившись, что они отточены, поставил лампу около лестницы, намереваясь уйти из ямы, но вверху послышался шум, не похожий на ночную возню свиней с поросятами, блеснул свет от множества принесенных огней, и голос, который был хорошо знаком Турну.
– Идите же туда, идите! – говорил Тит-лодочник. – Я исполнил мой долг.
Творило поднято и на верхней ступеньке лестницы показалась ступня человеческой ноги, обутой в красный суконный сапог римского сенатора.
Не размышляя о личности пришедшего, Турн метнул один из приготовленных дротиков, намереваясь с другим пробить себе дорогу в мужестве отчаяния.
– О, префект! Ох! Я ранен! – вскричал римлянин и грузно свалился в погреб.
– Сдавайся, изменник, чтобы умереть заслуженною казнью! – прогремел под крышей закуты ужасный голос Тарквиния.
Толстое полено, брошенное Титом, оглушило спрятавшегося; Турн упал без чувств, выронив второй дротик, которым метил в регента.
ГЛАВА XXV
Приговор беззаконника
Очнувшись, Турн увидел себя лежащим на скамье, принесенной из жилища сторожа, поставленной снаружи около закуты. Верный Грецин заботился о нем, тер ему виски уксусом, со словами самого теплого и искреннего участия. Старик, очевидно, только что выдержал борьбу, защищая усадьбу, и побежден численным перевесом напавших; его овчинное платье все растерзано, так что едва держалось на грузной фигуре; волосы всклочены; один глаз припухал, подбитый чьим-то кулаком или палкой.
– Господин! – вопил он, наклоняясь к лежащему. – Горе нам, господин! Да! Пропал ты, пропадем с тобой и все мы! «Дальше от Зевса, дальше от молнии» пословица-то говорит… Да!.. Разразил гром дуб вековечный, поломается с ним и весь поддубняк… Ты, господин, совсем невинный человек, осужден умереть, но нас-то, рабов-то твоих подневольных, за что же губить! За что же? Разбой! Беззаконие!.. Да!..
– Грецин! – произнес Турн, открывая глаза.
– Ты жив! – продолжал слуга. – Я этому несказанно рад… рад услышать еще несколько слов от тебя, мой дорогой господин, но не могу не сказать, что в тысячу раз было бы лучше, если бы изменник Тит пробил тебе голову до смерти.
– Что случилось Грецин? – прошептал Турн слабым голосом. – Где я? Неужели в свинарне? Неужели это не сон?
– О, господин! Я отдал бы жизнь мою, чтобы превратить в сон то, что случилось наяву.
Верный старик опустился на колена перед скамьей и припал, целуя ноги лежащего патриция с горьким рыданием.
– Турн Гердоний! Мой дорогой господин! Мы погибаем!.. Мы оба осуждены на смерть; я за то, что запер ворота, не давал ворваться, а ты…
– Отойди прочь, старик! – перебил Тарквиний, стоявший в головах скамьи. – Твой господин настолько уже оправился, что в силах ответить на мои вопросы.
– О, префект!.. Смилуйся над ним!.. – завопил управляющий, еще крепче обнимая ноги своего господина.
– Я не считаю себя обязанным отвечать ни на какие вопросы, – возразил Турн, возвращая самообладание и свою обычную гордость. – Ты, префект Люций Тарквиний, скоро ответишь пред судом царя за нанесенное мне оскорбление.
– Смилуйся, префект! – повторил Грецин. – Верь моим клятвам, что ни я, ни господин ничего не затевали дурного; заговор против царя!.. Разве это мыслимо со стороны такого доблестного человека!.. Это клевета твоего невольника, который стакнулся с нашим Балвентием и вместе тут в свинарне наложили оружия под видом краденого твоим рабом у тебя. Революция… измена царю… узурпаторский захват уничтоженного престола Альбы-Лонги!.. Каких ужасов ты нам наговорил, префект!.. Да!.. Это невозможно!.. Казни нас обоих, как тебе угодно, но не теперь, а после возвращения царя из похода, после его суда… ведь, это разбой!.. Да!..
Тарквиний дал знак; четверо поселян отняли руки Грецина от ног сенатора и оттащили его от скамьи, невзирая на все мольбы и сопротивление.
– Молчи, старик, – сказал Тарквиний, – твои рыдания совершенно бесполезны. Сдержи их, чтобы ясно дать ответы, как тоже подлежащий самой строгой каре. Смерть висит над твоею головой; ты от нее никуда не уйдешь.
Помолчав немного, он обратился к лежащему.
– Обвиняемый в государственной измене, сенатор латинского союза Турн Гердоний, встань!..
Турн молчал неподвижный.
– Что же не исполняешь слово заместителя царя твоего?.. Или не слышишь?.. Если не поднимешься, я прикажу воинам и мужикам стащить тебя со скамьи.
Турн поднялся, печально озираясь вокруг.
– Тарквиний!.. Тарквиний!.. Тиран!.. Самоуправец!.. Беззаконник!.. – вымолвил он.
– Наконец-то заговорил!.. – Произнес регент со злобною насмешливостью, усаживаясь на скамью, покинутую Турном.
Услужливый Тит мигом поднес ему сколоченный из досок на скорую руку столик, а раненный Бибакуль положил выделанную кожу для писанья и проч. принадлежности.
Пока регент с важностью устраивался для совершения нового акта беззакония, несчастный Турн обводил глазами все окружающее. Он увидел двух стражников-ликторов, стоящих с топорами и связками прутьев около двери в закуту, двух других ликторов у стены, где прижался и Тит, что – то бормочущий вполголоса этим солдатам, в то же время разгрызая semen, тыквенные зернышки и подсолныши, во все времена и веки любимейшее лакомство итальянского простонародья в минуты безделья, чему не чужды и некоторые другие народы земли до наших дней.
Турн увидел, что его верный Грецин стоит, опираясь о плечо своего приятеля, деревенского старшины Аннея, заливаясь слезами от печали и страха, не слушая уговариваний других старшин, окруживших его.
Грецин никак не мог понять того, что для Турна было совершенно ясно, не мог сообразить своим довольно развитым, но постоянно отуманенным винными парами умом, что такое случилось? Ему лезла в голову мысль, что вернее всех отгадали деревенские, и теперь упрямее прежнего твердившие, что все это устроил леший здешних мест, Сильвин Инва, потому что Грецин не хотел добровольно отдаться за господина в жертву ему или иному мелкому божку местных святилищ.
– Они все стакнулись с Инвой против вас! – неопровержимо, как аксиому, говорил старшина Камилл, прозвищем Сухая Жердь, по его худобе при высоком росте.
– И Терра, и Палее, и Коне, и Оне, и Лалара, и Кармента, – добавил Анней, – известно, что вся эта мелкая братия божков-трущобников – злючки; чуть им не только жертвы не дашь, но даже если не додашь чего-нибудь, мигом свои козлиные рожки навострят и норовят пырнуть.
Рыбак Целестин прервал красноречие Аннея, дернув его за платье, приглашая жестом обратить внимание на регента, начинающего допрос уличенного помещика.
– Сенатор Турн Гердоний, – снова начал Тарквиний, обмакивая писчую кисточку в чернила, – ты должен немедленно ответить на несколько вопросов, которые я имею право тебе сделать, как заместитель царя.
– Вопросы… мне… от тебя!.. – проговорил Турн с тоскою, примешанною к его гневу.
– Именно, стой смирно, если хочешь быть связан раньше времени, и отвечай. Ты найден в погребе среди большого склада оружия и амуниции; найден с оружием в руках. Должен ли я напомнить тебе, что я регент, заместитель Сервия?..
– И самоуправец, превысивший данные тебе царем права.
– Неужели я должен принять меры, чтобы заставить тебя вести более вежливую речь?
– Я считаю унижением моего достоинства какие бы ни было переговоры с тобой.
– В таком случае, даю тебе право молчать. Свидетели видят и слышат, что подсудимый отказывается от своего участия в судоговорении, поэтому он выслушает только свой приговор. Турн Гердоний, ты имел два дротика в руках, когда, посланный мною, сенатор Бибакуль стал сходить вниз по лестнице погреба, чтобы удостовериться, что ты действительно там, как нам донес один верный поселянин.
– В Ариции я говорил тебе грубую, жесткую правду, Тарквиний, но здесь… Здесь я только сегодня впервые узнал о самом существовании этой ямы, – возразил Турн.
Тарквиний сделал вид, будто не слышит, продолжая обвинение.
– Дротики были отточены; это доказывается раной Бибакула, в которого один из них ты метнул, Турн Гердоний. Метнул, несомненно видя, так как у тебя была лампа, что идет не мужик-рустикан, не городской пролетарий, а сенатор римский в латиклаве и красных башмаках служебного мундира.
– Я хотел отбиться от сенаторов, поступающих, как разбойники, вопреки воле царя. Я намеревался уехать в Этрурию с доносом Сервию на самоуправство его зятя, принести не вам, а царю, мою клятву, что я не знал о существовании этого склада оружия. Тит-лодочник заманил меня уверениями, будто эта яма назначена для свинины.
– Назначена для свинины! – воскликнул Тит, продолжая грызть подсолныши, – о, господин!.. И ты говоришь это, потомок рутульских царей!.. Говоришь мне, твоему вернейшему пособнику!..
– Пособнику?.. В чем, негодяй? – обратился к Титу Турн, бросая свирепые взгляды.
– Твое отрицание ничему не поможет, – заявил Тарквиний, – лодочник уже получил от меня полное прощение за то, что сознался во всем.
– В чем мог он сознаться относительно меня?
– Тит сознался, что ты сам велел ему привезти оружие в эту яму.
– Он с ума сошел! – воскликнул Турн печально и смущенно.
– О, господин! – обратился к нему Тит, начиная плакать, но продолжая грызть тыквенные семечки вместо подсолнышей. – Можно ли потомку рутульских царей говорить такую неправду?! Ты сам меня сделал сообщником твоего преступления, а теперь валишь всю вину на меня одного. Это бесчестно для такого вельможи!..
Турн смолчал, поняв суть интриги.
– Об этом знал твой прежний свинопас Балвентий, которого ты нарочно, чтобы избавиться от лишнего свидетеля, отдал в жертву на алтарь деревенской богини, – продолжал Тит еще смелее обвинение, – оружие возил сюда его сын или, все равно, чужой, но он называл его сыном, невольник из вейентов; нам он себя выдавал за слугу царского, но после я дознался, что этот человек был слугою твоего недавно казненного за измену зятя, Авфидия, этруска из Церы.
– Ложь!.. Ложь!.. Ложь!.. Ах, какая ложь!.. – воскликнул Турн тихим голосом, немного приподнял голову, и снова понурил ее еще ниже на грудь.
– Наваждение лешего! – вскричал Грецин, схваченный и связанный деревенскими старшинами.
ГЛАВА XXVI
Прямолинейный человек
Увидев начавшийся пожар при разгроме усадьбы, Виргиний побежал туда вне себя от опасений за жизнь Амальтеи и ребенка, не слушая больше никаких доводов дряхлой Стериллы, но ничего не узнал о судьбе своей конкубины и сына.
Поселянам было не до них. Один уверял его, будто Амальтея на этих днях отчего-то утопилась или случайно утонула; другой клялся, что Турн подарил ее своему приятелю Бруту, в жены его конюху.
Тит, перебив все эти толки деревенских сплетников, заклялся, что мужики все это врут, внук его покровителя фламина не должен беспокоиться: Турн и Грецин осуждены регентом на казнь за их доказанную измену и покушение на жизнь его и фламина, но их сыновья и Амальтея куда-то скрылись три дня тому, а Тит на своем перевозе сегодня достоверно разведал, что им всем еще до катастрофы удалось уехать с Эмилией и ее дочерью в Этрурию к умирающему Скавру.
Виргиний удовольствовался этими сообщениями Ловкача, и в более спокойном настроении пошел смотреть гибель Турна.
– Если даже ты невинен, господин, в чем тебя обвиняют, – продолжал Тит в момент прихода фламинова внука, – если ты не знал, или забыл твое приказание и намерение, перестал желать сделать смуту… ведь, это уже два года назад, ты устроил склад… то твое сегодняшнее двойное покушение, на жизнь могучего регента утром, а еще…
– Какое двойное? Что еще? – спросил Турн, удивляясь изобретательности своих врагов.
– Вечером ты покусился убить великого фламина… неужели ты будешь отрицать и это, господин?
– Вечером… фламина… какого из фламинов? Их в Риме несколько десятков и, к сожалению, лишь два или три достойно носят этот высокий сан, а прочие… Ах, лучше не говорить о них!.. Каковы боги, таковы и жрецы!..
– Это было при мне, господин, на закате солнца, – продолжал Тит, – ты, не доехав до твоей усадьбы, притаился в горах; я шел, сопровождая великого фламина Руфа, вернувшегося из Ариция; мы намеревались созвать поселян для защиты регента от возможности твоего вторичного нападения. Мы тебя оба видели на уступе горы; ты бросил огромный камень, чтобы убить Руфа, но к счастью, ранил его только в плечо.
– Я ранил Руфа!.. Есть ли правда на свете после этого! – вскричал Турн. – Мне остается просить об одном: дайте мне меч, чтобы честно заколоться, принять смерть от своей руки, не под секирой палачей злодея!..
– Ты примешь смерть не под секирой, Турн, – молвил Тарквиний мрачно, – секиры мало для возмездия за такие преступления. Вот, идет Руф… слушай, что скажет он.
Еще более бледный от потери крови и владевшей им злости, еще более величавый от сознания своей удачи, верховный жрец приблизился к центру луговины перед закутой и провещал нараспев, точно стоя перед жертвенником, клятву своим саном, что ранен камнем, брошенным с горы человеком, совершенно подобным Турну Гердонию.
Призывая Юпитера в свидетели своей жреческой клятвы, Руф поднял золотой посох, символ его сана, высоко кверху, и… совершилось чудо, – простое явление для нас, потому что заходила туча, – но необъяснимое у древних, не знавших электричества, – на верхушке золотого посоха появился синий огонь… Руф бросил посох к закуте… и в ту же минуту грянул страшный громовой удар, притянутый острым железом мечей и копий в то место, где был вырытый погреб с оружием.
Не доискиваясь причин всего этого, Руф указал присутствующим на развалившуюся часть стены и крыши здания с одним словом:
– Видите?!
Все упали перед ним на колена, восклицая, что он «свят» перед богами, так как Юпитер ответил ему, разразил доказательство козней его врага, склад припасенного оружия. Только Тарквиний не счел нужным преклониться перед Руфом, зная, что тот «отъявленный хитрец»; не преклонился и Турн, сознавая свою невинность.
– Юпитер отвечает не Руфу, а мне, – заявил этот прямолинейный человек; неустрашимый ничем на свете, он стоял по-прежнему горделиво, указывая на скачущего всадника, – Юпитер разразил доказательство клеветы на меня, этот склад, сделанный настоящим изменником, замыслившим погубить царя и всех его сподвижников. Вот, гонец царя Сервия!..
– Царский гонец! – подтвердил Бибакул, всмотревшись в прибывшего.
Все узнали Брута.
– Привет префекту-регенту! – произнес молодой патриций, отдавая честь прикладыванием руки ко лбу и груди, спешился и подошел, – великий царь, получив донос в государственной измене на сенатора Турна Гердония, немедленно повелевает отослать его к нему в Этрурию для суда. Вот приказ царя.
Тарквиний хладнокровно распечатал и мельком пробежал глазами врученную ему хартию, причем на губах его появилась едва уловимая ироническая усмешка.
– Я понял, что с этим доносом к царю успел слетать в Этрурию именно ты, мой милый «Говорящий Пес», – сказал он Бруту, – но ты (увы) опоздал… улики виновности подсудимого явны до такой степени, что я считаю своим долгом избавить моего престарелого тестя, царя Сервия, от лишних хлопот судебной процедуры, но… впрочем… если осужденный Турн станет просить меня о помиловании в такой форме, как просил бы царя… склонившись к ногам моим…
– Склоняться в унижении перед тобой, убийца моего зятя?.. Никогда!.. – произнес Турн глухим, подавленным голосом. – Молить о жизни тебя, отравитель моего тестя?.. Ни за что!.. Я потомок рутульских царей; я равен тебе, сын Приска; унижаться перед тобой я не стану, а если бы и стал, то пользы мне не будет ни малейшей… Я понял слишком хорошо тебя, Люций Тарквиний!.. Натешившись моим унижением, ты все-таки меня погубишь, выискав другой предлог. Я понял, что спасения мне нет. Брут, мой милый Юний!.. Расскажи царю и Скавру, как я умер… Они стары… Не им, а тебе, как опекуну, я поручаю моих детей… особенно младших… замени им отца. Моя Ютурна красавица… опасный дар судьбы!.. Эмилия совсем крошка… жена… что будет с нею без меня?! Ах!.. Брут, скажи царю, что моими последними словами было: я не изменник. Я честно прослужил в течение целой жизни Риму и царю Сервию, и верным их слугою умираю, а Тарквиний – злодей, недостойный данного ему доверия царя, самоуправец.
– Он отказался от помилования!.. – воскликнул плачущий Грецин.
– Он отказался!.. – эхом повторили поселяне возглас и печально и удивленно.
Они не понимали, что чувствует настоящий, родовитый аристократ в минуты своего унижения, но их симпатии, тем не менее, начали возвращаться к доблестному человеку, с которым интриган-жрец рассорил их.
– Рок!.. – произнес сухопарый Камилл мрачно. – От судьбы не уйдешь.
– Боги карают его за недостаточное усердие к чествованию деревенских святилищ, – прибавил Анней.
И все стали толковать на свой лад о причинах отказа Турна просить пощады, только никто не верил в его виновность, по убеждению, что Тит донес на него со злобы или, вернее, в угоду фламину, заманил в погреб к оружию, краденному сыном прежнего свинопаса.
– Над этою несчастною усадьбой носится неумолимый Морс (дух Смерти), – шепнул Брут Виргинию, – знаешь, Децим, чего я боюсь?.. Что предвижу?.. Скоро будет навеки заперт семейный склеп Гердониев и Скавров, потому что некого станет хоронить в нем и некому оплакивать, поминать умерших; изведет тиран весь род своих противников.
– А Эмилий Скавр? – спросил Виргиний.
– Я уверен, что и ему не дадут пережить зятя.
– Но его здоровье поправляется.
– Второй раз отравят. Не дадут и жене пережить мужа, и детям отца.
Слеза показалась на ресницах молодого патриция; прослезился и раб его, конюх Виндиций, прибывший с ним из Этрурии; Виргиний старался скрывать свою скорбь.
Они шептались, пользуясь тем, что Тарквиний не смотрел в их сторону, заинтересованный рассмешившею его жестокое сердце сценой народной расправы самосуда со старым невольником, причем один из деревенских старшин в распоряжениях грабежа усадьбы копировал самого регента, чего к его благополучию, тот не понял.






