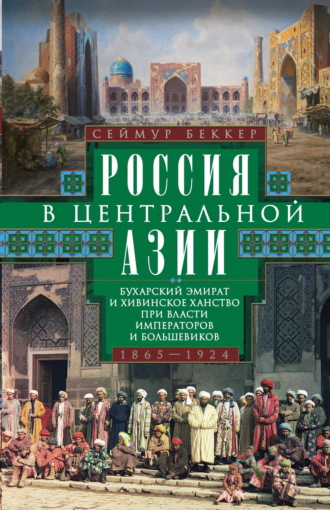
Сеймур Беккер
Россия в Центральной Азии. Бухарский эмират и Хивинское ханство при власти императоров и большевиков. 1865–1924
Хива тем временем стремилась заключить союз с Бухарой. Эмир, чьи отношения с Россией только что наладились благодаря стараниям миссии Струве, следуя предписаниям из Ташкента, задержал хивинского посла. Поскольку планируемая генералом фон Кауфманом кампания была временно отложена, он принял предложение Музаффара о посредничестве и отправил в Бухару свои условия для урегулирования. Хива должна была передать всех русских пленных, прекратить защищать грабителей и отправить посольство в Ташкент. Эмир переслал эти условия в Хиву со своим собственным посланцем. Мухаммад Рахим, недовольный такими нежданными последствиями его сближения с Бухарой, передал условия русских совету, куда вошли кушбеги и диван-беги. Посланец Бухары два месяца ждал ответа в Хиве, но только один раз был приглашен присутствовать на заседании совета. В конце концов хан отправил его, заявив, что статус-кво будет сохраняться до тех пор, пока Россия не пообещает признать нерушимость хивинской границы.
Несмотря на то что Россия занималась другими делами, ее бездействие на хивинском фронте не было абсолютным. Весной и осенью 1870 года из Красноводска в направлении Хивинского оазиса отправились две разведывательные экспедиции. В сентябре 1871 года рекогносцировка осуществлялась с двух сторон: русские отряды двигались из Красноводска и из Джизака и дошли соответственно до западной границы Хивы на озере Сарыкамыш и до ее восточной границы в Буканских горах. В результате вера Хивы в эффективность ее природных бастионов сильно пошатнулась, и она, чтобы предотвратить надвигающееся нападение, снова обратилась к дипломатии.
Подобно Бухаре в 1865 году, Хива попыталась перешагнуть через голову Ташкента и связаться напрямую с правительством империи. В конце 1871 года хан отправил посольства в Петербург и Тифлис, чтобы пожаловаться на враждебные действия Кауфмана, выразить протест против претензий Ташкента на левый берег низовий Сырдарьи и дать понять, что Хива не станет отдавать пленных, пока не будет урегулирован пограничный спор. По приказу из Петербурга хивинских послов задержали в Оренбурге и на Кавказском побережье Каспия. Им сообщили, что освобождение пленных и отправка посольства в Ташкент являются предварительными условиями любых дальнейших переговоров. В июле 1872 года посол Мухаммада Рахима прибыл в Индию, чтобы просить британского посредничества между Хивой и Россией, но Калькутта посоветовала ему выполнить требования русских и вести себя по-дружески в отношении Ташкента. Преемник Мэйо лорд Нортбрук продолжал придерживаться политики, согласно которой Хива находилась в русской сфере влияния в Центральной Азии.
В середине 1872 года проблему Синьцзяна временно удалось решить. Летом 1871 года Россия заняла Кулджу и долину реки Или. 8 июня 1872 года, не сумев обеспечить себе поддержку Индии, Якуб-бек нехотя подписал торговый договор с Россией, идентичный тем, которые Кауфман заключил четыре года назад с Кокандом и Бухарой. Тем не менее отношения Якуб-бека и России не предполагали такой же зависимости от России, как у его западных соседей. Он не ощутил на себе силу русского оружия, да и британцев Кашгар беспокоил больше, чем Бухара и Коканд. После того как миссия Т.Д. Форсайта побывала в Кашгаре в декабре 1873 года, Якуб-бек снова стал тяготеть к Индии. Сначала он нарушил договор 1872 года, возобновив дискриминационную политику в отношении русской торговли, затем, в феврале 1874-го, русско-кашгарский договор был приостановлен действием англо-кашгарского договора. Поведение Якуб-бека демонстрирует, что русское влияние в Бухаре и Коканде после 1868 года базировалось не только на юридических основаниях, поскольку оба этих государства были связаны с Россией договорами не более тесно, чем Кашгар, но и на политических взаимоотношениях, которые между Россией и Кашгаром не существовали.
Избавившись от проблемы с Синьцзяном, Россия наконец смогла сосредоточиться на Хиве. В октябре 1872 года с Каспия на западную оконечность Хивинского оазиса была организована разведывательная экспедиция, по масштабу превосходящая все предыдущие. 4 декабря Кауфман отправил на специальное совещание под председательством Александра II длинный доклад по Центральной Азии. Генерал-губернатор выразил протест против «неестественного, ненормального и в то же время недопустимого отношения к нам Хивинского ханства». Хиву никогда не удастся образумить, пока штурм ее столицы не станет убедительным доказательством ее слабости и могущества России. Совещание уполномочило Кауфмана предпринять военную экспедицию. В то же время его обязали следить, «чтобы Хива была не аннексирована империей, а как и соседние страны Центральной Азии, подчинена ее влиянию с точки зрения развития наших торговых интересов». Цель экспедиции ограничивалась наказанием Хивы и принуждением к согласию с весьма умеренными требованиями России. Несмотря на то что Горчаков согласился с этими целями, он выступил – хотя и безуспешно – против захвата хивинской столицы. По опыту предыдущих восьми лет он знал, каким бывал результат «временной» оккупации города в Центральной Азии.
12 декабря план кампании получил окончательное одобрение императора, и Кауфману был дан приказ в такой форме: «Его Величество Император в очередной раз снисходительно указывает, что он ни при каких обстоятельствах не станет приветствовать расширение границ империи, и вам предписано при проведении действий против Хивы неукоснительно следовать воле Его Величества как руководящему принципу». Особенно настойчиво Кауфману напомнили, что «после того как Хива будет наказана, наши войска должны сразу оставить ее территорию». Графу П.А. Шувалову, отправленному в Лондон организовывать свадьбу царской дочери и одного из сыновей Виктории, было поручено заверить Англию, что Россия не намерена расширять свои владения за счет Хивы.
Покорение Хивы
Атака на Хиву, в которой участвовали русские войска численностью 12 300 человек, началась со всех сторон света: из Ташкента, из Казалинска, из Оренбурга и из двух пунктов каспийского побережья. Россия не собиралась рисковать повторением 1717 и 1839 годов. Еще до того, как русские войска начали наступление, Мухаммад Рахим попытался избежать надвигающейся катастрофы, освободив 21 русского пленного, которых удерживали в Хиве, и отправив их в Казалинск. Однако Россию нельзя было сбить с цели. 8 мая 1873 года самый важный город в северной части ханства Кунграт сдался русским. 26 мая, когда русские стояли у ворот его столицы, Мухаммад Рахим отправил посланца к Кауфману сказать, что, раз русские пленные уже освобождены, он не понимает, почему Кауфман не отводит свои войска и не ставит условий. Генерал-губернатор ответил, что говорить будет только в столице. Через два дня хан отправил своего двоюродного брата к Кауфману, стоявшему в то время в 13 милях от города, чтобы предложить безоговорочную сдачу и вечное подчинение России, если Кауфман прикажет остановить атаку на столицу, начавшуюся в тот день из Оренбурга. Кауфман потребовал, чтобы хан встретился с ним лично на следующее утро в четырех милях от столицы. Утром 29 мая дядя и брат Мухаммада Рахима явились на встречу, чтобы сообщить, что хан бежал к туркменам и что теперь они являются регентом и ханом. В тот же день Кауфман вошел в столицу. Известие о захвате Хивы отправили в Ташкент, откуда его передали в Петербург. Оно стало первым сообщением, отправленным телеграфом по только что построенной линии из Ташкента в Верный.
Генерал фон Кауфман отказался иметь дело с братом хана Атаджан-тюрой, которого, по-видимому, посадили на трон против его воли. Генерал-губернатор настаивал на личной сдаче Мухаммада Рахима, поскольку в своих прокламациях Кауфман заявлял, что воюет против правителя, а не против народа Хивы. Более того, подписанный Атаджан-тюрой мирный договор не имел бы силы, если бы позднее к власти вернулся Мухаммад Рахим. На следующий день хан приехал в русский лагерь, расположенный рядом с Хивой, и сдался. Победа Кауфмана была полной.
Во время русской оккупации Хивы генерал Кауфман принимал активное участие в управлении ханством. Несмотря на то что 6 июня Мухаммад Рахим снова вошел в свою столицу, он больше не был суверенным правителем. Кауфман создал диван (совет), состоявший из трех русских чиновников, купца из Ташкента и трех знатных хивинцев, включая нового диванбеги. По настоянию Кауфмана хан уволил своих антирусских советников, самым главным из которых был диванбеги Мухаммад Мурад. Русские арестовали Мухаммада Мурада и выслали его в Калугу, расположенную примерно в ста милях от Москвы. Новый диванбеги Мухаммад Нияз принадлежал к партии мира и весьма лояльно относился к интересам России. Диван наделили всей полнотой административных прав, хотя законодательная власть осталась за ханом. Диван стал инструментом, с помощью которого во время русской оккупации ханством правил Кауфман. Четверо из семи членов дивана назначались самим Кауфманом, а назначение троих оставшихся требовало его одобрения. Совещания дивана проходили не в столице, а за ее стенами, близ русского лагеря. Но в итоге это был временный орган, который прекратил свое существование через два с половиной месяца после окончания российской оккупации.
Самым большим достижением дивана стало запрещение рабства в Хиве. После захвата столицы русскими рабы, численность которых в ханстве составляла 30 000 человек – преимущественно персы, – подняли смуту, и были приняты строгие меры на их усмирение. Действуя через диван, Кауфман уговорил хана, и тот 12 июня выпустил прокламацию, запрещающую рабство и предоставляющую бывшим рабам равные права с другими обитателями Хивы. Им разрешалось жить в любом месте ханства или уехать из него. К сентябрю 6300 бывших рабов были репатриированы в Персию.
В середине июля русские в течение двух недель проводили военные операции, но не против хана, а против йомутов – самого многочисленного и сильного племени среди туркменских подданных Мухаммада Рахима. По причинам, которые остались совершенно непонятны его современникам, Кауфман наложил на всех туркмен Хивы штраф в 600 000 рублей и дал йомутам две недели, с 7 по 22 июля, на выплату половины этой суммы, поскольку они составляли половину туркменского населения ханства. 6 июля генерал-губернатор приказал своим войскам зайти на туркменские земли, располагавшиеся к западу от столицы, и убедиться, что йомуты собирают требуемую сумму. Если они этого не делали, что было весьма вероятно с учетом отсутствия денежного обращения среди туркмен, войска должны были уничтожить все племя и конфисковать его собственность. За этим последовала массовая резня казачьими войсками йомутов и их домашнего скота одновременно с уничтожением их урожая и их поселений.
После окончания кампании против йомутов у Кауфмана не осталось денег на походный марш обратно в Ташкент, поэтому 21 июля он приказал собрать с других туркменских племен их часть штрафа в размере 310 500 рублей. Половину суммы им разрешалось отдать верблюдами, а другую половину – деньгами или золотыми и серебряными предметами. К крайнему сроку платежа, 2 августа, туркменам удалось собрать всего 92 000 рублей, но ввиду их явного намерения заплатить Кауфман дал туркменам рассрочку на неопределенный срок, но взял 26 заложников.
Русско-хивинский договор
12 августа 1873 года Кауфман и Мухаммад Рахим поставили свои подписи под договором, который Кауфман подготовил и в начале июня отправил с курьером императору. Хивинский договор отличался от договоров 1868 года с Бухарой и Кокандом как по своим условиям, так и по обстоятельствам, при которых он был заключен. Бухара и Коканд потерпели военное поражение и были вынуждены согласиться с аннексией русскими больших и важных провинций, но только Хива подверглась унижению, когда ее хан лично сдался победоносному наместнику «белого царя», – столица была оккупирована, ханский трон отправили в Москву в качестве трофея, часть ханских архивов переслали в Петербург, а правительство два с половиной месяца напрямую контролировалось русскими. Сам договор был намного более обязывающим, чем предыдущие договоры с Кокандом и Бухарой, благодаря не только обстоятельствам поражения Хивы, но и тому, что предыдущие договоры не смогли стать адекватным доказательством русского доминирования.
В первой статье договора Хива получала юридический статус протектората России. Хан объявлял себя «покорным слугой» русского императора и отрекался от своего права устанавливать международные отношения и направлять свое оружие против другого государства без согласия Ташкента. Таким образом, он лишался одного из самых существенных атрибутов суверенности.
Во второй статье решалась проблема русско-хивинской границы, оставляя русским все плато Усть-Урт на восточном побережье Каспийского моря, и не только левый берег низовий Сырдарьи, но и правый берег низовий Амударьи, а также разделяющую их пустыню Кызылкум. Перемещение русской границы от Сырдарьи к Амударье было вопиющим нарушением инструкций, полученных Кауфманом в 1872 году, и уверений, предоставленных Шуваловым Лондону, но Петербург уступил аргументам Кауфмана. Если бы в будущем потребовалось повторить кампанию против Хивы, логичным результатом стала бы прямая аннексия. Чтобы избежать этого, Кауфман признал необходимым установить русский пост для обеспечения охраны русской границы, держать хана под контролем и при необходимости оказывать ему поддержку против его туркменских подданных. Единственным местом, близким к Хиве и удовлетворяющим всем этим условиям, был плодородный правый берег низовий Амударьи. Сам Мухаммад Рахим говорил Кауфману, что мог бы укрепить свою власть и выполнить обязательства по отношению к России, только если Россия построит поблизости укрепление и разместит там своих солдат. Хан пошел даже дальше и настаивал, чтобы в его столице расквартировали постоянный русский гарнизон. Договор не касался южных и юго-западных границ Хивы, поскольку действия России пока еще не распространялись на пустыню Каракум.
Согласно третьей и четвертой статьям договора, хан соглашался, чтобы Россия без компенсации конфисковала все принадлежавшие ему и его чиновникам земли на правом берегу Амударьи. Исключение сделали только для нового диванбеги Мухаммада Нияза, который сохранил там обширные владения. Все земли на правом берегу, принадлежавшие религиозным институтам левого берега, были конфискованы вместе с доходом от них. Также хан согласился, чтобы часть правого берега Россия передала эмиру Бухары. Статья пятая предоставляла России полный контроль над судоходством по Амударье. Бухарские и кокандские суда могли ходить там только при наличии лицензии от Ташкента. Статьи шесть и семь давали русским подданным право строить вдоль левого берега Амударьи причалы и торговые посты, за безопасность которых отвечали хивинские власти. Статьи с восьмой по одиннадцатую открывали доступ в ханство для русской торговли на условиях, схожих с условиями договоров 1868 года. Разница заключалась в том, что торговля между Россией и Хивой освобождалась обеими сторонами от взимания закята и таможенных пошлин. Статья двенадцать давала русским право владеть в Хиве недвижимым имуществом. Статьи с тринадцатой по пятнадцатую касались рассмотрения гражданских дел с участием хивинцев и русских: русские кредиторы получали преимущество перед хивинскими, а случаи, когда русский был ответчиком, даже если он жил в Хиве, подлежали передаче для рассмотрения русским властям. Статья шестнадцать обязывала Хиву не принимать у себя никаких русских без соответствующего паспорта и выдавать России всех беглых русских для отправления правосудия. В статье семнадцать хан обещал ввести в силу объявленное 12 июня воззвание о запрете рабства. Статья восемнадцать налагала на Хиву контрибуцию в размере 2 200 000 рублей, которую полагалось выплатить за 20 лет.
Таким образом, договор 1873 года давал России исключительные права в Хиве. Помимо ряда существенных торговых привилегий Россия получила контроль над международными делами Хивы и судоходством по Амударье. Русским подданным предоставлялся особый юридический статус, а запрещение рабства стало законодательным обязательством Хивы перед Россией. Многочисленные обязательства Хивы, включая огромную контрибуцию, давали широкие основания для вторжения, если правительство ханства проявит несговорчивость.
Однако сдерживающая рука Петербурга не позволила Кауфману зайти в договоре с Хивой так далеко, как он предлагал в 1871 году в своем секретном соглашении с Бухарой. Россия не получила права контролировать назначение высших хивинских чиновников, как и права санкционировать передачу трона.
В тот же день, когда договор был подписан, русские войска начали уходить. 21 августа на правом берегу Амударьи примерно в 40 милях от столицы ханства русские приступили к строительству укрепления Петро-Александровск. Этот форт должен был стать для них пунктом обороны, наблюдения и поддержки хивинского хана.
Русско-бухарский договор
Во время проведения кампании против Хивы эмир Бухары продолжал вести себя дружественно по отношению к России, вероятно, больше из страха, чем из каких-то более благородных чувств. Дорога Кауфмана из Ташкента проходила через бухарскую часть Кызылкума. Посланцы Бухары встретили его на границе, посол сопровождал его на протяжении всей кампании, а Музаффар мгновенно откликнулся на просьбу генерал-губернатора предоставить ему свежих верблюдов и зерно. 23 апреля Кауфман написал эмиру, благодаря за гостеприимство и называя его «надежным другом и союзником». Еще Музаффар разрешил русским построить на бухарской земле укрепление возле Халата, чтобы защитить багаж, оставленный там до обратного марша. Несмотря на то что эмир действовал, несомненно, в собственных интересах и одновременно с этим, как сообщалось, подталкивал к сопротивлению хивинских туркмен, Кауфман делал вид, что верит в искренность Музаффара, и отблагодарил его, отдав Бухаре небольшую полоску хивинской территории на правом берегу Амударьи.
После ухода из Хивы Кауфман 28 августа отправил из Петро-Александровска К.В. Струве с новым договором, предназначавшимся для подписания эмиром Бухары. Этот новый договор, подписанный 28 сентября, повторял содержание торгового соглашения 1868 года с той единственной разницей, что бухарские караван-сараи допускались только на территории Туркестанского генерал-губернаторства, а не, как раньше, по всей Российской империи. В то же время договор был гораздо более жестким в русле предложений, обсуждавшихся Ташкентом и Петербургом в 1871–1872 годах. Русско-бухарская граница, установленная в 1868 году, признавалась окончательной, что означало конец надеждам эмира на возвращение Заравшанского округа. Амударья была открыта для русских судов; русским подданным разрешалось участвовать в производстве товаров и приобретать недвижимость в Бухаре; правительство ханства было обязано выдавать беглых русских преступников; вопрос об обмене постоянными послами между Ташкентом и Бухарой был решен, работорговля запрещена, хотя о самом рабстве не упоминалось.
Договор с Бухарой оказался во многом проще, чем только что заключенный договор с Хивой, и имел существенные отличия от него, которые опять же отражали различие в обстоятельствах его подписания. Если хивинский договор устанавливал протекторат России над этой страной, лишая хана контроля над международными отношениями Хивы, то бухарский договор сохранял формальный суверенитет государства эмира. Хотя в сопроводительном письме, отправленном вместе с договором, Кауфман упоминал о «мощной защите со стороны Его Величества Императора Всероссийского» в отношении эмира, в том же письме он обещал Музаффару, что до тех пор, пока тот не нарушит своих договорных обязательств в отношении России, будет «как прежде, править своей страной независимо». Сам договор никоим образом не ограничивал суверенитет Бухары. Несмотря на то что с 1868 года Бухара фактически находилась в зависимости от России, юридически ханство оставалась абсолютно суверенным государством даже после 1873 года. Эта правовая формальность не мешала России обращаться с Бухарой, как с зависимым государством, и не мешала Британии признавать вхождение Бухары в сферу влияния России.
Другое различие между хивинским и бухарским договорами можно проследить в основополагающем различии правового статуса двух государств. В Хиве Россия добилась исключительного контроля над судоходством по Амударье. В Бухаре русские и бухарцы пользовались равными правами плавать по этой реке. Право России размещать в Хиве своих торговых представителей было односторонним, в то время как Бухара имела такое же право на территории Туркестанского генерал-губернаторства. Наконец, русские в Бухаре не имели такого особого правового статуса, как подданные императора в Хиве.
Оба договора 1873 года оставались в силе до революции 1917-го. Однако, начиная с 1880-х годов, правовые отличия Бухарского ханства от Хивы постепенно стирались, и процесс шел к тому, что Бухара становилась таким же протекторатом России, как Хива.


