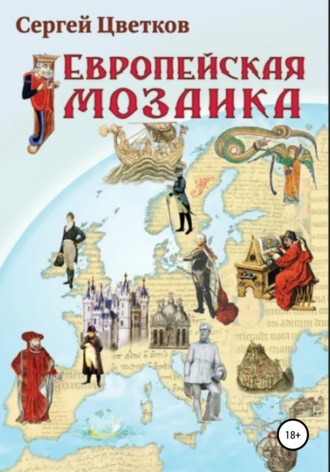
Сергей Цветков
Европейская мозаика
Человек с нимбом
В своём всемирно известном жизнеописании «Жизнь Бенвенуто Челлини, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции» автор рассказывает, что однажды, когда ему было пять лет, его отец, сидя у очага с виолой, увидел маленького зверька вроде ящерицы, резвящегося в пламени. Он подозвал Бенвенуто и дал ему затрещину, от которой малыш заревел. Отец быстро осушил его слёзы ласками и сказал: «Сынок мой дорогой, я тебя бью не потому, что ты сделал что-нибудь дурное, а только для того, чтобы ты запомнил, что эта вот ящерица, которую ты видишь в огне, это – саламандра, каковую еще никто не видел из тех, о ком доподлинно известно».
Читая эту книгу, написанную рукой старца, дрожащей не от слабости, но от заново переживаемого гнева или восторга, видишь пламень, пожирающий самого Челлини.
Ярость буквально душит его. От первой до последней страницы он неистовствует, бесится, бранится, громит, обвиняет, рычит, угрожает, мечется – работа, потасовки и убийства лишь ненадолго выпускают из него пар. Ни одна обида, как бы незначительна она ни была, не остаётся неотомщённой, и о каждом возмездии рассказано простодушно и чистосердечно, без капли сожаления и раскаяния.
Удивляться тут нечему – это Италия Борджа и кондотьеров. Тигр не терпит, когда его дергают за усы. Челлини, этот бандит с руками демиурга, пускает в ход кинжал не реже, чем резец. Помпео, золотых дел мастер папского двора, с которым у Челлини были счёты, убит им в Риме прямо на улице. «Я взялся на маленький колючий кинжальчик, – повествует Челлини, – и, разорвав цепь его молодцов, обхватил его за грудь с такой быстротой и спокойствием духа, что никто из сказанных не успел заступиться». Убийство не входило в его намерения, поясняет Челлини, «но, как говорится, бьёшь не по уговору». Какого-то солдата, убийцу своего брата, он выслеживает «как любовницу», пока не закалывает его у дверей кабака ударом стилета в шею. Почтового смотрителя, который не вернул ему после ночлега стремена, он убивает из аркебузы. Работнику, ушедшему от него в разгар работы, он «решил в душе отрезать руку». Один трактирщик возле Феррары, у которого он остановился, потребовал уплаты за ночлег вперёд. Это лишает Челлини сна: он проводит ночь, обдумывая планы мщения. «То мне приходила мысль поджечь ему дом; то зарезать ему четырёх добрых коней, которые у него стояли в конюшне». Наконец «я взял ножик, который был как бритва; и четыре постели, которые там были, я все их ему искрошил этим ножом».
Свою любовницу-натурщицу, изменившую ему с одним из его подмастерьев, он заставлял часами позировать в самых неудобных позах. Когда девушка потеряла терпение, Челлини, «отдавшись в добычу гневу… схватил её за волосы и таскал её по комнате, колотя её ногами и кулаками, пока не устал». На следующий день она снова ласкается к нему… Челлини размякает, но как только его снова «разбередили» – опять беспощадно колотит её. Эти сцены повторяются несколько дней, «как из-под чекана». Кстати сказать, это та самая натурщица, которая послужила ему моделью для безмятежной «Нимфы Фонтенбло».
Здесь я должен напомнить читателю то, что говорится в великолепном предисловии Проспера Мериме к «Хронике царствования Карла IX». «В 1500 году, – пишет Мериме, – убийство и отравление не внушали такого ужаса, как в наши дни. Дворянин предательски убивал своего недруга, ходатайствовал о помиловании и, испросив его, снова появлялся в обществе, причём никто и не думал от него отворачиваться. В иных случаях, если убийство совершалось из чувства правой мести, то об убийце говорили, как говорят теперь о порядочном человеке, убившем на дуэли подлеца, который нанёс ему кровное оскорбление».
Да, Челлини был убийцей, как и половина добрых католиков того времени. Конечно, иной раз и он мог бы, вытирая свой «колючий кинжальчик», сказать вместе с пушкинским Дон Гуаном: «Что делать? Он сам того хотел»; конечно, и ему можно было бы возразить вместе с Лаурой: «Досадно, право. Вечные проказы – а всё не виноват». Совесть даровала ему «лёгкий сон», а жизнь выработала у него привычку широко огибать углы домов – предосторожность, не лишняя в тот век даже для человека, который не знал, «какого цвета бывает страх». Участие Челлини в обороне Флоренции от войск Карла Бурбона и головокружительный побег из папской тюрьмы имеют тот же духовный источник, что и его беззакония. Думаю, слово «мужество» будет здесь уместно.
Там, где нет возможности или повода выяснить отношения при помощи ножа или шпаги, Челлини обрушивает на врагов всю силу своей гомерической брани. Его ругань льется какой-то кипящей лавой, противник оказывается совершенно раздавлен глыбами его проклятий. Так и кажется, что слышишь, как он поносит скульптора Бандинелли, который в присутствии герцога Козимо Медичи осмелился хвалить своего «Геркулеса» в ущерб искусству Челлини. «Государь мой, – начинает свою оправдательную речь Челлини, – вашей высокой светлости да будет известно, что Баччо Бандинелли состоит весь из скверны, и таким он был всегда; поэтому, на что бы он ни взглянул, тотчас же в его противных глазах, хотя бы вещь была в превосходной степени сплошным благом, тотчас же она превращается в наихудшую скверну».
И затем он обрушивается на «Геркулеса» с гневом Аполлона, сдирающего кожу с Марсия: «Говорят, что если обстричь волосы Геркулесу, то у него не останется башки, достаточной для того, чтобы упрятать в неё мозг; и что это его лицо, неизвестно, человека оно или быкольва, и что оно не смотрит на то, что делает, и что оно плохо прилажено к шее, так неискусно и так неуклюже, что никогда не бывало видано хуже; и что эти его плечища похожи на две луки ослиного вьючного седла; и что его груди и остальные эти мышцы вылеплены не с человека, а вылеплены с мешка, набитого дынями, который поставлен стоймя, прислонённый к стенке. Также и спина кажется вылепленной с мешка, набитого длинными тыквами; ноги неизвестно каким образом прилажёны к этому туловищу; потому что неизвестно, на которую ногу он опирается или которою он сколько-нибудь выражает силу; не видно также, чтобы он опирался на обе, как принято иной раз делать у тех мастеров, которые что-то умеют. Ясно видно, что она падает вперёд больше, чем на треть локтя; а уже это одно – величайшая и самая нестерпимая ошибка, которую делают все эти дюжинные мастеровые пошляки. Про руки говорят, что обе они свисают без всякой красоты, и в них не видно искусства, словно вы никогда не видели голых живых, и что у правых ног Геркулеса и Кака34 двух икр не хватит на одну ногу; что если один из них отстранится от другого, то не только один из них, но и оба они останутся без икр, в той части, где они соприкасаются; и говорят, что одна нога у Геркулеса ушла в землю, а что под другою у него словно огонь».
После всего этого странно читать, как Челлини называет себя меланхоликом.
Беззастенчивая похвальба и горделивое сознание своего достоинства в равной мере присущи ему, и порой невозможно отличить, где кончается одно и начинается другое. На замечание одного дворянина, что так роскошно, как Челлини, путешествуют только сыновья герцогов, он ответил, что так путешествуют сыновья его искусства. В уста папы Климента VII он вкладывает такие слова о себе: «Больше стоят сапоги Бенвенуто, чем глаза всех этих тупиц». Какому-то заносчивому собеседнику он сказал: «Такие, как я, достойны беседовать с папами, и с императорами, и с великими королями, и что таких, как я, ходит, может быть, один на свете, а таких, как он, ходит по десять в каждую дверь». Он приписывает себе убийство Карла Бурбона и Вильгельма Оранского в дни осады Рима и отражение атаки французов на Ватикан. А о своей жизни до пятнадцатилетнего возраста он говорит: «Если бы я захотел описывать великие дела, которые со мной случались вплоть до этого возраста и к великой опасности для собственной жизни, я бы изумил того, кто бы это читал».
Челлини никогда не унижается до того, чтобы назначать плату за свои произведения. Он чувствует себя королём своего искусства, а иногда – святым. В тюрьме ему являются ангелы и Христос с лицом «не строгим и не веселым» (это лицо мы видим на его «Распятии»). С подкупающими подробностями он говорит – и это не самое удивительное место в книге – о появившемся у него нимбе.
Это сияние, поясняет Челлини, «очевидно всякого рода человеку, которому я хотел его показать, каковых было весьма немного. Это видно на моей тени утром при восходе солнца вплоть до двух часов по солнцу, и много лучше видно, когда на травке бывает этакая влажная роса; также видно и вечером при закате солнца. Я это заметил во Франции, в Париже, потому что воздух в тамошних местах настолько более чист от туманов, что там оно виделось выраженным много лучше, нежели в Италии, потому что туманы здесь много более часты; но не бывает, чтобы я во всяком случае его не видел; и я могу показывать его другим, но не так хорошо, как в этих сказанных местах».
Однако он не прочь заглянуть и в мир демонов, для чего участвует вместе со своим учеником в опытах какого‑то священника-некроманта. Когда появившиеся легионы демонов испугали ученика, Челлини приободрил его: «Эти твари все ниже нас, и то, что ты видишь, – только дым и тень; так что подыми глаза».
Челлини не опускал глаза и перед папами, грозными пастырями, железным жезлом пасшими свои стада. Удивительные люди были эти Юлии II, Клименты VII, Павлы III! Искусство было их второй религией (первой была политика), славу христианства они видели в том, чтобы распятия в церквях были изваяны так же хорошо, как античные боги. Они чтили художественный гений, как Божью благодать, ниспосланную в мир, и боялись оскорбить её своей необузданностью. Микеланджело для Юлия II имел ценность собственности римского престола, попытка сманить скульптора грозила анафемой. Когда Микеланджело бежал от его суровости во Флоренцию, Юлий писал громовые послания флорентийской сеньории, обвиняя её в воровстве и требуя выдать творца Сикстинской капеллы. Ему пришлось самому ехать за ним в Болонью. При новой встрече папа не смог удержать свой гнев: «Итак, вместо того чтобы приехать к нам в Рим, ты ждал, что мы приедем искать тебя в Болонью!» Один из кардиналов неуклюже попытался смягчить Юлия, сказав: «Пусть ваше святейшество на него не гневается, ведь люди этого рода невежды, которые не понимают ничего, помимо своего ремесла». Разъярённый папа ударил посохом глупого попа: «Сам ты невежда, раз оскорбляешь того, кого мы сами, мы не хотим оскорбить!»
У Челлини бывали с папами не менее выразительные сцены. Климент VII называл его Benvenuto mio35 и прощал ему любые выходки. Челлини затягивал и менял сроки работы, откладывал папские заказы ради своих замыслов, не отдавал выполненных работ и гнал к чёрту папских гонцов. Папа скрежетал зубами и вызывал его в Ватикан. Их ссоры были ужасны и в то же время комичны.
Вот Челлини является с гордо поднятой головой. Климент яростно смотрит на него «этаким свиным глазом» и обрушивает на строптивого художника гром небесный: «Как Бог свят, объявляю тебе, взявшему себе привычку не считаться ни с кем в мире, что если бы не уважение к человеческому достоинству, то я велел бы вышвырнуть тебя в окно вместе со всей твоей работой!» Челлини отвечает ему в тон, кардиналы бледнеют, шепчутся и беспокойно переглядываются. Но вот из-под плаща мастера появляется готовая вещь, и лицо папы расплывается в отеческой улыбке: «Мой Бенвенуто!»
Однажды Челлини ушёл от него взбешённый, так как не получил просимой синекуры. Климент, знавший его свободолюбивый нрав и боявшийся, что мастер покинет его, в растерянности воскликнул: «Этот дьявол Бенвенуто не выносит никаких замечаний! Я был готов дать ему это место, но нельзя же быть таким гордым с папой! Теперь я не знаю, что мне и делать».
Челлини мог наполнить Рим убийствами и бесчинствами, но стоило ему показать папе перстень, вазу или камею, как милость тотчас бывала ему возвращена. Полурельеф Бога Отца на большом бриллианте спас ему жизнь после сведения счетов с убийцей брата. Убив Помпео, он попросил помилования у Павла III, грозя в противном случае уехать к герцогу флорентийскому, – прощение тут же было даровано ему. Недовольным его решением папа объявил: «Знайте, что такие люди, как Бенвенуто, единственные в своём художестве, не могут быть подчинены закону».
Искусство Челлини принесло последнее утешение умирающему Клименту VII. Заказав ему медали, папа вскоре заболел и, боясь, что не увидит их, приказал принести их к своёму смертному одру. И вот, умирающий старик приказывает зажечь вокруг себя свечи, приподнимается на подушках, надевает очки – и ничего не видит: смертельный мрак уже застилает ему глаза. Тогда своими негнущимися пальцами он гладит эти медали, стараясь ощупью насладиться прекрасными рельефами… Потом он с глубоким вздохом откидывается на подушки и благословляет своего Бенвенуто.
Челлини пользовался покровительством и дружбой Франциска I, северного варвара из ещё убогого тогда Парижа. Король не уставал ходатайствовать перед папой об освобождении Челлини из тюрьмы и приютил его у себя после побега. Трудно указать другой пример, когда бы монарх был столь искренен в своём восхищении искусством. Как некогда крестоносцы изумлялись чудесам Востока, он радуется всему, что Челлини, словно чародей, достаёт перед ним из своего рукава. Щедроты, которыми он осыпал флорентийца, изумили даже самого Челлини, знавшего себе цену. Франциск даёт ему деньги, не дожидаясь выполнения работ. («Хочу придать ему бодрости», – поясняет король.) «Я утоплю тебя в золоте», – говорит он ему однажды. Вместо мастерской он дарит Челлини замок Маленький Нель и выдаёт грамоту на гражданство. Но Челлини для него не подданный, король предпочитает звать его «мой друг». «Вот человек, которого должен любить и почитать всякий!» – не устает восклицать Франциск.
Этот король, проведший жизнь в эпических войнах с громадной империей Карла V, умел испытывать сладостное забвение, разглядывая какую-нибудь маленькую безделушку вроде изготовленной Челлини солонки с аллегорическими фигурами Земли и Воды с переплетёнными ногами. Однажды кардинал Феррарский повёл короля, озабоченного возобновлением войны с императором, взглянуть на модель двери и фонтана для дворца Фонтенбло, законченные Челлини. Первая изображала нимфу в кругу сатиров, сладострастно изогнувшуюся и обвившую левой рукой шею оленя; вторая – нагую фигуру со сломанным копьем. Развеселившийся Франциск мигом забыл все свои горести. «Поистине, я нашёл человека себе по сердцу! – воскликнул он и добавил, ударив Бенвенуто по плечу: – Мой друг, я не знаю, кто счастливее: государь ли, который находит человека по сердцу, или художник, встретивший государя, умеющего его понять». Челлини почтительно сказал, что его удача, безусловно, гораздо больше. «Скажем, что они одинаковы», – смеясь, ответил король.
Но не было никого, кто бы относился к искусству более благоговейно, чем сам Челлини. Его тело могло вытворять что угодно, преступая все законы, божеские и человеческие, и всё же, когда утро заставало его в мастерской, изнурённого безжалостной лихорадкой вдохновення, он должен был чувствовать себя Адамом, совлёкшим ветхую плоть. Я не хочу сказать, что это что-нибудь оправдывает. Искусство – к чему заблуждаться на этот счёт? – не выписывает индульгенций, и красота не спасёт мир (разве что кого‑нибудь из нac?). Достаточно того, что желчь и кровь, которыми пропитаны страницы его жизнеописания, испаряются там, где Челлини говорит о своих произведениях. Конечно, и здесь его корчит от ярости, лишь только речь заходит о первенстве в искусстве ваяния (надо отдать ему должное: он не унижается до спора с соперниками, он просто отрицает их талант – полностью и безоговорочно). Но, как сказал Честертон, в человеке, который не скрывает своего честолюбия, всегда есть некая толика смирения. Челлини знал это смирение, когда говорил о равных себе. «От Микеланджело Буанаротти, а никак не от других, я научился всему тому, что знаю», – признаётся он в одном месте. Неизменным остаётся его уважение к Донателло и Леонардо да Винчи, он одобряет учеников Рафаэля, которые хотели убить Россо за то, что тот унижал их учителя.
Красота, в чём бы она ни заключалась, тотчас переполняет его восторгом. Человеческий костяк, символ Смерти для большинства его современников, исторгает у Челлини в «Речи об основах рисунка» настоящий гимн великолепию изящества его форм и сочленений. «Ты заставишь своего ученика, – поучает он воображаемого собеседника, – срисовывать эти великолепные тазовые кости, которые имеют форму бассейна и так удивительно смыкаются с костью лядвии. Когда ты нарисуешь и хорошо закрепишь эти кости в твоей памяти, ты начнёшь рисовать ту, которая помещается между двух бёдер; она прекрасна и называется sacrum… Затем ты будешь изучать изумительный спинной хребет, который называют позвоночным столбом. Он опирается на крестец и составлен из двадцати четырёх костей, называемых позвонками… Тебе доставит удовольствие рисовать эти кости, ибо они великолепны. Череп должен быть нарисован во всевозможных положениях для того, чтобы навсегда закрепить его в памяти. Потому что, будь уверен, что художник, который не держит в памяти чётко закрепленными всех черепных костей, никогда не сможет нарисовать мало‑мальски грациозную голову… Я хочу также, чтобы ты удержал в голове все размеры человеческого костяка для того, чтобы затем более уверенно одевать его плотью, нервами и мускулами, божественная природа которых служит соединением и связью этой несравненной машины». Говоря о своём «Юпитере», он упоминает наряду с другими членами совершенство «прекрасных детородных частей».
Настоящим драматизмом насыщена сцена отливки «Персея» – главного произведения Челлини, от которого его долгие годы отвлекали заказы государей и вельмож и жизненные обстоятельства. Здесь вдохновение неотделимо от ремесла, творческое дерзание – от робости перед величием замысла.
Челлини тщательно записывает все подробности своего титанического труда, словно маг, старающийся заклинаниями вызвать из огня чудесное видение: «Я начал с того, что раздобылся несколькими кучами сосновых брёвен… и пока я их поджидал, я одевал моего Персея теми самыми глинами, которые я заготовил за несколько месяцев до того, чтобы они дошли, как следует. И когда я сделал его глиняный кожух… и отлично укрепил его и опоясал с великим тщанием железами, я начал на медленном огне извлекать оттуда воск, каковой выходил через множество душников, которые я сделал; потому что чем больше их сделать, тем лучше наполняются формы. И когда я кончил выводить воск, я сделал воронку вокруг моего Персея… из кирпичей, переплетая одни поверх другого и оставляя много промежутков, где бы огонь мог лучше дышать; затем я начал укладывать туда дрова, этак ровно, и жёг их два дня и две ночи непрерывно; убрав таким образом оттуда весь воск и после того как сказанная форма отлично обожглась, я тотчас же начал копать яму, чтобы зарыть в неё мою форму, со всеми теми прекрасными приёмами, какие это прекрасное искусство нам велит. Когда я кончил копать сказанную яму, тогда я взял мою форму и с помощью воротов и добрых верёвок осторожно её выпрямил; и, подвесив её локтём выше уровня моего горна, отлично её выпрямив, так что она свисала как раз над серединой своей ямы, я тихонько её опустил вплоть до пода горна, и её закрепили со всеми предосторожностями, какие только можно себе представить. И когда я исполнил этот прекрасный труд, я начал обкладывать её той самой землей, которую я оттуда вынул; и по мере того как я там возвышал землю, я вставлял туда её душники, каковые были трубочками из жжёной глины, которые употребляются для водостоков и других подобных вещей. Когда я увидел, что я её отлично укрепил и что этот способ обкладывать её, вставляя эти трубы точно в свои места, и что эти мои работники хорошо поняли мой способ, каковой был весьма отличен от всех других мастеров этого дела; уверившись, что я могу на них положиться, я обратился к моему горну, каковой я велел наполнить множеством медных болванок и других бронзовых кусков; и, расположив их друг на дружке тем способом, как нам указывает искусство, то есть приподнятыми, давая дорогу пламени огня, чтобы сказанный металл быстрее получил свой жар и с ним расплавился и превратился в жидкость, я смело сказал, чтобы запалили сказанный горн. И когда были положёны эти сосновые дрова, каковые, благодаря этой жирности смолы, какую даёт сосна, и благодаря тому, что мой горн был так хорошо сделан, он работал так хорошо, что я был вынужден подсоблять то с одной стороны, то с другой, с таким трудом, что он был для меня невыносим; и всё‑таки я силился».
Работа вызывает у него лихорадку, и он ложится в постель, уже не чая встать живым. В это время ученики докладывают ему, что в его отсутствие работа ими испорчена – металл сгустился. Услышав это, Челлини испустил крик «такой безмерный, что его было бы слышно на огненном небе». Он бежит «с недоброй душой» в мастерскую и видит там ошеломлённых и растерянных подмастерьев. С помощью дубовых поленьев удаётся справиться с этой бедой. Он приступает к наполнению формы, но тут не выдерживает горн: он лопается, и бронза начинает вытекать через трещину. Челлини велит кидать в горн все оловянные блюда, чашки, тарелки, которые можно найти в доме, – их оказалось около двухсот, – и добивается‑таки наполнения формы.
Нервное потрясение побеждает болезнь – он вновь здоров и тут же закатывает пир. «И так вся моя бедная семеюшка (то есть ученики. – С. Ц.), отойдя от такого страха и от таких непомерных трудов, разом отправились закупать, взамен этих оловянных блюд и чашек, всякую глиняную посуду, и все мы весело пообедали, и я не помню за всю свою жизнь, чтобы я когда‑либо обедал с большим весельем и с лучшим аппетитом».
Так, на манер доброй сказки, заканчивается книга Бенвенуто Челлини о себе самом (тридцать последних страниц, заполненных мелкими обидами и придворными дрязгами, не в счёт). Остальное – тюремное заключение по обвинению в содомии, принятие монашества и разрешение от обета через два года, женитьба в шестидесятилетнем возрасте – случилось уже с другим человеком, усталым и разочарованным и, видимо, безразличным к самому себе: с человеком, больше не верящим в свой нимб.


