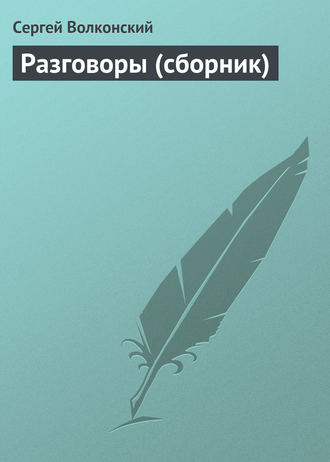
Сергей Волконский
Разговоры (сборник)
4. Приемный день
Модесту Ильичу Чайковскому
Слыхать мы не слыхали,
А только – говорят…
Мятлев
1. Ах, генерал! Какой приятный…
2. Графиня, здравствуйте!
1. Приятный сюрприз! Я не знала, что вы в Петербурге.
2. А я не знал, что у вас приемный день. Ну, приемный так приемный…
1. Да, это удобнее: всех зараз. С тех пор как мои внучки выезжают, Петербург стал так велик, я изнемогаю от количества людей и еще больше от количества слов. Выносить это каждый день я не в состоянии; каждый день слышать, что «сезон в нынешнем году будет очень короткий» и что «придворных балов в нынешнем году не будет», я-не-в-со-сто-я-нии.
2. И вы «взяли день»?
1. И я взяла вторники. Это день Неждановых-Стеклянцевых, а так как мы живем напротив…
2. Вы подумали о ваших ближних?
1. Скажите лучше, о моих дальних.
2. В переносном смысле?
1. О, нет, в самом прямом. В переносном смысле все одинаковы, кроме, конечно, нескольких милых исключений.
2. Этого вы могли бы не прибавлять.
1. Вы не сомневаетесь, не правда ли?
2. А разве я не знаю, что присутствующие – всегда исключение?
1. Особенно, когда так долго отсутствуют. Где вы были?
2. В Москве.
1. Вот как, а я думаю, в Биаррице.
2. Нет, я провел лето у себя в Крупенниках, а в Москве застрял по делам.
1. Значит, вы видели пьесу Толстого?
2. Даже два раза.
1. Скажите мне, для девушек ли это?
2. Позвольте, позвольте… Вы меня застаете врасплох… Я, признаюсь, об этом ни разу не подумал.
1. Старый холостяк!
2. Но, я думаю, Толстой всегда для девушек.
1. Генерал, милый генерал! Да вы никогда не читали «Крейцерову сонату»!
2. Читал, графиня, как же не читать.
1. Ну так у вас никогда дочерей не было!
2. Вот это скорее.
1. А я никак не могу добиться. Никто не может мне сказать, как будто все слово себе дали об этом не думать. А сама читать я положительно не имею минуты: Петербург стал так велик, с тех пор что…
2. Неужели же никто, как вы говорите, об этом не думает!
1. Да никто, уверяю вас. Я больше ничего не понимаю. Я понимаю, что можно не думать, но как можно забыть, вот чего я не понимаю.
2. Виноват, – что забыть?
1. Как может, например, человек, который отец, или та женщина, которая мать, забыть, что у него или у нее есть или были дочери. Вот чего я не понимаю.
2. Как вы сказали?
1. Я сказала, что не понимаю, как можно забыть, что есть или были дети.
2. Нет, вы выразились как-то про женщину, вы сказали…
1. Я сказала, что я не понимаю, как женщина, которая мать…
2. Вот, это тоже есть в «Трупе».
1. Ах, это есть?
2. Да, та женщина, которая мать…
1. Толстой всегда отлично понимает материнство. Но все-таки, пока я не… Ах, идет этот несносный Турусов!
2. Он у вас бывает?
1. Где же он не бывает! Где свечи ни зажгли, – все равно, бал или панихида, – он всегда первый… Как вы любезны, князь…
3. Я так был рад узнать, графиня, что у вас приемный день, а то вас никогда дома не бывает… Генерал, здравствуйте; вы в Петербурге, – можно сказать, что сезон балетный начался. Ведь завтра «Жизель».
2. Ну что ж, «Жизель» так «Жизель». Графиня, будьте здоровы.
1. Вы меня покидаете?
2. У вас начинается съезд, а мой сезон, как вы слышали, начинается только завтра.
1. До свиданья, генерал, не забывайте…
3. Балетный сезон будет дольше, графиня, чем бальный, – в нынешнем году Пасха такая ранняя… Впрочем, кажется, ущерб небольшой – придворных балов, говорят, не будет…
1. Да, мои внучки прямо неутешны… для первого их сезона…
3. Моя дочь мне говорила; она познакомилась с ними на катке, она мне говорила, что они вместе горевали. Я так рад, что моя дочь дебютирует вместе с вашими внучками. Для одинокого отца, знаете, графиня, как трудно…
1. Ах, скажите мне, князь, вы знаете пьесу Толстого…
3. То есть я ее не видел… но…
1. Но вы знаете. Скажите мне, это для девушек?
3. О, да.
1. Кто вам сказал?
3. Моя дочь была.
1. Да разве… Ах, Мария Ивановна, как я рада!
4. Здравствуйте, милая графиня, привезла вам моих девочек.
1. Очень рада, надеюсь, что вы будете много веселиться… Вы знакомы? Князь Турусов.
3. Я имел честь быть представленным Марии Ивановне в прошлый раз у Неждановых-Стеклянцевых.
4. Как же… Я сейчас оттуда. Город и окраина!
3. А я сейчас туда. Графиня, имею честь… Мария Ивановна…
1. До свиданья, князь.
4. Какой несносный.
1. Ах, какой несносный! И представьте, его дочь… Я думаю, вашим барышням веселее будет за чайным столом.
4. Ну разумеется. Марш в ту комнату.
1. Пойдите, мои милые; вы мою Марианну знаете?
5. Нет, не имела…
1. Марианна, вы там?.. Это ничего…
6. Я здесь, графиня.
1. Это ничего, вы познакомитесь… Они обворожительны.
4. Мы вчера представлялись. Они об-во-ро-же-ны.
1. Ну еще бы… Какое воспоминание… Когда перед тобой жизнь…
4. Я решила им давать от жизни только одни светлые, хорошие впечатления.
1. Чтоб было что вспомнить? Как вы правы!
4. Не правда ли? А у нас теперь не любят вспоминать.
1. Не говорите, дорогая: «Старые годы» много сделали.
4. А вы, графиня, по обыкновению, «всегда в курсе», как говорит наш милейший генерал. Где он пропадает?
1. Приехал, сейчас был здесь, завтра будет в балете.
4. Как и следовало ожидать.
1. Не всегда «в курсе», Мария Ивановна. Совсем даже не в курсе относительно пьесы… Толстой.
4. Le «Живой труп»?
1. Mais oui. Я не могу добиться, si c'est pour jeunes filles[6].
4. He знаю.
1. Никто не знает! Я сейчас спрашивала Турусова, а он… Да, я же забыла, что я вам хотела сказать… Мы с вами всегда так, начнем, и потом…
4. Как говорил мой покойный Gregoire: «с ветки на ветку».
1. А мой сын всегда говорит: «У мама сердце ни с места, а воображение порхает».
4. Это то, что придает очарование вашей беседе; вас всегда находишь – вы повсюду.
1. Да и с вами, дорогая, не разминешься. Так о чем же мы говорили?
4. О пьесе Толстого, кажется…
1. Да, конечно. Вы видели?
4. Ох нет! Разве можно смотреть такое название. Мои дочери все пристают…
1. Да, вот же что я хотела сказать. Оказывается, la petite Турусов… Вот вся семья Кегельгоф… Беседовать невозможно.
4. Кегельгоф?
1. Да, прелестные балтийцы, она урожденная Тюриссаль… Милая баронесса, как я рада; здравствуйте, барон, позвольте вас представить Марии Ивановне Досецкой.
4. Я очень рада.
7. Мы отчень рады.
1. Милая баронесса, ваша молодежь, может быть, пройдет в ту комнату, там чай… Встречается молодежь.
4. И они познакомятся с моими дочерьми.
8. Мы будем отчень рады.
1. Садитесь, баронесса. Приятно смотреть на ваших дочерей и сыновей, – они воплощение здоровья.
9. Это следствие морского воздуха.
1. А также хорошего воспитания, баронесса. Надо сказать, что у них семейная жизнь сохранилась гораздо больше, чем у нас. Правда, барон, у вас…
7. У нас патриархальный образ жизни сохранился в надлежащих рамках.
1. Да, но вы соединяете патриархальность с культурой. В вас ведь это сильно развито, баронесса.
9. Но у нас нет ощущения, что мы живем в провинции.
1. А вы надолго в Петербург?
9. Ах, мы сами не знайем. Сезон такой короттткий. Я не знайю. Мы хотим познакомиться… И кроме того, наш старший сын вступает на дипломатическую стезю.
1. Ну, я надеюсь, что вам в Петербурге понравится… Ах, Сергей Константинович, здравствуйте… Баронесса, позвольте вам представить – Сергей Константинович Макоцкий. Мария Ивановна…
4. Я знаю, я знаю… Вы издатель «Персея».
10. Редактор.
4. Ах, извините… Графиня, я, кажется…
1. Вовсе нет, дорогая. Редактор, это же намного больше, чем издатель. Барон, я вас, кажется, не познакомила…
7. Я отчень рад познакоммиться с вами. Ваш журнал у нас в Реввеле, в клубе, всегда на столе.
10. Я очень счастлив.
8. Мы так жалейем, что выставка в Царском Селе уже закрытта.
10. Может быть, вы мне сделаете честь посетить выставку «Персея»?
7. Ах, обязательно. Она уже открытта?
10. Через десять дней.
7. Обязатттельно.
10. Графиня, я вам привез билет на открытие.
1. Как мило, что вспомнили. Мы поедем вместе с баронессой.
9. Я рада – у меня страсть к выставкам.
1. Сергей Константинович, вы, может быть, пройдете в ту комнату… Это не то, чего мне будет не хватать в Петербурге этой зимой… вы встретите молодежь… это очень достойные молодые люди из «Старых годов».
4. А я думала, что это «Персей».
1. Это одно и то же.
7. Эмилия, полагаю, нам следует проститься…
9. Прощайте, мадам.
1. Au revoir. До свидания, молодые люди. Где вы остановились, баронесса?
9. У нашего дяди, сенатора.
1. Я вам расскажу о выставке… Я очень люблю балтийцев. Воспоминание детства. И потом, для внучек это такой чистый элемент – эти маленькие Кегельгофы.
4. Однако, я у вас всех пересидела…
1. Останьтесь, дорогая. Вы меня поддерживаете… А, наш депутат! Здравствуйте, Михаил Александрович. Мария Ивановна, вы знаете Михаила Александровича Стаховича…
11. Здравствуйте, графиня. Могу вам сообщить, что в ваших владениях все обстоит благополучно.
1. А когда вы оттуда?
11. Третьего дня.
1. И что же?
11. Ваши зеленя прекрасны, но вообще скверно.
1. Что ж делать! На Бога надежда.
11. Конечно, когда человек плох, то другого не остается… А, Сергей Константинович! Как поживаете? Чем заняты?
1. Спросите у него, чем он не занят… Это невозможно. Михаил Александрович, скажите ему, что так нельзя. Много желать – добра не видать.
11. А если наоборот? Много видать – добра не желать?
1. Не острите, господин депутат. А лучше скажите Сергею Константиновичу, что так нельзя. Теперь выдумал выписывать какой-то балет в купальных костюмах.
10. Во-первых, это не я выдумал, а Волконский.
1. Ну все равно – «Старые годы».
11. Не старые, графиня, а, смею вас уверить, самые молодые.
1. Я надеюсь, что запретят этот балет. Михаил Александрович, вы должны употребить ваше влияние.
11. Это не балет, графиня, это Далькроз. Это гимнастика.
1. Тогда зачем же на нее смотреть?
11. Говорят, это поразительно красиво. И потом, в смысле воспитания…
1. Уж это пожалуйста! Я только знаю одно: мои внучки ни через такое воспитание не пройдут, ни на такое представление не поедут. Для купальных костюмов есть свое место и свой сезон. Не правда ли, Мария Ивановна?
4. Это какое-то сумасшествие. Я удивляюсь, как вы, Михаил Александрович, такой положительный человек…
11. Я лично ничего не могу сказать – я не видал. Но вы знаете, что в Москве уже начинают с ума сходить. Весь Художественный театр занимается ритмической гимнастикой. На днях сам Станиславский «пошел».
1. Куда?
11. Кругом пошел, вместе с другими.
1. Ах да, это я знаю, ведь «круги» – это его система… Что, Сергей Константинович, вы бежите?
10. До свидания, графиня, – дела.
1. Все «Персей»? Ну что ж, до свидания.
10. До свидания, Мария Ивановна, позволите и вам билет привезти?
4. Очень буду рада. Вы же знаете, что искусство – это моя страсть.
10. До свидания, Михаил Александрович. А что толстовская выставка?
11. Подвигается, интересный материал поступает.
10. Неужели?
11. Почему «неужели»?
10. Простите, я с своей, слишком субъективной точки зрения.
11. Ну да, я знаю, у вас, эстетов, это называется рухлядью. Но эта рухлядь, батенька, пронизана гением!
10. В том-то и дело, что не пронизана, а гений сам по себе, рухлядь сам по себе.
11. Это хула на историю!
10. Это хула на искусство!
11. Мы не претендуем на то, чтобы создавать искусство.
10. Тогда уж лучше и историю не писать.
1. Господа, господа…
11. «В вашем доме»? Мы всегда так, как сойдемся, графиня, не беспокойтесь.
10. Это не имеет никакого значения.
1. Я никогда не могла понять, как можно из-за вопросов искусства так ссориться, как некоторые. Не все ли равно, что одному нравится одно, а другому – другое. Не правда ли, Мария Ивановна?
4. Еще бы! В искусстве надо быть терпимым.
1. Ну вот видите, господа. Михаил Александрович…
11. Не волнуйтесь, графиня, ничего не произошло. Я его на минуту задержал и отпускаю. Летите, юный герой, Андромеда вас ждет.
10. Улетаю.
1. Это очень достойные молодые люди из журнала «Старые годы».
11. «Персей», графиня, не «Старые годы».
1. Разве это не одно и то же?
11. Совсем не одно и то же.
1. Да? Но они одни и те же. И я нахожу, что они очень хороши, не как другие некоторые, кто из-за искусства плохо закончит. Когда у вас Дума начинается?
11. Послезавтра.
1. Уж в нынешнем году я не попаду.
11. Отчего так?
1. Мои внучки выезжают! Вы и не знали?
11. Поздравляю, графиня.
1. Если б вы знали…
11. Что за комиссия?
1. Если б вы знали… Вы бы не поздравляли… Впрочем, когда будет председательствовать Родзянко, я поеду. Поедем, Мария Ивановна?
4. А вы больше любите Родзянко? Я предпочитаю Волконского.
1. Ах, chere, ну как же можно сравнивать! Михаил Александрович, вы человек с убеждением: кто из нас прав?
11. Я думаю, что в данном случае разногласие не столько вопрос убеждения, сколько вопрос вкуса.
1. Вы не депутат, вы дипломат.
11. Вот слово, которое всегда говорится как упрек, а принимается как похвала.
1. Я не знала, что вы такой оптимист.
11. А я не знал, что Мария Ивановна интересуется Думой, я думал, что она принципиальный противник выборного начала.
4. Да, в глубине души мне не нравится избирательный принцип, но когда графиня меня везет…
1. Уж я знаю, Мария Ивановна… Она только не признается, но она это любит гораздо больше, чем приемные дни… Ах, Долли! Как я рада вас видеть!
12. Наконец я к вам попала! Если б вы знали, что за жизнь… Мария Ивановна, здравствуйте… Ради всех святых, графиня, чашку чаю…
1. Марианна, чаю Дарье Федоровне!
12. Если бы вы знали! Я в десяти местах была… Мария Ивановна, я вас видела вчера в театре… Ах, депутат, мы с вами не виделись целую вечность.
11. На первом представлении «Трупа». Это не так давно. 12. Время так быстро идет и так полно впечатлений, что все кажется давно… Спасибо, Марианна, вы ангел.
11. Но со мною, Дарья Федоровна, вы не успели обменяться впечатлениями. Как вам понравилось?
12. Игра бес-по-доб-на! Вы знаете, я люблю реализм – в искусстве! В жизни нужен идеал, но в искусстве… и потом, это гораздо труднее. Когда, например, человек некурящий на сцене курит так, как будто всю жизнь курил, – ведь это то же, что они называют переживание, и гораздо труднее, чем переживать какие-нибудь чувства, которые он в жизни уже чувствовал. Не правда ли, Мария Ивановна?
4. Да, я понимаю; вы находите, что для актера труднее создавать, чем повторять. Это очень тонко замечено, графиня.
1. Да ведь она у нас такая умница. Ну а пьеса?..
12. Нет, не спрашивайте. При Михаиле Александровиче не буду говорить.
11. Я вижу, что мне надо уходить.
1. Зачем же, Михаил Александрович?
11. Затем, графиня, что вы жаждете узнать то, что при мне не может быть сказано.
1. Почему же жажду? Это было бы негостеприимно.
11. Потому что Дарья Федоровна законодательница, а вы закон ставите выше обычаев. Нет, право, мне пора.
1. Мне очень жаль, что вы так скоро. Это все Долли. И это второе неудовольствие в моем доме.
11. Второе? А первое?
1. Макоцкий.
11. О, графиня, когда я поверю в первое, тогда будем говорить о втором. До свиданья.
1. Ну а теперь, что он ушел, я вам скажу, что он и сам не знает, как близок к истине. Я жажду слышать ваше мнение, Долли.
12. О чем?
1. Об этой пьесе.
12. О какой?
1. О пьесе Толстого!
12. «Живой труп»?
1. О какой же еще!!
12. Почему же вам это так нужно?
1. Долли, вернитесь в себя! Вы слишком рассеянны. Ну как же вы не понимаете, что та женщина, которая мать…
12. Не сердитесь, милая, я действительно… иногда… рассеянна. И потом, понимаете, ведь я была в десяти местах…
1. Правда?
12. Невозможно.
1. Что невозможно?
12. Я только знаю одно, что, если бы у меня была дочь, я бы никогда ее не повезла.
1. А! Наконец!
12. Что – наконец?
1. Наконец ясное суждение.
12. Невозможно, невозможно. Этот Протасов…
1. Только та и идея, чтобы взять всем известную фамилию…
12. Не правда ли? Но потом, поведение этого человека и та святость, в которой это поведение выставляется. Я вам говорю – невозможно.
4. Не правда ли, там развод?
12. Без развода, Мария Ивановна, без развода!
4. А как?
12. Уступка.
1. А приличия?
12. Соблюдены, до поры до времени.
4. Чем же?
12. Симуляция самоубийства.
1. А потом?
12. А потом, когда всплывает, – уже настоящее самоубийство. Но я должна сказать, что самое ужасное, это все разговоры в промежуток времени между двумя самоубийствами.
4. И что же?
12. Только подумайте. Он говорит, что любил по-собачьи!
1. Как! Он это говорит?
12. Именно так. Но по-русски!
1. Понимаю.
12. Ну а теперь, что вы узнали, что вам нужно, я должна, должна бежать. Прощайте. Не прощайтесь, не провожайте… и не забывайте!
1. Сумасбродка, но масса здравого смысла.
4. Ну а теперь и мне пора. Маруся! Катуся! Прощайтесь с графиней.
5. Прощайте, графиня.
1. Я очень была рада вас видеть. Я надеюсь, мама вас отпустит ко мне в пятницу вечером.
4. Разумеется… Поблагодарите графиню…
5. Благодарствуйте, графиня, мы так будем рады.
4. Разумеется… По крайней мере поболтаем.
1. Да, уж эти приемные дни, это невыносимо… И кто их вьщумал… Я изнемогаю… До свиданья, спасибо, chere, вы меня поддержали… Марианна!
6. Графиня?
1. Я буду обедать в своей комнате, я больше не могу.
6. А вы хотели, чтобы я после обеда прочитала вам «Живой труп»?
1. Я уже прочитала.
6. Когда же вы успели?
1. Скажите, что можно гасить.
Павловка,12 октября 1911
5. Чернозем
Владимиру Васильевичу Богородскому
А там, во глубине России…
– Хорошо ваш автомобиль справляется с осенней грязью.
– Ему все нипочем.
– Какая марка?
– Форд. Не элегантно, но хозяйственно.
– Сколько сил?
– 22.
– А весу?
– 30 пудов.
– Только?
– Вес нагруженной телеги. Где крестьянский воз проходит, там проходит и автомобиль.
– Это ценное свойство при ваших мостах.
– Да, наши мосты не то что ваши. У вас «Нева оделася в гранит, мосты повисли над водами». А у нас пруды оделися в навоз, мосты стоят середь дороги.
– Как – середь дороги?
– Да ведь объезжаем, – вернее.
– А когда нельзя объехать?
– Что ж делать? Надо так надо. Перед риском не задумываемся.
– А рискованно?
– Где перст Судьбы, там нет Закона. Однажды архиерей проехал в карете, так за ним мост провалился. Хорошо, что не под ним, – только проехал, провалился. Архиерей проехал, а исправник остался на той стороне.
– И опасное место?
– Зияющая пропасть легла между властью светской и духовной.
– Ну, послушайте, как ни хороша аллегория, а в ваших местах не поверю, чтобы были зияющие пропасти.
– Что? Гладко?
– Удручающе гладко. И потом этот горизонт, который никогда не приближается, а всегда уходит.
– Да, в это время года особенно безотрадно.
– И этот цвет: на земле черно, над землей серо…
– Посмотрели бы летом: на земле золото, а над землей сине. И какие закаты солнца! Только в Каире бывают подобные.
– Но отсутствие человека. Ведь это пустыня.
– Кроме галок, никого.
– Черные галки, черная дорога, черная равнина…
– Время года. Посмотрели бы летом. Днем – уборка, в золоте ржи рассыпанные сарафаны и рубахи, звон косы; вечером – в облаках золотой пыли стада, щелканье арапника; а ночью – звезды, песни и костры… пронесется табун, залает собака, под боком из темноты фыркнет лошадь…
– Вон обоз идет навстречу, – наконец живые существа!
– Надо остановиться, пропустить.
– Как лошади относятся к автомобилю?
– Очень розно.
– Темперамент?
– Темперамент, опыт, общественное положение, – вы думаете что?
– Несчастий не бывало?
– Слава Богу. Один раз лошадь распряженная около телеги стояла, заметалась, забилась, обезумелая, и вдруг всеми четырьмя ногами на телегу. Счастье – в телеге никого; подумайте, если бы в ней ребенок спал…
– Понемногу привыкнут.
– Надо надеяться. А то исправник соседнего уезда так объявил, что он не допустит езду на автомобилях, пока все лошади в уезде не привыкнут.
– Да, тогда, конечно, несчастных случаев не будет. И как это другие не догадались… А люди как относятся?
– Тоже розно. Но, представьте, тут скорее возраст, а не темперамент.
– Что же, дети боятся?
– Наоборот. То есть бояться никто не боится, а взрослые глупее детей. Мальчишка слышит свисток и понимает, лошадь остановит, соскочит, накинет ей зипун на голову или закроет шапкой глаз, и все это спокойно, без переполоху. А мужик – свистка не слышит, услышит – не понимает, смотрит выпуча глаза, едет на слабых вожжах… И можете себе представить картину этой скачки, дерганой, рваной: лошадь в сторону, вожжи подбираются, телега по бороздам, пожитки из телеги…
– Чем это объяснить?
– Чем объяснить… Посмотрите на крестьянских детей: что это за драгоценный материал и что из него выходит.
– Условия жизни?
– Уж не знаю. Только посмотрите, как отвечают дети в сельской школе на экзамене, и посмотрите, как ответит вам мужик, если вы у него дорогу спросите. Я раз сбился с дороги. Переспросил, я думаю, человек двадцать: чесание затылков, и больше ничего не добился, а когда несколько человек вместе стоят, то один показывает вправо, а другой влево. Я вас уверяю, что в Центральной Африке с английским языком и несколькими туземными словами я бы легче выбрался на дорогу, чем в своем уезде. Один, помню, посмышленее, взялся проводить, согласился с нами сесть; только, вижу, что-то мешкает: идут переговоры с женой. «Ну, что же, спрашиваю, скоро?» – «Нет, барин, не поеду». – «Что же передумал?» – «Аграфена не пущает».
– Тоже пропадающая сила.
– Что?
– Российская «Аграфена».
– Это разумеется. Если бы она так же умела приказывать, как «не пущать»…
– Какой длинный обоз… Какая рвань… Какая грязь… И это тоже люди, и это тоже души.
– И это тоже граждане.
– Вот и вопрос – что раньше нужно, условия или права?
– А что было раньше, курица или яйцо? Когда причина и следствие совмещаются в одном, то нечего спрашивать, что нужно раньше.
– А что же это одно, в чем вы видите причину и следствие?
– Человек.
– Сам человек не виноват, другой человек виноват.
– Пожалуйста, знаем, наизусть знаем вашу столичную прибавку. «И я таким когда-то был».
– Что же вас вылечило?
– Водка.
– Вы стали пить? Не поверю.
– Не я стал пить, а увидал вокруг себя, как пьют.
– Ну и мы тоже знаем вашу помещичью прибаутку. «Водка, водка». Ведь нужно тоже иногда забыться.
– А! Вот оно самое любимое слово! Не забыться, а проснуться надо.
– Не очень-то приятно просыпаться, когда наяву и холодно, и голодно.
– «Холод» надо измерять не температурой…
– А чем?
– «Голод» – не тем, что съедается.
– А чем же?
– А тем, мог ли бы он протопиться, мог ли бы прокормиться.
– Очевидно, не мог бы, коли не может.
– Ну, цифру того, что он мог бы, вы найдете не в его дому.
– А где же?
– В винной лавке.
– Ну уж этому я никогда не поверю. Я понимаю, говорить о растлевающем влиянии пьянства на здоровье, на нравственность, наконец, видеть в пьянстве один из факторов экономического разорения, сказать, что человек пьяный не может работать; но измерять пьянство рублем, это теория, это для отводу глаз, это ваше помещичье упокоение на лаврах барства. Так легко сказать: ничего нельзя сделать.
– Теория!.. Ах вы, городской практик!
– Ругаться можете, а только это не доказательство.
– Что ж мне с вами делать, если вы не хотите цифрам верить.
– Я не говорю, что не поверю цифрам, а я только говорю, что если бы я, например, отказался от театров и иных развлечений, то вряд ли бы это составило такое увеличение моего достатка, о котором бы говорить стоило.
– То вы, а то крестьянин. Я вам одну цифру скажу. Есть у нас село Мучкап, одно из самых крупных и зажиточных в уезде. За этот год оно не внесло ни одного рубля земских повинностей.
– Большая недоимка?
– 30 тысяч.
– Плохой год?
– Уж я вижу, – вам хочется сказать: «Край родной долготерпенья, край ты русского народа». Не правда ли?
– Вы знаете, что я не славянофил.
– Да, но в вопросах экономических часто, как во время наводнений, на одном холме спасаются славянофильские агнцы и анархистские тигры.
– Позвольте, я еще меньше анархист.
– Что верно для крайностей, то верно и для промежуточных инстанций.
– Ну так я, как промежуточная инстанция, без слезливости, но и без ярости спрошу вас: как же можно в плохой год ставить в укор невзнос податей?
– Не отвечаю на ваш вопрос, потому что это теория, а ведь вы, кажется, любите практику? Продолжаю, что не кончил. Знаете ли, сколько это самое село Мучкап в тот же «плохой» год выпило водки?
– Сколько?
– Сто пятнадцать тысяч.
– Чего?
– Рублей.
– Это цифра!
– Если бы каждый вместо штофа выпивал полштофа, то у них бы в три года был общественный капитал в сто семьдесят пять тысяч рублей. Да отнесите на приход убытки от пожаров.
– Вероятно, большое проезжее село?
– Да.
– Ну так не одни местные пьют…
– Ну положите вдвое, – в шесть лет сто семьдесят пять тысяч. А знаете, сколько пропил наш уезд?
– Сколько?
– Миллион семьсот тысяч. Это тоже «цифра», не правда ли? А хотите знать профессию? Лет пятнадцать тому назад было полмиллиона.
– Больше чем в три раза! Но ведь водка вздорожала.
– Так ведь я говорю не о выпитом, а о пропитом. А занимательно тоже, что министерство финансов, получившее с уезда полмиллиона за продажу водки, выдало ему тридцать тысяч на борьбу с пьянством.
– Это – туманные картины?
– Весьма туманные. Что ж, вам, может быть, хочется продолжать вместе с Тютчевым: «Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя»?
– Я же вам сказал, что я не славянофил. Что же, по-вашему, делать?
– Что вообще делать, это огромный вопрос, а в данном случае земское собрание постановило закрыть в этом селе школу и больницу.
– Это опять уже несправедливо.
– А более справедливо, по-вашему, чтобы больница и школа оплачивались другими плательщиками?
– Безвыходные вопросы.
– А зачем же вы их вперед решаете?
– Я не решал вперед.
– Ну да, вы данный случай не решали, потому что и не знали о нем, но вы решали принципиальный вопрос о том, что виноват не сам человек, а виноват другой человек.
– Послушайте, у меня голова в тисках.
– А, вот видите, горизонты-то не так просторны, как кажутся.
– Нет, знаете, монополия – это ужасная вещь.
– А что ж вы думаете: не было бы монополии, не пили бы?
– Ну а если бы наложить какую-нибудь узду на самую продажу, как в Швеции? Там сиделец, который продал меньше вина, получает награду.
– А у нас получает награду сиделец, который продал больше вина. Под праздник ведрами продает: винная лавка в праздник закрыта, а на улице перед избами бабы стоят и проезжих заманивают бутылками.
– «Аграфена – Сирена»?.. Так нужна культурная работа. Нужна борьба, нужны общества…
– На общества у нас, вы знаете, косятся. Пироговский съезд предлагал устроить помощь голодающим – не разрешили.
– Так Пироговский съезд! Я был в Петербурге тогда, когда его закрыли. Когда они такие глупости говорили, что без конституции касторка не будет действовать!
– Уверяю вас, что можно глупости говорить, а дело делать.
– Может быть, и можно, но как заставить этому поверить? Не лучше ли начать с дела, а потом глупости говорить?
– Начать с дела! У меня знакомый один, врач в соседней губернии, просил разрешения в деревнях читать крестьянам о холере…
– Ну вот.
– Что – ну вот?
– Побольше бы.
– Да. Знаете результат? Через два с половиной года – отрицательный ответ.
– Так, может быть, тоже из таких, что «глупости говорил»?
– Пожалуйста, у предводителя дворянства жил, и предводитель же за него хлопотал.
– Тоже ничего не значит. Мало разве мы видали таких, что от слов воздерживаются, а «свое» дело делают.
– Ну, объясняйте чем хотите, а только нельзя, нельзя, нельзя.
– Что?
– Ничего сделать.
– А! Вот видите!
– Что?
– Есть и обратная сторона медали.
– Обе обратные, обе обратные!
– Ну, значит, не так я виноват, когда говорю, что не сам человек виноват, а виноват другой человек. Вопрос только – кто?
– Вы не глупы, но и Достоевский не глуп.
– Почему Достоевский?
– Он ответил: всякий человек виноват перед всяким человеком.
– Ну это тоже… Помещичья мистика.
– Не мистика, не мистика! Когда общество постановляет ходатайствовать о закрытии винной лавки, а земский начальник приговора не утверждает, какой вам еще реальности нужно?
– Ну, значит, Достоевский не глуп, но и я не дурак… Посмотрите, табун. И коняжки за нами бегут!
– Да, это довольно непонятная вещь: в запряжке лошади автомобиля боятся, а из табуна бегут смотреть, совсем близко подходят, молодые даже провожают, как собаки.
– Психология животных…
– А ночью, когда с фонарями, – тушканчики так и шмыгают под колесами, на полном ходу.
– Что такое тушканчик?
– Зверек такой, вроде кенгуру, на длинных задних лапках, хвост лопаточкой, след заметает. Его еще называют земляной зайчик. Зверек чрезвычайно пугливый, а тут на свет идет, между колес шмыгает, верстами провожает.
– Как интересно это проникновение человека в дикую природу. Введение новых условий… новые равнодействующие…
– Самое изумительное, что я видел, это лиса. Стояла шагах в двадцати от опушки и смотрела, как мы проезжали шагах в пятидесяти от нее. Я никогда ничего подобного не видел: дикий зверь, и палец изумления во рту. К сожалению, один из наших спутников махнул рукой, и она ушла в лес, но и то – первые шаги она попятилась, чтобы не потерять зрелище.
– Это прелестно. Чувство самосохранения, уступающее чувству любопытства.
– Не правда ли? Я понимаю в животном чувство самосохранения, уступающее голоду, какому-нибудь материальному побуждению, но – любопытству! Это уж «эстетическое бескорыстие».
– До чего может дойти, до каких перестановок отношений может дойти проникновение человека в зверя!
– Во всяком случае, до большего, чем проникновение человека в человека. Принимая во внимание, что человек делает из некультурного животного, подумайте, что бы он должен сделать из некультурного человека. Подумайте, если бы все люди повиновались какой-нибудь высшей приказывающей силе, как собаки, кошки, крысы повинуются Дурову.
– Заменить наступательный прогресс поступательным повиновением? У вас бывают интересные мысли.
– Пожили бы в провинции, и у вас бы «интересные мысли» завелись. Если вы думаете, что можно чего-нибудь добиться иначе чем приказанием… Вы за воспитание?
– Ну конечно.
– А я за дрессировку.
– Нельзя это говорить, когда не испробованы способы разъяснения.
– Извините. Я думаю, ни одному живому существу в природе не нужно объяснять, что вредное вредно, а полезное полезно. Всякое животное понимает и само разбирается. Почему же над человеком нужна опека?
– Простите, но это опять теория. Это на бумаге…
– А вам хочется на земле? Посмотрите направо, хоть и сильно уже стемнело, – видите косогор вспаханный? Как борозды идут? Вы видите: сверху вниз. Когда снег будет таять, когда дождь пойдет, – что, по-вашему, вода в бороздах останется? Чем ее бороздами задержать, ее по бороздкам в овраг «спущают». Что же, это тоже, по-вашему, бумага? А крестьянский пар! Вы видали когда-нибудь крестьянский пар?







