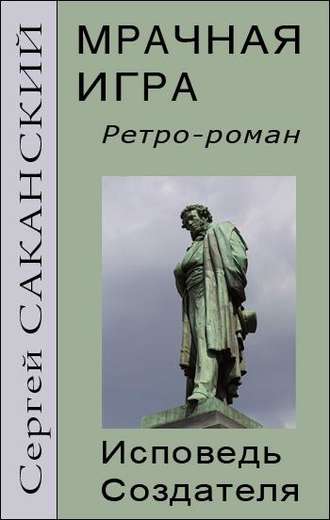
Сергей Саканский
Мрачная игра. Исповедь Создателя
Я подумал, как легко и – можно было даже выразиться – приятно в тепле, искусственной невесомости ванны – рассуждать о том, что жизнь реализует твои тайные желания, оживляет твои страхи, рассуждать, краем сознания все же не веря в эту инфернальную формулу бытия, но когда тебя, свято чтящего свободу и независимость, годы и годы гноят в тюрьме, когда твоя невеста, которая была единственной причиной твоей жизни, единственным тормозом от желания прекратить ее, вдруг перестает существовать – так или иначе – то ли выйдя замуж, то ли выйдя за скобки бытия… Что дальше? Не дай мне бог сойти с ума? А что ты скажешь насчет галлюцинаций?
Я внимательно осмотрел кусок мыла, который держал в руке, сжал его и ощутил. Я поднял голову и увидел под потолком хромирование крепление душа. И вдруг я почувствовал, что называется, спиной – ее, висящую на радиаторе отопления – веревку. Я оглянулся. На трубе и вправду, как по сценарию ночного кошмара, сохнул моток бельевой веревки. И я испытал облегчение. Ее смерть действительно была лучшим исходом.
Несколько лет мне не доводилось глядеться в зеркало столь долго, и я как бы впервые увидел себя. Это был человек лет сорока пяти, хорошо сложенный, сухой, эдакий стареющий спортсмен. Правда, я никогда всерьез не занимался спортом, и мне недавно исполнилось тридцать четыре. Вся моя молодость была поглощена заточением, и прямо из юности мятежной я шагнул в так называемую зрелость. Созрел и повис на дереве, как некий плод, как Иуда, хотя за мной не числилось никакого предательства.
Внезапно я понял, что больше всего на свете хочу спать. Сон отключил меня, едва я добрался до кровати, почти мгновенно, как хороший удар. Где-то бесконечно далеко, возможно, на кухне у соседей, шумел водопад. Кот прыгнул мне на грудь и медленно прошелся по лесистым холмам. Вошла мать и поспешно принялась раздеваться, бросая одежду на пол. Мне было любопытно, как устроено ее тело, но под одеждой у нее была пустота, и мать постепенно исчезала в темноте, словно цитата из Сальвадора Дали. Я проснулся в холодном поту.
Солнце действительно коснулось моих глаз и разбудило меня. Я нашел самолетик от мамы – на тумбочке, на фоне будильника. Он летел сквозь циферблат, как бы символизируя течение времени. Мать писала, что ушла на дежурство до вечера, объяснив подробно, что где лежит, какая еда.
На обороте, как бы случайно, оказался черновичок ее стихотворения, как всегда, сентиментального, беспомощного и смешного. Ее резкий угловатый почерк раздражал меня. Увы, она забыла, что для подобных телеграмм раньше служил бумажный кораблик – самолетик же применялся на случай, если кто-то из нас уезжал на несколько дней.
Завтрак, приготовленный ею, был жалок желанием устроить мне подобие праздника, как если бы я был человеком, придающим какое-то значение качеству еды. Я подумал о ее болезни и меня передернуло от отвращения: когда, при каких обстоятельствах теперь ожидать нового приступа?
Я вышел на улицу. До встречи с Полиной оставалось несколько часов, – но то ли меня тяготил воздух дома, то ли мне хотелось ходить: возможно, мое тело жаждало свободы перемещения – так или иначе, я решил дойти до метро пешком и поехать в центр – погулять и посмотреть некогда знакомый мне город, однако, миновав станцию «Сокольники», я понял, что весь день только и буду ходить, ходить… То, как я двигался в пространстве, опять напоминало вчерашний полет Across the Universe, когда потоки скорби, волны восторга неведомым течением неслись сквозь мой открытый мозг, лаская и обладая…
Пейзаж, представший перед моими глазами, был похож на юношеский, нередко повторявшийся сон – о какой-то немыслимой, небольшевистской России: помню, я просыпался, полный ожидания и счастья, особенно, последний год перед моим уничтожением, когда мир вдруг сдвинулся с мертвой точки, поплыл, набирая скорость, раздвигая льдины, и вот теперь, теперешнее пробуждение, оно как бы повторяло изгибы чего-то знакомого – так изнанка напоминает лицо: вот грубые обмоточные швы, вот крепление пуговицы с отгрызенной нитью, вот вышивка наоборот…
Часа за полтора дойдя до почтамта и увидев, что даже это здание отдано под какие-то новые организации, я совершенно убедился, что миру, в котором я некогда жил, пришел конец.
Я двинулся по бульварам. Здесь, посередине, текла длинная, мирная, постоянно заворачивающая река никем не тронутой Москвы.
Но что-то было не так. Что-то настораживало меня, беспокоило, приятно удивляло и в месте с тем – приводило в смятение, почти в ужас. Вдруг случай помог мне понять, в чем тут дело.
Напротив Пушкинского дуба (к счастью, его не спилили, к счастью, его не разрушило молнией) крашеная, не первой молодости девица спросила у меня огня, для выразительности описав в воздухе большой вопросительный знак длинной, какой-то коричневой сигаретой. Я молча протянул ей острый язык пламени. Поблагодарив и выпустив кольцо дыма, она несколько секунд пристально разглядывала мое лицо, затем криво улыбнулась и продолжила свой неторопливый бульварный путь.
Ее отвратительная морда была белой и круглой, словно дневная луна. У нее были большие желтые глаза, маслянистая кожа, словом – ни дать, ни взять – яичница из двух яиц, если еще учесть, что всю ее кожу покрывали кратеры от прыщей: так прошлась по ней мятежная юность…
Почему я так внезапно возненавидел ее, честную проститутку, трупную курочку, как называют их на зоне – тем более, что я ей, несомненно, понравился?
Подумав об этом, я понял, что именно беспокоило, удивляло меня весь этот променад. Откуда такое внимание ко мне, невзрачному мужчине, при виде которого – даже в годы его цветения – прохожие женщины еще издали опускали глаза, мельком определив что-то безынтересное, скучное? Может быть, я успел с утра чем-то запачкать лицо, или же у меня на лбу проступило, подобно стигмату, какое-то неприличное слово?
Я достал карманное зеркальце и, присев на лавочку, принялся внимательно рассматривать свое отражение, как вчера в ванной. Неистребимый образ тюрьмы – морщины по углам глаз, якобы загорелая, землистая кожа, ярко выраженный череп – особенно, в районе скул – глубокие складки от крыльев носа до уголков рта… С самого утра встречные женщины беспардонно заглядывали мне в лицо. Это было непостижимо: почему, каким образом, из посредственности я превратился в красавца? Может быть, это и есть – в понимании глупых, лишенных вкуса особей женского пола – самый натуральный красавец?
И тут я раздулся, как рыбий пузырь – пузырь, внутри которого плавает некий еще – словно страховая оболочка дирижабля – меньший пузырь, рыбий пузырь номер два… Я не узнавал себя. Казалось, я видел совсем другое лицо, ничего общего не имевшее с моим прежним. Надо сегодня же достать свои старые фотографии и сличить. Впрочем, нет ничего удивительного в том, что я так изменился. Да и улица, полная женских глаз, ласкающая меня, обладающая мной, вовсе не беда, не Вселенская катастрофа, а скорее – наоборот.
Так, обойдя бульвары по наибольшей дуге, я вовремя успел на встречу с женщиной, которая возбуждала во мне лишь отвращение и ненависть, потому что я очень хорошо понимал, что существо это лишено души, даже резиновой, а представляет собой ловкий самодвижущийся механизм. Так, наверное, эти ублюдки, которые называют себя новыми русскими, встречаются с деловыми партнером, который, скажем, болен гастритом и воняет за версту.
Поднявшись из подземного перехода, я через левое плечо, как на молодой месяц, привычно глянул на часы. Циферблата больше не существовало: на его месте красовалась реклама какого-то шоколада.
Лина еще не подошла. Опаздывать на свидания было ее неизменной привычкой, вероятно, этим она стремилась доказать свою гипертрофированную женственность.
Я обошел вокруг памятника, с досадой отметив, что встреча с ним не вызвала во мне никакого трепета. Тот же самый голубь, или его правнук, законно восседал на измазанной гуано голове гения. Я вообразил: а что если там, в толще бронзы, как зловещая шутка Опекушина, расположены бронзовые внутренности – почки, печень, желудочно-кишечный тракт? Или же – скорее всего – этот молчаливый сфинкс полый внутри, и там (ну как все-таки не думать о белой обезьяне?) в запаянном пенале ожидает своего часа записка: Эй, вы, германны, моцарты, бонапарты, если б вы только представляли всю глубину и скорбь моего отвращения к вам, здравствуйте. православные, слушайте, товарищи потомки!
Я остановился у левого яйца, перечитал бездарную, завязшую в зубах школьную розгу, exegi monumentum:
И долго буду тем народу я любезен, что чувства добрые я лирой… был полезен… И т.д.
В сущности, Пушкин такой же гений, как и Бродский: спереть все лучшее у современников, которым с талантом повезло меньше, и незаметно, как зажигалку в гостях, засунуть себе в карман. Ну, послушай, Сергеич, разве это ты? Не узнаешь? Несчастный! Тебя не было вечность. Ты просто призрак, муляж, восковая фигура, неизвестно что, впрочем…
Впрочем, этот словесный коллаж не имел никакого отношения к сфинксу Натальи Николавны: среди толпы ожидающих я увидел нечто, похожее на Полину. Напряженно улыбаясь, оно двигалось прямо на меня. Мир дрогнул и поплыл перед моими глазами: мне вдруг показалось, что все вокруг замерли, строго посмотрели в мою сторону и громко щелкнули пальцами.
КУКОЛ ДЕРГАЮТ ЗА НИТКИ
Полина была из тех женщин, которые бурно цветут и рано вянут. Я встретил жирную, обрюзгшую, совсем чужую. Она шла вразвалку, и я не сразу узнал ее, отметив, что ко мне приближается что-то вроде утки. Кря-кря. Ну, иди же скорее сюда.
Мы остановились на расстоянии руки, словно упершись в стеклянную стену. Это не она, вдруг подумал я, просто очередной выверт реальности, образовавший в том же времени и месте другую, похожую женщину. У этой, ложной Полины, были темно-зеленые, почти черные глаза…
– Это ты? – спросила она.
– Не знаю, – сказал я, впадая в панику.
Это был призрак, муляж, восковая фигура, неизвестно что. Я точно помнил глаза Лины: серые, водянистые, порой голубые – в зависимости от цвета небес.
– Я бы выпила кофе.
– Идем в «Лиру».
– В жопу, как я уже сказала по телефону. Нет больше никакой «Лиры». Несчастный! Тебя не было вечность. Я даже с трудом тебя узнаю. Послушай, Сергеич, разве это ты?
– Конечно, нет. Не совсем. Клетки этого тела обновились процентов на семьдесят, если ты что-то помнишь из курса анатомии.
Мы пошли молча. Перейдя улицу Горького под землей, вошли в дверь кулинарии, где теперь расположилась кофейня. В помещении все еще пахло чем-то непоправимо капустным. Мне показалось, что я попал в какую-то западню.
– Что так смотришь – тоже не узнаешь?
– Нет, – признался я.
– Это хорошо. Не думала, что ты помнишь их цвет. Это контактные линзы, и они цветные. А ты, верно, подумал, что я вурдалачка, или тут замешаны пришельцы, или мы здесь все мутировали, пока тебя не было, так?
– Нет. Ничего такого я не подумал. Пойду, возьму кофе.
За прилавком сидела флегматичная уродка с большим чувственным ртом и огромными грудями, которые она уютно расположила среди разнообразного питейного стекла. Она улыбнулась так похотливо и кокетливо, что мне захотелось сотворить ей глокую смазь.
– Ну, выдохнула Лина, когда я поставил перед ней дымящуюся чашку, – рассказывай.
Эта неизменная фраза значила, что от меня требуется подробный отчет о моей жизни от встречи до встречи – полупрозрачный намек, своеобразный такт, от которого меня уже тошнило.
– Часть мебели мать продала, – сказал я, включаясь в игру, – часть переставила.
– Неужели?
– Да, представь. Платяной шкаф, который раньше стоял у южной стены, теперь перекочевал на северную. Книжный отодвинулся в противоположный угол, рядом с ним – кресло.
– А кровать?
– Кровать развернулась на девяносто градусов, боком к окну.
– Что ж, теперь утреннее солнце не будет светить тебе в глаза, и ты сможешь просыпаться, когда захочешь…
Мы помолчали. Я пригубил кофе, культивируя паузу.
– Хороший кофе? – спросила Полина.
– Понятия не имею. Возьми и попробуй сама.
– Послушай, Сергеич, перестань морочить мне голову. К чему, скажем, эта шутка с мебелью? Стоит, как и стояла, в том числе, и кровать, с которой у тебя связано столько приятных воспоминаний…
– Боюсь, что это не вполне моя шутка. Ну а ты, что ты можешь мне рассказать?
– Ганышев совсем не изменился, до самой последней клеточки, – сказала Лина, отпила из своей чашки и скорчила недовольную гримасу. Мне захотелось ее ударить.
– Ганышева, – сказал я, – больше не существует. Его расстреляли за шпионаж, подрывную активность, менаж, метранпаж и другое – все в рифму.
– Ганышев – неисправимый фразер.
– Кря-кря.
– Что?
– Так, привязалось.
И снова пауза. Надежды на то, что она заговорит первой, больше не оставалось.
– Когда и где? – резко спросил я.
– На даче в Переделкино.
– Что? На той самой даче?
– Откуда мне знать? Там несколько сотен дач.
– Что произошло в Переделкино? – терпеливо спросил я.
– Сгорела какая-то дача. Она – вместе с ней.
– Я делаю вывод, что ты, по крайней мере, месяца три не видела нашего общего друга.
– Гораздо больше. Хомяк, видишь ли, стал новым русским, вышел в другие круги общения, ему теперь наплевать на таких как я. Да и мне, соответственно – по ветхозаветной морали – глубоко наплевать – его ли дача там сгорела или чья-нибудь еще.
– Так, – я ободряюще похлопал ее пухлую руку. – Продолжай.
– Ничего более. Я не видела ее целый год до того, а раньше – еще год. Люди, понимаешь, расстаются иногда. Последняя встреча была случайной. Она торговала газетами в метро. Мы поболтали несколько минут, пока не явилась ее подруга, какая-то Ника…
– Кто эта Ника?
– Почем я знаю? По виду – тоже аскалка.
– Есть ее телефон, адрес?
– Ты не на допросе.
– А где?
– Говоря откровенно, ты просто в жопе.
– Жопа – гораздо более целомудренное место, чем голова, – парировал я, сжимая кулаки.
Этот жест не ускользнул от моей внимательной наперсницы. Она беспокойно двинула по сторонам своими линзами. Увы – она помнила мои кулаки.
– Отлично, – сказал я, примиряюще показав ладони, любимым жестом гуру Махариши. – Тело опознали по какому-нибудь недогоревшему лоскутку. В саду под каштанами нашли голенище от шузов. А где зарыли уголь?
– Отвезли к бабушке в Киев, нетрудно догадаться.
– В запаянном цинке, как афганского героя. А через девять дней, в каминной трубе, Babulinka услышала протяжный, тоскливый вой. О доме Ашеров Эдгара пела арфа…
Полина внимательно посмотрела на меня.
– Зря ты развеселился, – сказала она. – Труп действительно опознали. За ту вечность, пока ты был в небытие, криминалистика ушла на октаву вперед. Я не знаю, была ли это дача Хомяка или какая другая, и не знаю также, с какого дьявола она оказалась там. Где найти Нику, я понятия не имею и ничем не могу помочь, даже если бы и захотела… Давай-ка закончим этот разговор, Ганышев, прошу тебя. Если хочешь, можем чего-нибудь взять и поехать ко мне. Надеюсь, за время своего космического путешествия ты не набрался звездной голубизны?
Я посмотрел ей прямо в глаза, минуя линзы, симулируя внутреннюю борьбу. Тоном самым серьезным, каким обычно выдаются отъявленные глупости, я произнес:
– Полина, он не полетит.
Это была остроумная шутка из одного древнего телефильма. На моем бывшем языке – нет, я не согласен.
Лина отшатнулась, словно я плеснул ей в лицо горячим кофе, плюс пропустил через ее тушку электрический ток: мышечная дрожь дошла до меня даже через столешницу.
Я не мог понять, почему мои слова привели ее в такой колоссальный ужас.
– Ты… – Полина не договорила, поспешно встала и вышла, оставив настежь открытую дверь.
Отказ провести с нею ночь не мог возбудить подобную реакцию – я слишком хорошо знал ее характер. Знаменитый самолет из сюрреалистического сновидения Нестора, хоть и напомнивший один из самых черных моментов наших отношений, был давно прощен и забыт – в той неожиданно трогательной переписке, которую я вел с нею, частично предавая Марину.
Невозмутимо допив свое кофе, я вышел на улицу и снова увидел эту женщину. Она втягивала дым сигареты, глядя исподлобья, словно ожидая порки.
– Ты думаешь, – услышал я, – что она торговала книгами теософского содержания? Такая опрятная, смуглая, в белом кокошнике? Она торговала порнухой. Да, да, что ты вылупился? Самой грязной и безобразной порнухой. Ты слышишь? Она умерла задолго до того, как умерла, она…
Я взял ее за плечи, развернул и легонько подтолкнул коленом под задницу.
– Иди с миром, – благодушно сказал я, – и благодари бога, что я не перепутал твою жопу с твоей головой.
* * *
Ночь была мучительной. Меня терзали какие-то навязчивые мелодии, психоделические тексты, в голову лезли всякие бредовые версии, одна состязалась с другой своей нелепостью. Нет, она не могла умереть, бросив меня одного на этой долгой и ветреной дороге, в темноте, во сне… Но я с необыкновенной ясностью представлял, как ее тело – то, что от него осталось – запаянное в металлический ящик, двигалось из Москвы в Киев, и эта реальность была неумолима. И я – не могу лучше это выразить – чувствовал, что Марины больше нет в этом мире, то есть, вообще больше нет нигде, потому что никакого другого мира не существует. Непонятно почему, но я ощущал это. В скором времени я убедился в том, что предчувствие не обмануло меня, что все мои надежды напрасны, но то, что произошло в действительности, оказалось гораздо страшнее, чем я мог себе вообразить.
Так всегда в полусне, когда слабеет сознание, детали бытия раздуваются, и само существование оборачивается кошмаром, и вот уже очищенный, вытянутый, словно эссенция, предстает перед глазами и ужас будущей смерти, и страх оставшейся жизни.
Ночь звучала гулким, мистическим эхом отражений: звуки, рожденные где-то внизу на бульваре – лай брошенной собаки, сцуг автомобильной двери, синусоидальный путь пьяного – шли сквозь меня подобно какой-то эмиссии, и так же, от катода к аноду, двигался сквозь мой позвоночник расстроенный лифт. Чьи-то чудовищные аморфные лица заглядывали в мое лицо, в разрыве туч показалась и спряталась луна, как бы подмигнув, кот медленно приоткрыл дверь, вошел и поскребся лапами о косяк, вдруг кто-то потянул с меня одеяло…
Мать стояла подле кровати, совершенно голая, бледная в свете, тянувшемся из прихожей. Я глянул на часы – четыре утра. Мать погладила свое тело от колен до груди и посмотрела на меня, улыбаясь.
– Хороша? – спросила она чужим, утробным голосом.
Я сел на кровати, стараясь не глядеть в ее сторону. Наивно было полагать, что это кончилось, но все же я не ожидал, что это произойдет так скоро.
– Разве ты больше не хочешь меня, Леонид?
Я встал и, стараясь не смотреть в ее мутные глаза, несколько раз ударил ее по щекам. Потом взял за локти и бережно потянул назад, в ее комнату. По пути она проснулась. Я подал ей халат.
– Какая глупость, – сказала она. – Знаешь, я не лгала. Со мной действительно, ничего такого не случалось за все эти годы.
– Еще бы, – подумал я.
Иногда мне казалось, что она лишь делает вид, что не помнит своих припадков, и меня бросало в дрожь. Однако, врачи утверждали, что сознание возвращается к ней лишь в момент пробуждения, когда она обнаруживает себя где-нибудь посредине комнаты, вполне уверенная, что подвержена самому обыкновенному лунатизму.
Ее припадки повторялись примерно раз в год. Когда это произошло впервые – мне тогда было лет пятнадцать – я чуть было сам не сошел с ума. Чтобы ее не посадили в дурку, мне пришлось заявить, что припадки прекратились. С годами я научился с этим бороться.
Она назвала меня Леонидом, словно действительно существовал какой-то Леонид… Последним был, вроде бы, Иосиф. Понятия не имею, откуда она брала имена.
* * *
На какое-то время мне снова удалось провалиться в сон, и проснулся я часов в одиннадцать, как ни странно, с довольно свежей головой. Меня переполняла и придавала мне силы какая-то безотчетная ненависть, чувство, не имевшее ни конкретной точки приложения, ни даже какого-нибудь вектора своей направленности.
Лежа в постели, я вспомнил об одной, казалось бы, незначительной детали. На фоне моего общего состояния, существуя где-то на заднем плане в скобках, сегодня она стала не на шутку беспокоить меня. Несколько минут я разглядывал мебель в моей комнате. Мать могла иметь любое внутреннее представление об окружающем мире, и это было понятно, но Полина?
Итак, уже два человека утверждали, что мебель осталась на прежнем месте, хотя я, понятно, не мог забыть свою прежнюю обстановку.
Я вспомнил один детектив, который пользовался наибольшей популярностью в моей библиотечке, пока его не заиграл парнишка из охраны. Там две женщины, лесбиянки, договорившись между собой, устроили герою спектакль, чтобы свести его с ума и отделаться от него… Я представил, как моя дорогая матушка, на пару с Полиной, тужась, двигают мебель… Это было немыслимо, не имело никакого мотива, но было вполне возможным, хотя бы по той простой причине, что я уже никому ни в чем не доверяю в жизни, никому и ни во что не верю… Одно я знал наверняка: мебель в моей комнате была передвинута, хотя обе женщины утверждали обратное … Стоп! Какое, в таком случае, имеет к этому отношение злосчастная труба? Я вспомнил свое сомнамбулическое паломничество к кирпичному заводу и понял, что поразило меня тогда. На данном бетонном основании стояло и могло стоять только две металлических трубы, и не было места для третьей, следовательно, никто никогда не сносил этой третьей трубы, следовательно, третьей трубы попросту никогда не было.
Nothing's gonna change my world…
– Мам, – вкрадчиво спросил я за завтраком, – вон там на горизонте, две заводские трубы, видишь? Мне кажется, там раньше была и третья. Ее что – снесли?
Мать посмотрела в окошко, потом – на меня.
– В порядке перестройки, – добавил я.
– Не помню, – сказала мать, равнодушно поведя плечами. – Я не приглядывалась никогда. В этой стране, вообще, нет ни одного приличного вида из окна.
– Так, – подумал я. – Интересно, кто в этом мире сошел с ума: мебель в моей комнате, моя сумасшедшая мать, трубы на горизонте, или же – я сам?
Я опять подумал о галлюцинациях, которые посещали меня последние несколько лет. Когда это началось и как? Может, причина была в моем юношеском увлечении наркотиками? Я не мог вспомнить никакого события, никакого толчка, с которого это началось. Одно оставалось ясным: галлюцинации были моим личным делом, значит, виноваты были не мебель, не труба, не компьютер, так же дающий неверные показания, а я сам. То, чего я всю жизнь боялся, оказывается, уже произошло – незаметно, тайно, исподволь…
Я ушел в свою комнату, бросился на кровать, закурил. Мои руки дрожали. Итак, это произошло со мной. Сдаться врачам? Покончить с собой? Но ведь я и так, оказывается, уже давно живу с этим, почему бы не попробовать дальше? Зачем? Ответ прост: надо найти Марину или ее следы. Надо или убедиться в том, что ее действительно нет, или… В тот день мне опять стало казаться, что она жива, что произошло какое-то недоразумение, что возможно еще какое-то чудо…
Последний способ, который остался у тебя, чтобы доказать мне свое существование, или, имея в виду то, что я иногда действительно думаю, что ты есть, – доказать твою добрую волю, продемонстрировать твой сусальный лик – это оживить ее!
Вдруг меня посетила простейшая мысль. Что, если все эти так называемые припадки матери есть мои личные припадки, то есть, на самом деле – все это мои собственные галлюцинации?
* * *
Прекрасно понимая, что рефлексия имеет какой-то смысл, я все же был уверен, что мне необходимо действовать.
Проще всего было позвонить Хомяку и спросить, не сгорела ли дача, и если да, то… Но я не мог представить, как буду разговаривать с человеком, с которым мы около двадцати лет дружили и в один, как говорится. прекрасный день, стали смертельными врагами, навроде Печорина с Грушницким. С тех пор его для меня не существовало, и надеюсь, что это взаимно…
Тем не менее, я позвонил ему, но мне ответил грубый незнакомый голос, я даже не разобрал толком, мужской или женский. Я повторил и меня опять обложили. Вероятно, изменился номер. Мать говорила, что в городе открылось несколько новых станций и часть телефонов переключили. Я решил поехать в Переделкино, чтобы увидеть своими глазами эту сгоревшую дачу, тогда, может быть, не надо было и вовсе встречаться с Хомяком. В конце концов, Лина права: в поселке несколько тысяч дачных участков, а теория вероятностей… Хотя шестое чувство (Седьмое? Одиннадцатое?) подсказывало мне, что драма разыгралась в одном единственно возможном месте… Я слишком хорошо помнил, как однажды, оглянувшись на это двухэтажное, псевдорусской резьбой украшенное строение, отчаянно его возненавидел и невнятным шепотом произнес: чтоб ты сгорело! Опять меня обуял ужас: кто и зачем исполнил еще одно мое бредовое желание?
В Переделкино все было на месте: нигде не выросло ни одной столетней сосны, Рождественскую церковь слегка подновили, но это было вполне естественно… Все было на месте, кроме дачи Хомяка.
Посередине участка возвышалась бесформенная, чуть припорошенная снегом груда из обгорелых брусьев, досок, немыслимо погнутых водопроводных труб.
Но что-то было не так… Я потоптался на месте, прошел вдоль забора, не сводя глаз с пожарища.
Останки дачи находились метрах в двадцати от того места, где они должны были быть. Безумие…
Я перелез через забор. На сей раз реальность оказалась права, милосердна: обломки действительно были перенесены и свалены пожарными, фундамент же был на прежнем месте. Вероятно, здесь велось следствие по поводу… Слово труп, неизбежное в этой ситуации, вызвало волну отвращения.
Что-то привлекло меня в самом эпицентре развалин. Я приблизился. Это была огромных размеров, тускло блестевшая гитарообразная вещь, и несколько секунд я не мог определить ее происхождение. Присмотревшись, я понял, что передо мной ничто иное, как деформированная высокой температурой медная дека рояля, поставленная на попа и столь похожая на могильный обелиск.
– Я пепел посетил, – вдруг пришло мне на ум начало строки, и я автоматически продолжил:
– Я пепел посетил, ну да, чужой, но родственное что-то в нем маячит… Хоть мы разделены такой межой. Нет, никаких алмазов он не прячет… – но у меня, не было ни времени, ни желания сочинять дальше.
Я пошел в сторону сарая, чей профиль угадывался вдали среди сосен. У колодца остановился, поднял крышку и заглянул внутрь. Далеко внизу, в зыбком квадрате инобытия, из-за какого-то уж совсем немыслимого края, высунулся по плечи и невыразительно посмотрел на меня мой двойник. Он слегка покачивался, значит, по линии сейчас шел тяжелый поезд. Я вдруг представил, что где-то там, в глубине этой дрожащей земной коры, существует и ждет меня отраженный мир, где, подобно отвратительной TV-рекламе, которую я видел недавно, все танцует – бутылочки, рюмочки, мордочки, туда-сюда – живет необугленный дом, хлопают на сквозняке форточки, щелкают дверные запоры, шумит чайник, готовый отдать порцию утреннего счастья, и скрипят половицы под ее ногами… И если сейчас, зажмурившись и прижав руки к груди, перевалиться через сруб, выйти в новую зыбкую реальность, сразу покончив с этим сюжетом?
Нет, это всего лишь гнусная, мучительная, ледяная смерть – с переломанными ребрами, в черной, хотя и кристально чистой воде.
Помню, как ребенком я спускался туда по влажной веревке, чтобы увидеть звезду… Увы – это оказалось чьей-то мрачной шуткой, задуманной для того, чтобы убить в пространстве и времени несколько сотен любознательных детей. Тогда я испытал жуткое одиночество под землей, одиночество и оторванность, грубую реальность смерти, – несмотря на то, что сверху были отчетливо слышны голоса моих друзей, и появлялись в квадрате неба их темные торсы.
Я нагнулся и потрогал бревно, за которым был тайник. Там мы с Хомяком прятали – последовательно, от возраста – рогатки, сигареты, вино… Я попробовал сдвинуть половинку бревна, но она не поддавалась, обледенелая. Если бы кто-то неведомый, услужливый, подошел ко мне и шепнул на ухо: горячо! Почему мне не пришло в голову, что я прикасаюсь ладонью к той самой тайне? Ведь и Марина знала о существовании этой дверцы…
Я двинулся дальше, по щиколотку утопая в неглубоком снегу – холодно, холодно! Внезапно какой-то предмет привлек мое внимание. Я увидел прибитый к развилке сосны кусок ржавого железа, вернее – в форме трапеции Лобачевского – развертку старого ведра.
Это была мишень для упражнений в стрельбе, пробитая в нескольких местах. Кучность оставляла желать лучшего. Несколько секунд я тупо смотрел на это – что-то показалось мне странным, знакомым… Хомяк никогда бы не стал палить в бесформенную железку, этот этап мы прошли с ним еще в детстве. Тогда – кто?
Я добрел до сарая или, как жеманно называли его родители моего друга, флигеля. Ключ был на месте – естественно, под стрехой. Я отпер дверь и вошел. Сарай был все тот же. Все та же дрянь красовалась на стенах: ужасающие африканские маски – трофеи загранкомандировок, гравюры в деревянных рамках, мотки веревки…
Одно меня смутило: зачем, спрашивается, надо было менять картинки – на даче, тем более, в сарае? Я задумчиво, словно в музее, уставился на одну из них. Это была репродукция Милле. Сутулый человек в соломенной панамке сопровождает плуг, на горизонте – роща. Прежде на этом месте, кажется, в той же самой раме было другое изображение: стог сена и спутанный вол – того же автора, с той же мелкой, точно рассыпанная горсть зерна, подписью в углу… Было бы понятным, если кому-то надоел колхозный пейзаж, и он решил заменить его, скажем, на мари… на Айвазовского… Но менять Милле на Милле?
Странная мысль впервые пришла мне в голову. Возможна ли вообще подобная форма безумия: избирательная память на предметы, которые я, якобы, видел в прошлом, какие-то совершенно бессмысленные галлюцинации, вроде этих пресловутых Милле?
Что если мир действительно изменился, и я попал в какую-то другую реальность, в лучших традициях ненаучной фантастики, почему-то при этом оставшись самим собой? Окружающий мир обернулся кошмаром, хоть не являл ни призраков, ни голливудских чудовищ, не истекал реками крови. Это был спокойный, уверенный кошмар деталей. Медленно, вкрадчиво, по одной – они входили в мою жизнь, настаивая на безумии.
Подумав так, я захохотал в голос, запрокинув голову. Я даже хлопнул себя по коленям. Я уже давно так искренно не смеялся. Ну да, непременно – вот сейчас распахнется дверь, и на пороге материализуется пришелец, вампир, мой двойник, Марина, или что-то в этом роде. Я, конечно, не всегда и не полностью отрицаю некую инфернальность бытия – существование каких-то посторонних сил очевидно, доказано многолетним опытом моих собственных наблюдений, – но не до такой же степени!







